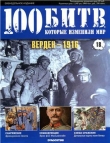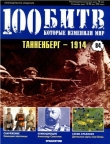Текст книги "Последний год"
Автор книги: Василий Ардаматский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
– Откровенно говоря, самым безотрадным.
– Ну а верховный?
– Он смотрит с глаз своих приближенных, которым, конечно, не пристало рисовать ему какую-нибудь мрачность. Она невыгодна для них. Каждый, особенно нацелившийся на какое-нибудь жизненное благо, старается уверить его, что все идет хорошо и вполне благополучно под его высокой рукой. Разве он понимает что-нибудь из происходящего в стране? Разве он верит хоть одному мрачному слову Михаила Васильевича (Алексеева)? Разве он не боится поэтому его ежедневных докладов, как урод боится зеркала?.. Мы указываем ему на полный развал армии и страны в тылу ежедневными фактами, не делая особых подчеркиваний, доказываем правоту своей позиции, а он в это время думает о том, что слышал за пять минут во дворце, и, вероятно, посылает нас ко всем чертям. Как может он что-нибудь видеть и знать в такой обстановке? Ведь при выборе любого человека на любое ответственное место видно, до какой степени он не понимает ничего происходящего в России.
– Да, тяжело в такой обстановке. Не завидую вам.
– Зато я завидую вам… Какое счастье знать, что ни за что не ответствуешь в настоящее время! Знаете ли вы, что приходится испытывать ежедневно? Ведь ни один шельма министр не дает теперь окончательного мнения ни по одному вопросу, не сославшись на Алексеева – как он-де полагает. Все умывают руки, но делают это незаметно, тонко. Один Штюрмер чего стоит! Ведь набитый болван, но болван со злой волей, со злыми намерениями. Вы посмотрите на армию. За парадами да обедами ее отсюда не видят, а в ней сапога целого нет, окопа порядочного нет, все опустилось, изгадилось. Да и в тылу не лучше. Там такой хаос, такой кавардак, что сил человеческих нет, чтобы привести в порядок.
– А государь заговаривает когда-нибудь на общие темы?
– Никогда. В этом особенность его беседы с начальником штаба и со мной: только очередные дела.
– Какой же выход, Михаил Саввич?
– Выход? По-моему… терпение.
На этом наш разговор закончился: меня позвали к телефону…»
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
После отъезда жены в Швецию Грубин собирался незаметно перебраться в Москву. Там его никто не знает. Он хотел поселиться там где-нибудь на окраине и ждать завершения драмы, когда сможет открыто вернуться в столицу… и явиться к представителям победившей Германии. Он был уверен, что начатое Германией наступление форсирует внутреннюю катастрофу России, которая станет для нее и военным поражением.
Но события разворачивались так стремительно и вместе с тем непоследовательно, хаотично, что выбрать момент для отъезда было невероятно трудно, а покинуть пост раньше времени он не смел. Однако все связи уже оборваны. Оставлены до последнего момента только две: Манус и Бурдуков. С последним все просто – с ним нельзя рвать прежде времени только потому, что он от страха и для своего спасения может попросту предать… С Манусом все гораздо сложнее… Этот сильный человек, поверивший в его ум, стал для него чем-то вроде любимого произведения для творца.
Более того, в Манусе ему виделась сама Россия с ее стихийной, неразумной силой, которую он покорил и заставил работать на себя, на Германию…
Последнее время они стали почти друзьями, впрочем, так мог думать только Манус. Довольно часто он звонил Грубину по телефону: «Я еду к вам». Явится и начнет исповедоваться в своих великих делах. То ли ему больше не с кем было поделиться своими грандиозными успехами и замыслами, то ли он действительно нуждался в грубинских советах. Грубин же по Манусу и его делам мог проверять обстановку в Петрограде.
Знал ли Манус, кто такой Грубин на самом деле? Скорей всего он не задумывался над этим, главное для него было в том, что советы Грубина помогали ему срывать большие куши. Любой способ загрести миллион для Мануса был хорош. Уже давно на бирже знали его любимую поговорку: «Судят только банкротов…» А то, что Грубин глубоко презирает российскую власть, считает ее бездарной и обреченной, так и сам Манус такого же о пей мнения.
На этом они сходились. Даже когда Грубин однажды подсказал ему наивыгоднейшую, устремленную в будущее операцию с расчетом на замороженный в России немецкий капитал, Мануса нисколько не озадачило, что успех этой операции возможен только, если Германия победит.
Известный русский политик монархист Милюков, находясь в эмиграции, свидетельствовал, что «всякие Манусы не задумывались о победе или поражении России, она для них была не страной, не государством, а всего лишь географическим местом их финансовых афер, и они почти открыто говорили, что их совесть чиста, так как ни русский царь, ни император Германии уничтожения или даже тени позора для своих династий не допустят…» Манус эту концепцию завершения войны не мог не принять безоговорочно уже потому, что на нее он слишком много поставил.
Грубин испытывал сейчас к Манусу еще и некое чувство благодарности за то, что банкир, сам того не понимая, сделал и делал для его тайной службы. Бывало, что Грубин даже сочувствовал этому в чем-то наивному, в чем-то невежественному, но, безусловно, смелому, а в делах просто отчаянному человеку.
Грубин представлял себе, как грохнется он однажды и не соберет потом ни костей своих, ни денег. В такие минуты Грубина подмывало сказать Манусу, что ему надо немедленно, захватив истинные ценности, бежать на край света, но он мог дать ему такой совет, только зная, что сегодня же он сам покинет Петроград… И тогда Грубин утешал свою совесть мыслью, что он сможет как-то помочь Манусу потом, позже, в уже поверженной России.
Вечером Манус неожиданно, без обычного предупредительного звонка по телефону, приехал к Грубину.
– Извините, бога ради, – сбрасывая на ходу пальто, говорил он. – Ехал мимо, гляжу, в окнах вроде светится, знаю – Алисы Яновны нет, дай, думаю, заскочу к соломенному вдовцу…
Они прошли в сумрачно, одной свечой овещенную столовую.
– Что, опять без электричества? – весело спросил Манус, потирая руки, точно ему доставляло удовольствие, что не было света. Заметно похудевший, какой-то беспокойно-оживленный, он быстро ходил по комнате, и его громадная тень от свечи металась по стенам. – Лавина! Форменная лавина, Георгий Максимович! Голова кругом идет, другой раз не разбери поймешь, что происходит! Позавчера всплыло одно дело, как из омута выскочило, и прямо мне под ноги – земля в Крыму, триста пятьдесят десятин и вся по берегу! Представляете, почем она будет после войны? За рубль – сто! Решаю поделиться с Протопоповым, он все мечтал о земельке у моря. Звоню, а он сообщает, что ту землю уже захапал великий князь Николай Николаевич. Ну и шустрый же этот князь…
Грубин достал из буфета коньяк, тарелку с сыром и пригласил Мануса к столу, заваленному газетами.
– Без Алисы Яновны вы стали жить как переселенец… – смеялся Манус, садясь за стол. – Видит бог, загадка вы для меня, Георгий Максимович. Ну чего вы перепугались? Чего? – Он смотрел на Грубина оживленно блестевшими глазами.
Грубин молча поднял рюмку.
Они выпили, и вдруг Грубин неожиданно для себя спросил:
– Игнатий Порфирьевич, вы как-нибудь позаботились о своем капитале?
Вторым глотком допив коньяк, Манус уставился на Грубина:
– То есть как это позаботился? Да я сейчас даже не представляю, сколько у меня этого капитала, в делах у меня заложены миллионы и миллионы, и каждый день налипают новые, вы же знаете…
Грубин встал, прошелся по полутемной комнате и остановился у теплой голландской печи, на карнизе которой стояла свеча.
– Вы, Игнатий Порфирьевич, сами употребили очень точное выражение – лавина… – сказал Грубин, стоя спиной к Манусу и снимая нагар со свечи. – Эта лавина может смести все ваши дела.
– Как это можно? – удивленно спросил Манус, но встал, подошел к печи и заглянул сбоку, чтобы видеть лицо Грубина. – Мои дела, Георгий Максимович, заложены не на фу-фу. Все зарегистрировано банками, а то и правительственными актами…
– А если лавина снесет и банки и правительство? – тихо спросил Грубин.
Манус явно не понимал, куда он клонит.
– Но какая-то Россия, черт побери, останется? – изумленно воскликнул он. – И будет какое-то правительство, которое примет дела от нынешних дураков, а значит, примет и ответственность за те сделки, которые я провел. Деньги, батенька, есть деньги, они счет любят при любой власти. – Манус говорил очень убежденно, но его черные блестящие глаза хотели прочитать что-то на бесстрастном бледном лице Грубина.
– Блажен, кто верует, – улыбнулся Грубин одними губами. – Я лично теряю всякую веру.
– Вы что же предлагаете? – простодушно спросил Манус – Перевести миллионы в наличность?
– Я ничего не предлагаю, упаси бог, – со вздохом ответил Грубин. – Вы точно определили положение – ла-ви-на, а я всего-навсего подумал вслух, чем это грозит нашему брату коммерсанту.
– Ну а вы что предпринимаете? – спросил Манус, он все-таки чувствовал, что Грубин что-то недоговаривает.
Сняв очки, Грубин похукал на стекла, протер их кусочком замши, снова водрузил на нос и сказал:
– Для меня, Игнатий Порфирьевич, любая ситуация легче, чем для вас. Мои капиталы не ровня вашим. Даже если я их потеряю – это будет мне не дороже собственной жизни, – Грубин улыбнулся холодным лицом. – Ну что вы так смотрите на меня? У меня от вас тайн нет, вы это знаете.
Они долго молчали, стоя у печки, освещенные изменчивым светом свечи, пламя которой металось от их дыхания.
Манус ушел к столу, налил себе коньяку, сделал несколько глотков.
– Я пришел к вам не за спасительным кругом, видит бог, – сказал он оттуда и, вернувшись к Грубину, продолжал, быстро оживляясь – Дорогой мой друг, ваша прославленная осторожность ослепила вас. Поймите, мое положение сейчас неуязвимо… – Он помолчал и повторил энергично и раздельно – Не-у-яз-ви-мо!
– Могу сказать одно… – повернулся к нему Грубин. – Пока вашим ангелом-хранителем является Протопопов и пока он министр внутренних дел, вам бояться нечего. Весь вопрос – достаточно ли надежный ангел-хранитель у самого Протопопова?
– Ха-ха-ха! – вдруг громко расхохотался Манус– По-моему, самый надежный. Сейчас в России сильнее мамы пет никого и ничего. Что вы на это скажете?
– Да, пожалуй, вы правы, сейчас сильнее царицы нет никого, – серьезно ответил Грубин.
– Сейчас и во веки веков аминь! – веселым голосом возгласил Манус. Грубин с его мрачной осторожностью просто не разобрался, что означает его «лавина», он не понимает и того, кто эту лавину породил. – Именно я, Манус, сделал это и потому ее жертвой стать не могу…
Грубин был доволен собой. Он позволил себе минутную жалость к Манусу, но не сказал ему всего, что мог сказать.
Утром Грубина разбудил телефонный звонок. Вылезать из-под одеяла в застуженной комнате не хотелось – наверно, опять Манус… Звонок не прекращался. Надев теплый халат и шерстяные носки – он очень боялся простуды, – Грубин подошел к телефону.
– Это господин Грубин? – услышал он подобострастный голос– Вас беспокоит агент по продаже мебели. Мне сказали, что вы в связи с отъездом хотите продать свою обстановку.
– Что? Повторите, не понимаю, – взволнованно начал Грубин и, взяв себя в руки, ответил – Я мебелью не торгую… – Он швырнул трубку на рычаг, и ему сразу стало жарко. Сон как рукой сняло. Что это за звонок? Кто мог знать, что он собирается уехать?
Грубин торопливо оделся. Прежде всего нужно немедленно проверить, если ли слежка.
Он вышел из парадной двери на Морскую быстро, внезапно – на той стороне улицы метнулся было и замер, повернув лицо к облупленной стене, господин в длинном черном пальто и меховой ушанке.
Извозчик, как всегда, с девяти утра ждал его за углом, на Гороховой. Грубин шел туда медленно и, только завернув за угол, подбежал к возку, бросился на сиденье:
– На Невский, быстро.
Застоявшийся конь легко подхватил возок и сразу пошел крупной и хрусткой по снегу рысью.
«Надо почаще менять извозчика, – думал Грубин. – Теперь, пожалуй, надо на каждый день заказывать нового и просить ждать в новом месте. Но, может быть, господин в черном пальто вовсе не слежка?..»
Грубин ткнул извозчика в спину:
– Поверни назад, я забыл бумаги.
Когда они заворачивали, навстречу, чуть не столкнувшись с ними, пронесся возок с господином в черном пальто. Рядом с ним сидел еще один, в поддевке.
«Так… У них тоже был приготовлен извозчик, – сказал себе Грубин. – Интересно, куда они теперь денутся…»
На площадке бельэтажа своего дома Грубин через окно смотрел на улицу. Прошло минут десять – на противоположной стороне улицы, из-за угла с Гороховой, появился широкоплечий мужчина в поддевке. Он шел медленно, опустив голову, точно в глубокой задумчивости, потом оглянулся и стал наискось переходить улицу, направляясь к стоявшему у подъезда грубинскому извозчику, поговорил с ним и пошел дальше.
Грубин быстро спустился по лестнице, вышел на улицу и сел в возок.
– Как было велено? – спросил извозчик.
– Да. На Невский. Тебя господин хотел сманить?
– Да нет, ваше благородие, только спросил, свободен ли, и все тут…
Респектабельный, в дорогой шубе с бобром и бобровой шапке с бархатным верхом Грубин сидел, важно выпрямившись, не глядя по сторонам, и лихорадочно думал, что делать. Он осмотрелся, только когда слезал с возка у Коммерческого банка. Те двое на своем извозчике остановились двумя домами раньше и стояли там на тротуаре, разговаривали.
Итак, бесспорно, слежка. Но кто ее послал? И что делать? Грубин думал об этом все два часа, что находился в банке, сидя в справочном кабинете и перелистывая старые котировочные таблицы.
Его особенно тревожили грубость и непрофессиональность слежки – почему агенты действовали так вызывающе открыто, кустарно? Но, может, у охранки уже не хватает хороших работников? А может, это вовсе не охранка? Но нет, военная контрразведка тоже так топорно действовать не могла. Тогда кто послал за ним этих кустарей?
Грубин позвонил Манусу домой, его не было. Он стал звонить по всем известным ему телефонам банкира и наконец нашел его в правлении Международного банка.
– Мне крайне необходимо вас повидать, – сказал Грубин и, опережая возможные возражения, добавил – Я сейчас к вам заеду, – и положил трубку.
Он назвал извозчику адрес и внимательно осмотрел улицу. Человек в поддевке побежал к своему извозчику. Грубин приказал своему ехать медленно и вскоре увидел агентов, ехавших за ним позади.
Возле правления банка, когда извозчик остановился, Грубин не торопился слезать, ждал, когда те подъедут ближе: здесь свернуть им было некуда, и они остановились в каких-нибудь пятидесяти шагах и тоже не вылезали из возка.
Грубин вошел через огромную дубовую дверь, открытую перед ним величественным швейцаром с черной бородой и усами, в вестибюле сдал шубу гардеробщику и не спеша пошел наверх в кабинет Мануса.
Манус, навалившись мощной грудью на стол, молчал и, прищурив выпуклые глаза, выжидательно смотрел на Груби па.
– За мной ведется слежка, – не здороваясь, сказал Грубин.
– А чертей вы еще не видите? – спросил Манус.
– Я говорю совершенно серьезно. За мной ведется слежка. Два агента таскаются за мной третий час. Сейчас они ждут меня недалеко от вашего подъезда.
Манус перестал улыбаться.
– Этого не может быть, – наконец произнес он уверенно.
– Это есть, – сказал Грубин и прошел к окну – Вон они, посмотрите.
Манус тоже подошел к окну, посмотрел, потом вернулся к столу, взял трубку одного из телефонов и назвал номер.
– Говорит Манус. У меня есть друг и коллега Георгий Максимович Грубин. Какой дурак мог установить за ним слежку? Прошу вас, прикажите прекратить это безобразие. Да, да, Георгий Максимович Грубин. Хорошо. Особых новостей нет. Да, вечером я там буду. До вечера.
Манус положил трубку и сказал:
– Если какой-нибудь дурак и придумал следить за вами, это будет прекращено.
– Вы с кем говорили? – спросил Грубин.
– Ну с кем я могу о таких вещах говорить? Только с министром внутренних дел, – не без хвастовства, небрежно ответил Манус.
– Что он сказал?
– Проверит, и все будет прекращено. Позвоните мне, если завтра это безобразие будет продолжаться. У вас ко мне только эта чепуха?
– То, что для вас чепуха, для меня серьезная тревога. Если какому-то, как вы сказали, дураку сегодня понадобилось за мной следить, завтра он может отправить меня в Кресты.
– Да не волнуйтесь вы, звоните мне завтра, – сказал Манус и сразу продолжал – А у меня к вам дело серьезное: как вы думаете, не будет лучше выкинуть Барка из министерства финансов? Что-то он мне палки в колеса сует…
Грубин сейчас совсем не был настроен заниматься чужими делами, решил отделаться общими фразами:
– Никакой министр финансов вашим клерком стать не может…
– Это я понимаю, да-да, – живо сказал Манус– Но против Барка настроены и мама, и Григорий, и Протопопов, и Штюрмер. Я чего боюсь: как бы они не посадили на это место какого-нибудь дурака. Барк-то голова, с ним одно удовольствие поговорить. Дурак в нашем деле опасней…
– А вы подберите министра сами, – сказал Грубин и подумал: «Давно надо было убрать проанглийского Барка, руки не доходили…»
– В том-то и дело, что подыскать очень трудно, – вздохнул Манус, ероша густые с проседью волосы. – Главный тасовщик министерства мама, а она, если что вобьет себе в голову, не сдвинешь. И подсказчиков у нее целый дворец.
– Разве она уже не верит ни Протопопову, ни Штюрмеру?
– Вера истерички – дым, кто-то дунет, и нет веры…
В эту минуту Грубин принял решение сегодня же покинуть Петроград.
Поезд в Москву уходил в 10 часов вечера. Грубин черным ходом покинет квартиру в восемь тридцать. Сядет на трамвай, но не на прямой, идущий к вокзалу, а на тот, который подвезет его к вокзалу кружным путем. Слезет с трамвая где-нибудь в районе Лиговки. Там можно погулять по Пушкинской, здесь около бани и по всей улице до памятника Пушкину ходят дамы с саквояжами. Затем он быстро пройдет на вокзал, купит билет и сядет в поезд.
Закусив всухомятку и приготовив все к отъезду, Грубин разделся и лег в постель. Спал крепко, без снов. Будильник поднял его в семь часов. Не зажигая света, он долго смотрел из окон на улицу. Но ни один из уличных фонарей не горел, и ничего разглядеть было нельзя.
Ровно в восемь тридцать он вышел из дома и, как планировал, в девять с минутами сошел с трамвая на Лиговке – темной, безлюдной, заваленной снегом. Между черных домов улица виделась ему как лесная просека. Заваривалась метель, свистящий ветер хлестал в лицо. Он медленно шел по Лиговке, слушая подвывание ветра, скрип снега под ногами, и говорил себе: «Все кончится хорошо». Он сделал свое дело и со спокойной совестью предстанет перед высокими, как боги, начальниками, которые послали его сюда, в Россию. Он заслужил право на дальнейшую спокойную жизнь, и у него есть для этого средства. Все будет хорошо… Алиса, любимая, немного терпения. Скоро… И мы будем жить ради наших детей, которых ты так хотела…
Он не успел понять, что произошло. Его словно пронзила молния боли…
Над Грубиным, лежавшим в сугробе возле тротуара, склонились двое.
– Готов…
– Быстро раздевай…
Переваливая мертвого Грубина с боку на бок, они стянули с него шубу, пиджак, брюки, оставили только нижнее белье. И исчезли в белой мути метели.
…Через день в газете «Союза русского народа» «Русское знамя» в разделе хроники появилось краткое сообщение о том, что на Лиговке обнаружен труп убитого и ограбленного мужчины лет пятидесяти, личность которого пока не установлена.
Еще через день у подъезда банков и редакций газет были разбросаны листовки в виде письма группы русских патриотов.
«Неизвестный убитый и ограбленный, личность которого, как пишут газеты, не установлена, есть не кто иной, как Грубин Георгий Максимович – человек достаточно хорошо известный в деловых кругах русской столицы… Есть у пас враги – люди, которые носят русскую фамилию (впрочем, это далеко не всегда), для которых наше лихолетье – источник баснословной наживы. Господин Грубин из этого круга. Его барыши на наших несчастьях огромны… Смертный приговор над ним свершен, когда он направлялся на Московский вокзал, чтобы покинуть Петроград, а затем и Россию. Еще раньше он свои барыши перевел в шведские банки и отправил туда свою супругу. Так крысы решили бежать с корабля, который, по их мнению, тонет. Но крысы ошибаются. Несмотря ни на что, Россия – устойчивый корабль, и он идет к неминуемой победе. На его мостике – великий наш капитан – самодержец российский…» «…Истинно русские патриоты все видят и знают, что им надлежит делать во спасение отчизны. Смертный приговор Грубину – одно из таких дел, которому мы решили придать гласность, чтобы пример крысы Грубина не увлек за собой и других крыс. Мы предупреждаем – смерть ждет всякого, кто бы он ни был!..»
Когда утром Манус входил в банк, швейцар с низким поклоном дал ему эту листовку…
Манус прекрасно знал, кто такие эти русские патриоты. Он сам получал от них грозные предупредительные письма, в которых они называли его не иначе как германским шпионом.
Когда ему это надоело, он попросил у Протопопова найти тех, кто ему угрожает. Их нашли в два счета. Топор лежал под лавкой этого же министерства. И все прекратилось.
Единственно, что сейчас поразило Мануса в листовке, – это осведомленность ее авторов о последней позиции Грубина. Он же и ему советовал позаботиться о спасении капитала. И листовка подтверждала правильность его, Мануса, отношения к этом совету Грубина. Ну а во всем остальном, как говорится, божья воля. И царство ему небесное, Георгию Максимовичу. Осторожно он жил и действовал, а под конец перестарался…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Председатель военно-промышленного комитета Александр Иванович Гучков утром в своем кабинете поджидал промышленника Путилова, который должен повезти его на свой завод показать новый цех, начавший работать на войну. Теперь такое не каждый день…
Еще совсем недавно Гучков гордился деятельностью своего общественного комитета – русская промышленность начала давать фронту вооружение, недостаток которого стоил России большой крови. Он доказал бездельникам с государственными постами, что при уменье и раденье дело движется.
Однако торжество длилось недолго. Гучков был разносторонне образованным человеком, опытным организатором промышленности, он постигал эту науку и дома, в России, и в Австрии, и в Германии, где учился и даже работал на немецком предприятии. Он довольно скоро понял, что первый успех достигнут главным образом за счет устранения препятствий, созданных безрукой государственной администрацией. А дальнейшее развитие успеха упиралось в преграды, которые преодолеть было невозможно. Война дезорганизовала всю экономику. Рабочую силу отнял фронт, он же подмял под себя транспорт. На замену устаревшего оборудования не было ни времени, ни средств. И наконец, производительность труда. Здесь царила какая-то стихийная неразбериха. На двух одинаковых заводах результативность труда была поразительно неодинакова. Гучков с присущей ему энергией принялся за изучение этой проблемы и столкнулся с явлением, которое долго не мог и даже не хотел понять…
У Гучкова было несколько русских промышленников, на которых он опирался во всех своих начинаниях. Среди них Алексей Иванович Путилов, петроградский завод которого стал чем-то вроде полигона, где проверялись идеи комитета. Кроме того, Гучков считал его одним из наиболее современно думающих предпринимателей. Во всем, что касалось устранения помех, порожденных сверху, Путилов активно поддерживал Гучкова, и именно его завод одним из первых начал с заметным нарастанием давать продукцию для фронта. Однако именно Путилов же первым поднял тревогу о невозможности в нынешних условиях решить проблемы повышения производительности труда, обновления оборудования и организационного получения сырья в достаточном количестве. В отношении сырья и оборудования Гучков был с ним согласен, но предлагал не опускать руки и атаковать соответствующие правительственные ведомства. В отношении же продуктивности труда у них возникло разногласие. Гучков считал, что здесь все решает умелая распорядительность заводской администрации. Немецкий фабрикант учил его: надо быть во всем умнее своего рабочего, и тогда никаких осложнений на фабрике не возникнет. А Путилов считал, что все дело в климате среди фабричного люда, который формируется обстоятельствами, порождаемыми за пределами промышленности. Он утверждал даже, что работа целого цеха может зависеть от одного плохого рабочего, склонного к смутьянству. Именно поэтому он так ратовал все время за введение в промышленности поенного положения, то есть военной дисциплины. Однако его собственный петроградский завод и без этого работал пока вполне сносно. Но сейчас и у него дела шли все хуже и хуже, и он не уставал твердить, что причиной всему деятельность политических сил.
Теперь и Гучков понимал, что смута – серьезная опасность, но он еще верил в силу управления твердой рукой и в возможность воздействия на фабричных разумным словом…
Путилов вошел в его кабинет явно чем-то встревоженный, но ничего объяснять не стал, и они отправились на его завод.
Утренние петроградские улицы были затоплены туманом. Сыпался, слепя автомобильные стекла, не то снег, не то дождь.
– Все-таки русский человек может все, когда захочет, – начал Гучков, но Путилов движением головы показал на шофера, и Гучков замолчал. «Вот времечко настало, – усмехнулся про себя Гучков, – при лакее говорить нельзя…» Так молча они ехали до самого завода.
Тут что-то происходило. Посередине улицы стояла толпа, по виду рабочих, а у самых заводских ворот с обеих сторон, как памятники, возвышались конные жандармы. Путилов, однако, смотрел на все это совершенно спокойно. Встречавший его управляющий заводом высокий сухощавый эстонец Брейтигам сел в автомобиль, и они подъехали к закрытым заводским воротам.
– Ну что, Владимир Федорович? – спросил Путилов, пока открывали ворота.
– Все то же, – ответил с заметным акцентом управляющий.
– Объясните шоферу, как проехать к новому цеху… Машина остановилась возле мрачной кирпичной постройки высотой с трехэтажный дом, со сплошной вверху полосой не застекленных окон. Стены зимней кладки в белых потеках инея, вход еще не сделан, вместо дверей большой лист фанеры. Вдоль стен лежали груды строительного мусора.
Они вошли в цех. Гучкова прежде всего поразила тишина. Когда глаза привыкли к сумраку, он увидел, что станки бездействуют, а рабочие кучками стоят в проходах, разговаривают, смолят самокрутки. Они не обращали на вошедших ни малейшего внимания. Или, может быть, делали вид, что не обращают внимания. Только с десяток рабочих, оказавшихся совсем близко, смотрели на них с каким-то равнодушным любопытством. Воняло махоркой и горелым машинным маслом, было промозгло холодно. Гучков повернулся к Путилову: тот стоял с окаменевшим лицом, только желвак шевелился под виском.
– Что тут происходит? – тихо спросил Гучков.
– Что происходит? – громко переспросил Путилов, и его голос отдался гулким эхом. – Господа рабочие! Председатель военно-промышленного комитета господин Гучков интересуется, что здесь происходит? Ответьте ему.
– Бастуем, и все дело, – коротко ответил кто-то из рабочих, стоявших поближе.
– По какому поводу? – спросил Путилов.
– Требуем освободить нашего арестованного в субботу товарища и оборудовать в цехе отопление, – сказал стоявший в этой же группе высокий белолицый парень в куртке, перешитой из шинели.
– Вот так, значит… – Путилов обращался к Гучкову, но продолжал говорить громко для всех – Их товарищи на фронте мерзнут в окопах, но воюют с врагом, а им нужны печки у каждого станка…
Рабочие со всего цеха постепенно подходили к площадке, где стояли Гучков и Путилов, и теперь перед ними стояла густая черная толпа. Гучков видел множество белевших в сумраке лиц и над ними летучий пар от дыхания. И видел устремленные на него глаза. Много их, этих глаз.
– За то, что наши товарищи мерзнут в окопах, отвечаете вы, оставившие их без сапог и зимней одежды! – послышался резкий голос из толпы и вслед за ним неровный гул человеческих голосов. Толпа качнулась и приблизилась немного.
– Неправда! – неожиданно для себя крикнул Гучков. – В результате усилий военно-промышленного комитета снабжение фронта улучшено и проблема сапог снята!
– Ну да, ну да, – ответил тот же резкий голос– Снята! Живые снимают сапоги с убитых!
Прерывистый гул колыхнулся по цеху – неужели это они смеялись? Гучков повернулся к Путилову и невольно сделал шаг назад.
– А вы, значит, решили оставить наших солдат без снарядов? – крикнул Путилов своим гортанным напряженным голосом.
Из толпы вышел рабочий небольшого роста в безрукавном кожухе.
– Вот что, господа хорошие, – начал он при наступившем тишине, начал тихо, а потом заговорил все громче, и стало понятно, что резкий голос из толпы принадлежал ему – Если вы заявляете, что от одного нашего цеха зависит снабжение фронта снарядами, значит, плохи дела у нашего отечества.
– Войну кончать надо! – горластым, надсадным голосом крикнул кто-то в толпе. – Хватит крови и позора!
Рев толпы наполнил цех и, казалось, все усиливался. У Гучкова возникло жуткое ощущение – ему казалось, сейчас произойдет что-то страшное. Он перестал улавливать смысл того, что видел и слышал, и невольно жался к Путилову. А тот все с тем же окаменевшим лицом, дождавшись, когда рев затих, сказал спокойно и примирительно:
– Отопление будет через 10 дней… – И обратился к управляющему – Успеете, Владимир Федорович?
– Постараемся сделать за неделю…
– Освободите Кузьмина! – резко и громко сказал рабочий в кожухе, стоя впереди толпы.
– Его арестовали не мы, – ответил Путилов. – Если он ни в чем не виноват, его выпустят.
– Почему же не виноват? – грубо сказал рабочий в кожухе. – По-вашему, он сильно виноват – он всюду говорил правду, но разговор не о том. Или Кузьмин возвращается в цех, или мы бастуем! А завтра станут и другие цеха!
Наступила тишина. Напряженные ее секунды Гучков чувствовал всем своим существом, его стало знобить, ему казалось, что тысячи глаз устремлены на него, только на него. И вдруг снова неожиданно для себя крикнул:
– Господа! Но это же измена! Вы способствуете врагу!
В толпе нарастал, становился громче и громче гул мужских голосов, послышались крики, крепкая ругань, но рабочий в кожухе, все время стоявший впереди толпы, поднял руку, и снова стало тихо.
– Еще надо разобраться, кто наш главный враг, – сказал он, без страха глядя на Гучкова. – Такой же, как я, немецкий рабочий, на которого напялили шинель, или кто другой… поближе… – Он перевел взгляд на Путилова.
Гул явного и дружного одобрения прокатился по цеху, отдавшись эхом в сумрачной его глубине.