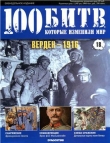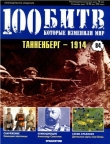Текст книги "Последний год"
Автор книги: Василий Ардаматский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Затем, казалось, без всякой связи, Милюков перешел к фактам подозрительной осведомленности немцев не только о происходящем в России, но и о замыслах русского командования. Милюков недавно вернулся из поездки за границу, и у него были свежие данные. Пронемецкие русские салоны в Швейцарии, тесно связанные с высшими петроградскими кругами того же толка, включали сюда и царский двор. В доказательство он пересказал статью из немецкой газеты «Нейе фрейе пресс» о том, что сама царица связана с этими пронемецкими кругами за рубежом. Можно ли после этого недоумевать и удивляться, что противник осведомлен о наших крайне важных тайнах?
Зал загудел от возмущения, но было непонятно, чем он возмущен: тем, что оратор назвал имя царицы, или сутью его обвинений. Тогда Милюков, как бы отводя молнию гнева в сторону, резко повысив голос, заговорил о Штюрмере. Приведя факты, доказывающие его зависимость от темных сил, включая Распутина, Милюков обвинил премьера в измене.
Теперь гневный гул зала был понятен – Штюрмера ненавидели все. Сам Штюрмер, сидевший на местах правительства, только качал головой. В зале раздались крики: «Позор!», «Под суд изменников!»
– Какой и чьей победы мы можем ждать в таких обстоятельствах? – кричал и не мог перекрыть шум Милюков.
Председательствующий торопливо объявил перерыв. Забыв о вывихнутой ноге, Штюрмер стремительно вышел из зала. Он обернулся и сделал знак министрам следовать за ним, но многие явно не торопились показать с ним свою солидарность.
В тот же день Штюрмер созвал заседание совета министров, на котором внес два предложения, точнее, требования: распустить Думу на длительный срок и вынести решение о привлечении Милюкова к судебному преследованию за его речь.
Но совет министров первое требование Штюрмера решительно отклонил, а судиться с Милюковым порекомендовал ему в личном порядке.
Вконец озадаченный и перепуганный, Штюрмер вечером был у Распутина, стал ему рассказывать о речи Милюкова, но старец оборвал его:
– Да, знаю я все… знаю… Слабый ты оказался… слабый…
Английский посол сэр Джордж Бьюкенен и французский посол месье Палеолог обсуждали в кабинете у Штюрмера текст сообщения для печати о согласии Англии передать России Константинополь и Дарданеллы. Штюрмер в расшитом золотыми галунами мундире был развязно весел, поминутно неуклюже шутил и сам громогласно хохотал над своими утками, поглаживая свою ассирийскую бороду и расправляя кинжальные усы. Бьюкенен с непроницаемо замкнутым лицом наблюдал за ним: «Неужели он забыл вчерашнюю Думу, где Милюков назвал его изменником? Или он никого и ничего не боится и ему наплевать на все?»
Дочитав текст сообщения, Штюрмер передал его стоявшему рядом с нахмуренным, тяжелым, совсем нефранцузским лицом Палеологу.
– Все распрекрасно? – самодовольно спросил Штюрмер и вдруг рассмеялся – Господин Палеолог, с чего это вы столь печальны? Завидуете английскому коллеге, ха-ха-ха! А счастье было так близко: Дарданеллы – России и вам овация такая же, как вашему коллеге. Но Франция почему-то промедлила…
Бьюкенен не сводил пристальных глаз со Штюрмера – неужели он не понимает, что овацию в Думе вызвал вовсе не Константинополь – она была демонстрацией против немецких политиков, пытающихся оклеветать Англию? Понимает он или нет? Поразительно!.. Однако уточнить это Бьюкенен сдержался, промолчал. Палеолог ничего не ответил Штюрмеру, даже не улыбнулся его смеху и откровенно смотрел на Бьюкенена, ожидая, когда он начнет прощаться…
Они уже направились к двери после ритуала прощания, когда Штюрмер попросил Бьюкенена остаться на минутку.
Извинившись перед Палеологом, Бьюкенен вернулся к столу премьера, но в кресло не сел.
– Я подаю в суд на Милюкова за его хулиганскую речь, – злобно сказал Штюрмер и тоже встал.
Бьюкенен молча ждал, неприступно строгий и элегантный.
– Но мне необходима ваша консультация… – Штюрмер взял со стола лист бумаги и продолжал – Вот два места из его речи, где он упоминает вас, помните? Вы разрешили ему ссылаться на вас?
– Я не являюсь его консультантом, – холодно ответил Бьюкенен. – Однако по существу сказанного Милюковым в отношении антианглийской кампании у меня с ним разночтения нет.
Штюрмер в изумлении вылупил свои бессмысленные светлые глаза:
– Но, бог мой, кто же, по-вашему, лидер антибританской кампании?
– Вот это я и пытаюсь установить, – ответил Бьюкенен.
– Если установите, умоляю вас, поставьте меня в известность, – попросил Штюрмер, прижимая короткие руки к золоченой груди.
Под белыми, аккуратно подбритыми усами Бьюкенена возникла и погасла усмешка:
– Ваше превосходительство, у вас же есть сильный министр внутренних дел, есть полиция, специальные службы, и с их помощью вы все можете узнать гораздо скорее… – И, поклонившись, добавил – Вам стоит только этого захотеть.
Штюрмер стоял и долго смотрел на закрывшуюся за Бьюке-неном дверь. Его мелкий ум интригана не мог охватить всей сложности создавшейся вокруг него ситуации, но, как чуткая собака, он чувствовал опасность и решил не откладывая ехать в Царское Село – матушка царица Александра Федоровна, как всегда, направит его мысли куда следует…
Немедля он позвонил в Царское Село, но адъютант царицы ответил, что царица больна и принять не может…
У России в это время было две императрицы. Жена Николая Александра Федоровна и его мать Мария Федоровна – вдова покойного царя Александра. Старая императрица была женщина неглупая, властная, к царствованию сына она относилась весьма критически, а его брак с Александрой Федоровной считала несчастьем своего царского рода. Она пыталась влиять на сына и вырвать его из-под власти супруги, но сделать ей это было очень трудно.
Существование в России двух императриц и связанные с этим ситуации пытались использовать английская и немецкая разведки. Так, Бьюкенен в своих дневниках прямо признает, что он имел регулярную информацию о настроениях в окружении Марии Федоровны, знал о предпринимавшихся ею шагах и имел возможность давать ей советы.
Немецкая разведка прекрасно понимала, какую опасность для германских интересов представляет влияние на Николая его матери с ее яростной антигерманской позицией. Мария Федоровна прекрасно знала немецкую императорскую семью, знала, что представляет собой кайзер Вильгельм, которого она называла не иначе как «однорукое ничтожество»: немецкий император с детства имел одну неразвитую руку, и у него была разработана целая система декоративных способов скрытия этого физического недостатка. Именно из окружения Марии Федоровны попадали в печать материалы с опасно достоверными фактами, свидетельствующими о недалеком уме и лживости Вильгельма, об ироническом и даже презрительном отношении к нему признанных умов Германии.
Николай побаивался матери, но она была далеко, жила в это время в Киеве, а Александра Федоровна с ее советниками была рядом. Во время редких в последнее время свиданий с сыном Мария Федоровна старалась воздействовать на него, взывала к его монаршему самолюбию, раскрывала ему губительность многих его действий под влиянием жены. Он не раз поддавался нажиму матери и обещал что-то исправить, но, возвращаясь затем к супруге, тут же отказывался от своих обещаний. И он все больше верил жене, внушавшей ему мысль, что его мать просто ненавидит ее, ревнует его к ней и хочет ей насолить и разрушить их счастливый брак.
Но в случае со Штюрмером все-таки победила Мария Федоровна. Когда Штюрмер отправился в Царское Село, чтобы рассказать царице о скандальном заседании Думы, где его назвали изменником, и получить от нее спасительные советы, именно в этот день Николай вернулся из Киева от матери.
Подробных и точных данных об этой их встрече нет, но, судя по всему, разговор у них был очень серьезный, он поверг Николая в большую тревогу и растерянность. Но так или иначе, Штюрмер с поста премьера был устранен, и все попытки Александры Федоровны предотвратить это ни к чему не привели. Разве только форма устранения была сделана внешне почетной для Штюрмера.
Внезапная катастрофа Штюрмера принесла большое огорчение германской разведке. «Штюрмер уже одной своей фамилией создал для нас благоприятную атмосферу», – писал в своих воспоминаниях руководитель немецкой военной разведки полковник Николаи.
Английская разведка это событие занесла в свой актив…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Алексей Иванович Путилов имел деловую квартиру на Большой Конюшенной улице, недалеко от дома, где помещалось правление путиловских заводов. Почти всегда окна этой квартиры были задернуты шторами. Хозяин приезжал сюда только по делу и ненадолго, поэтому в квартире не было никаких слуг. Обставлены только две комнаты – кабинет и гостиная. Вдоль стен кабинета стояли шкафы с томами различных энциклопедий и справочников. На особом столе лежали сброшюрованные комплекты столичных газет. У стены небольшой письменный стол, над которым висел портрет отца Путилова – старика с таким же, как у сына, аскетическим лицом, чем-то напоминающим лик Христа. Перед столом в беспорядке стояли глубокие кожаные кресла. Громадные окна из целого стекла закрывали тяжелые гардины.
Здесь в сумрачный ноябрьский день собрались могущественные люди русского капитала – Вышнеградский, Коновалов и Коншин. Именно они первыми приглашены к Путилову не случайно. Александр Иванович Вышнеградский – директор-распорядитель Петроградского международного коммерческого банка, у него в руках заграничные связи русского капитала. Алексей Владимирович Коншин – владелец суконных фабрик, глава торгово-промышленного банка. Здесь были сосредоточены основные капиталовложения в промышленность и торговлю. Александр Иванович Коновалов – мануфактурный король России. Все они владели громадными личными капиталами и были из тех, кто находился на вершине сложного разветвленного клана русских капиталистов. И они еще молоды, полны сил. Только одному из них – Коншину – под шестьдесят, остальные еще не достигли своего пятидесятилетия, а Путилову через несколько дней будет пятьдесят лет.
Отрезанный толстыми гардинами от хмурого дня, кабинет залит ярким светом огромной многоярусной люстры. Глубокие кожаные кресла, казалось, стояли беспорядочно, и каждый сидящий чувствовал себя как бы сам по себе. Сам Путилов сидел в таком положении, что видел всех. Прямо перед ним, положив ногу на ногу, сидел Вышнеградский – моложавый, приторно красивый, по моде одетый – черные полосатые брюки, серый сюртук с черной оторочкой на лацканах, остроносые лаковые туфли с гамашами, тонкие усики, маленькая холеная бородка, рыжеватые волосы на английский пробор. Сколько времени бесполезно тратит он на светскую жизнь, на всякие выставки, вернисажи, премьеры! А делец меж тем первоклассный. И свои деньги растит, и банк ведет хорошо. Путилов знает, как он из-под носа у двух банков перехватил зарубежный кредит на строительство морского флота. Блеск! С ним ухо держи востро, но в деле, ради которого они собрались, он может быть очень полезен – через его банк жилы русского капитала тянутся за границу и обратно…
Чуть позади него, правей, сидит Коншин – выглядывает из глубокого кресла, как медведь из берлоги, – крупный, какой-то косматый, а глазки маленькие, злые. Он один здесь из прошлого века, как и все его суконные фабрики, о которых что ни год поднимается шум, что там невозможно тяжелые условия труда. Он и торгово-промышленный банк ведет по старинке, и это по душе купцам и промышленникам средней руки, им это кажется более надежным. Но свой капитал растит лихо. Сколько ему дает одно шинельное сукно, заказ на которое он получил вовремя… Он копейку даром не отдаст, и если поймет, что революция может отнять у него все, то должен как раненый медведь ринуться в бой…
Коновалов, что сидел левее, наиболее симпатичен Путилову. Веет неизбывной силой от этого неуклюжего белобрысого русака с крупными голубыми глазами. Все у него крупное, вон кулаки положил на подлокотники кресла, как пудовые гири… Сам ведет свою мануфактурную империю, и как ведет! Не полагается, как Коншин, на одну конъюнктуру, остро чует время, заранее угадывает спрос, маневрирует, а если уж навалится на конкурента, у того только кости трещат. Сыну дал образование и теперь действует вместе с ним, но сам работает как вол, не зная усталости. Да ведь и здоров как бык. Революция для него – смерть, и он должен пойти на все, чтобы ее избежать…
Если эти трое сегодня скажут «да», это будет значить очень много – за ними пойдут другие… Ну что ж, можно начинать разговор.
– Можно подумать, что я пригласил вас, подобрав по именам – два Александра и два Алексея… – Путилов улыбнулся, чтобы скрыть волнение, пригладил свою жидкую бородку и сказал серьезно – Но сейчас всем деловым людям пристало, забыв обо всех распрях, срочно объединиться… Разве я позволил бы себе еще три года назад позвать вместе Алексея Владимировича Коншина и Александра Ивановича Коновалова? Вряд ли их интересы когда-нибудь совпадали. А теперь я знаю, надеюсь, по крайней мере, что сегодня, здесь мы все единомышленники. Нас созвало сознание великой и страшной беды, нависшей над Россией. Давайте начнем с того, что мы выскажемся по поводу сегодняшней обстановки. Начну я… – Путилов помолчал немного. – Мы с Коншиным недавно удостоились чести и были званы на совещание к самому Протопопову. Какое впечатление у вас, Алексей Владимирович? – сказал он.
– Маразм, – низким отрывистым голосом ответил Коншин.
– Именно, – кивнул Путилов. – Этот министр от психопатии, видите ли, собрался решить продовольственную проблему. Я бы вообще к нему не пошел, если бы не знал, что продовольственный вопрос сейчас – это не задача накормить людей, а еще одно средство удержать их от бунта. Но там мы увидели суету бездельников и слепцов. Обстановка в отечестве смертельно опасная. Я лично могу сказать вам, что сегодня я уже не хозяин своего здешнего завода. В цехах орудуют банды фабричных. Власти бездействуют, более того, власти против этого уже бессильны – это главное. Мы это должны понять и зафиксировать… Пока я закончил.
Коншин заворочался в кожаной берлоге кресла.
– На моей фабрике в Серпухове такие же банды, и полиция спит, – сказал он хриплым басом.
– Вы, Александр Иванович? – обратился Путилов к Коновалову.
– Да как-то по-разному у меня… – неожиданным для своей могучей фигуры тенорком ответил он и вдруг добавил – А резать это надо на корню!
Вышнеградский снял ногу с колена, сказал чистым, ясным голосом:
– Надо кончать войну, и все встанет на свои места…
– На войну все валит и Протопопов. А мы, Александр Иванович, делать так не можем, война для нас стала благоприятнейшей конъюнктурой, длящейся по сей день, – возразил Путилов, оглядывая всех вопросительным взглядом: разве вы можете возразить? Увидев, что Вышнеградский смотрит на него, удивленно подняв брови, продолжал, обращаясь к нему – Кроме всего, вы предлагаете лекарство долгого действия, а горло нам могут перерезать завтра.
– И все-таки… – наклонился вперед Вышнеградский. – Фиксируя сегодняшнюю опасную обстановку, умолчать о войне мы не можем. Мы живем не на какой-то другой планете, и война сильно влияет на нас. Достаточно сказать о повсеместной нехватке мужской рабочей силы. – Вышнеградский закинул ногу на ногу и поправил складку на брюках.
Некоторое время длилось молчание. Было слышно, как сопит Коншин.
– Зафиксировать войну мы, конечно, можем… сделаем это… – примирительно сказал Путилов. – Но и на войну мы должны смотреть по-своему. Конечно, окончание войны станет для нас новым благом, но дело-то в том, что большевиками нам предложена совсем другая война, они науськивают фабричных на повсеместный бунт против царя, самодержавия и в первую очередь против нас с вами. У меня есть их листовка, в ней прямо написано: заводы и фабрики должны принадлежать рабочим! Вот о чем у нас речь, Александр Иванович… Пожалуйста, господа, кто еще хочет сказать?
Коновалов переложил большие кулаки с подлокотников себе на колени, деликатно откашлялся и заговорил грубоватым тенорком, чуть окая:
– Паралич управления страной – такова моя общая оценка. Я и не только я уже давно говорим об этом в Думе. Сюда входит и бессилие власти подавить бунт. Особо я хотел бы отметить развал транспорта, этим смертельно опасно нарушено кровообращение экономики государства. И в заключение скажу, что и наша Дума тоже находится в параличе.
Путилов согласно кивал головой и, когда Коновалов замолчал, победоносно посмотрел на Вышнеградского, и тот ответил своим ясным, но на этот раз несколько напряженным голосом:
– Господа, я хочу разъяснить мои слова о войне. Россия находится в военном союзе с двумя сильнейшими государствами Европы. И Америка от нас тоже не так далеко, как кажется. В связи с этим мы не можем свои проблемы решать в изоляции от внешнего мира. Я каждый день беседую с нашими коллегами из Англии и Франции. И не далее как вчера принимал крупного финансиста из Америки. Все они встревожены нашими внутренними проблемами. И все они тоже опасаются нашей революции – Россия, подожженная революцией, им не нужна. Они даже сейчас уже воздерживаются предоставлять нам кредиты именно из этого опасения. Но они лучше нас осведомлены о положении в Германии, знают, что она на пороге экономической, политической и военной катастрофы, и потому главную задачу видят в быстрейшем завершении войны. А мы хотим, как я понял сейчас, плюнуть во все стороны и заняться сугубо внутренним делом.
– Скажите, Александр Иванович, – тихо, с горестным изумлением спросил Путилов, – вы понимаете, что революционный бунт стучит в наши двери?
– Отлично понимаю, – спокойно ответил Вышнеградский, – но не хочу этот вопрос рассматривать изолированно от всего остального и от войны в первую очередь.
Наступило долгое молчание. Путилов, опустив голову, думал о Вышнеградском – зря он его пригласил, не подумал, что он по горло увяз в собственных интересах, пуповина которых уже давно тянется в заграничные банки. Что ему бунт в России?.. В свою очередь, Вышнеградский сейчас хвалил себя за то, что сделал это разъяснение, он уже сообразил, что деятельный Путилов затеял какую-то большую авантюру, чтобы спасти свои заводы, и скликает на это других, хочет на всех разложить материальную поддержку того, что он. затеял. Но с какой стати он должен лезть в это дело?
– Экономика, что там ни говори, фундамент государства. Взорви фундамент, и здание рухнет. А экономика – это мы, и Россия сейчас смотрит на нас с надеждой, может быть, уже единственной и последней надеждой. Все мы знаем – Россия не умрет. Никогда не умрет. Весь вопрос – какой она выйдет из данной трагической ситуации? Бунтовщики добиваются, чтобы Россия предстала перед всем миром голой, с красным знаменем, на котором написано: «Смерть царям, помещикам и капиталистам». Мы же хотим, чтобы мир увидел ее здоровой, сохранившей все свои традиционные силы и привычки… – Путилов проговорил все это тихим, ровным голосом, опустив голову, и вдруг поднял ее и сказал громко – А для этого нужно только одно – убрать из жизни России всех бунтовщиков!
– Как это сделаешь? – проворчал Коншин.
– Физически, Алексей Владимирович! Фи-зи-чес-ки! – воскликнул Путилов.
– Так это ж дело полиции… не наше дело… – хрипло пробасил Коншин.
– Сейчас это наше кровное дело! – возмущенно сказал Путилов. – Вспомните девятьсот пятый год – тогда уже была революция. И достаточно было иметь сильного министра внутренних дел, чтобы зарыть ту революцию в землю…
– Выходит, плохо зарыли, вылез покойничек, – послышался высокий голос Коновалова.
– Именно, Александр Иванович! Именно! Плохо зарыли, а того министра укокошили. Полиция с охранкой ту могилку даже притоптать забыли. И что получается сейчас? Царь верит правительству, а его, по сути дела, нет. Вот покойничек и вылез из могилы, и занес дубину над Россией, и нашей с вами крови этот упырь хочет напиться в первую очередь. И теперь полиции сей покойничек не по силам. В ход пойдет армия!.. – Путилов умолк, порывисто дыша, требовательно смотрел на всех по очереди, но никто не смотрел на него – сидят в креслах, как барсуки в норах, каждый сам по себе.
И снова подал голос Вышнеградский.
– И все-таки поскольку наши силы теперь крепко завязаны в один узел с капиталами наших союзников, мне кажется, надо кликнуть на помощь их – вместе, господа, воюем с германцем, давайте вместе душить и революцию… – сказал Вышнеградский.
– Александр Иванович, скажите мне… – Путилов задохнулся от гнева, но мгновенно справился с собой и продолжал – Когда горит ваш дом, под крышу уже занялся, побежите вы за пожарниками в другой город? – Путилов осуждающе покачал головой и продолжал – Разрешите мне, Александр Иванович, несколько подробнее остановиться на этом, причем я заранее прошу у вас прощения, что позволяю себе разъяснить ваши проблемы вам. Итак, западные финансисты советуют нам поскорее кончить войну. Знаете, что за этим советом? Они прекрасно осведомлены обо всем. Знают, что истощены силы Германии и наши. Знают о реальной угрозе революции и для нас и для Германии. И поэтому их идея проста: кончайте поскорее свою ставшую безнадежной драку, и мы начнем пахоту вашей экономики нашими силами. Они хотят, чтобы ваш банк занимался не международными связями и делами русского капитала, а чтобы он превратился в исполнительный филиал их банков. Простите меня, но мы вступили в эту войну на равных с ними, и мы не хуже их знаем, где и как можно пахать… – Обычно очень сдержанный, Путилов говорил горячо, со злостью, его желтоватое лицо теперь покрылось темным румянцем. – И я бы на вашем месте ответил им: в самом деле, господа, давайте-ка кончайте войну, тем более что у вас сохранены силы, и тогда вместе возьмемся за дела согласно нашим прежним условиям. Но вы так сказать им не смогли, потому что вы знали и знаете, что за вашей спиной разваленная, безвластная Россия. Тогда какой же у нас выход? – спросил Путилов и энергично ответил: – Только один у нас выход – взять власть в свои руки не столько буквально, сколько по сути, чтобы Запад понял, что отныне он имеет дело не с шайкой Штюрмер – Протопопов, а с людьми, действительно ответственными за все дела России. И когда Запад увидит, что эта власть покончила с опасностью революции, он перестанет давать нам беспредметные советы, Запад начнет с нами советоваться на равных. Вопрос стоит только так… То, что мы собрались сейчас открыто, не моя личная инициатива. Пока я не могу вам сказать всего, что предопределило эту нашу встречу, но смею вас заверить – а вы знаете меня достаточно хорошо – я не позвал бы вас сегодня, если бы сам не верил, что это необходимо до самой крайней крайности.
Путилов замолчал, ожидая, что они теперь скажут. Будет ли он иметь возможность после разговора считать, что инициативная группа деловых людей для спасения России создана? Если это можно будет сказать сегодня, завтра на зов этой группы придут многие, кто трезво понимает положение и хочет действовать.
Первым заговорил Вышнеградский.
– Я обязан свой ответ расчленить на два, – сказал он, подняв взгляд на люстру. – В том, что касается меня лично и моих личных финансовых возможностей, я вашу позицию поддерживаю. Но мой банк – это его вкладчики, оказавшие мне доверие, и тут я единолично решать не могу, я могу действовать пока только как Вышнеградский.
– Спасибо и на том, Александр Иванович, – благодарно произнес Путилов.
– Мне несколько легче, чем Александру Ивановичу, – торопливо забасил Коншин. – Мой торгово-промышленный банк, как барометр, отражает сегодняшнюю погоду, и, если новая сильная власть наведет в стране порядок, барометр тут же покажет «ясно» и вкладчики банка будут единодушны, они поддержат меня. Но что будет, если из этой затеи ничего не выйдет? А личными капиталами я, Алексей Иванович, во имя этой надежды готов рискнуть.
– Спасибо, Алексей Владимирович… – ответил Путилов и посмотрел на Коновалова.
– Как вы знаете, – начал Коновалов тихим тенорком, – я несколько лет жил в Германии, в Эльзасе, получил там образование, работал на их фабриках. У немцев есть поучительное выра-жение, правда, оно чисто мануфактурное, но я его помню всегда: «Нитка рвется только в плохих руках». В этом смысле идея, собравшая нас здесь, сомнений у меня не вызывает, и мне еще легче решать, чем Александру Ивановичу. У меня банка нет, но у меня есть сын, который на равных со мной распоряжается капиталом. Я обязан согласовать свое решение с ним. Но я действительно хо-. чу, чтобы мой капитал не обратился в прах. Иная моя позиция была бы просто противоестественной, и поэтому я лично «за». Но вот что еще… Я связан немаловажными обязательствами с моей фрак цией в Думе и должен сообщить о своем решении моим коллегам по фракции.
– Нельзя ли с этим не торопиться? – спросил Путилов, его и без этого ответ Коновалова устраивал мало. – Очень я боюсь вашего думского базара.
– Речь идет о двух, максимум о трех лицах, – ответил Коновалов.
– Все же я просил бы вас подождать ну хотя бы неделю. Поймите историческую ответственность момента… Поднимая меч против этой банды, мы должны быть уверены, что удар будет для нее неожиданным. У этой гидры сто голов, что ни фабрика, ни завод, то своя голова. И все они должны быть срублены в одночасье, одним взмахом. Только так будет успех. Это должно быть подготовлено в строгой тайне…
– Ну хорошо. Но долго молчать я не смогу. Вы это тоже должны понять… – сказал Коновалов.
– Как раз я этого и не понимаю! – взорвался Путилов. – На одном полюсе ваша чертова фракция, а на другом Россия, наши с вами капиталы. Как можно сомневаться, к какому полюсу быть лицом?
Коновалов молчал. Коншин и Вышнеградский тоже.
– Барсуки в норах… ничего не понимают… Ничего… Надо звать других… Сдаваться нельзя…
В большом двухэтажном здании петроградского главного почтамта на Почтовой улице была во дворе одна дверь, которая открывалась только изнутри. Снаружи на ней даже ручки не было. В самое разное время суток через эту дверь в здание почтамта входили мужчины в штатском. Но прежде чем войти, они нажимали кнопку звонка, скрытого под нижним железным козырьком окна, находившегося от двери шагах в двадцати, и тогда она изнутри приоткрывалась. Это был вход в служебное помещение, не имевшее прямого отношения к благородным делам почты. Специальные чиновники министерства внутренних дел производили там перлюстрацию писем. В их распоряжении было изобретение какого-то господина Савелкина, который получил за него от министерства внутренних дел 800 рублей. Это был железный, герметически закрытый бак, в котором кипела вода, а пар по резиновой трубке поступал к стоявшему рядом столу, за которым сидел чиновник, вскрывавший конверты. В резиновую трубку был вставлен мундштук от клизмы, и чиновник аккуратно водил струей пара по месту склейки конверта, вскрывал его и передавал на большой стол, за которым сидело несколько читчиков. Иные письма изымали целиком и, так сказать, в подлиннике складывали в папку с надписью «Департамент полиции». Из других выписывали цитаты с указанием, кто и кому это крамольное письмо отправил. Цитаты вносили в ежедневную сводку, у которой было глухое, для непосвященного непонятное название «Сводка изъятий».
К середине 1916 года количество перлюстрированных писем достигло 10 тысяч, и по случаю сей круглой цифры четверо чиновников получили от министерства внутренних дел наградные от 40 до 125 рублей. Об этом было распоряжение по департаменту, неосторожно написанное начальником департамента Васильевым прямо на рапорте старшего чиновника «почтовой группы» тайного советника Мардарьева.
Впоследствии Протопопов будет двумя руками открещиваться от этого своего почтового ведомства, будет говорить, что он только слышал про перлюстрацию От кого-то, но позже, уличенный документами, признает, что массовая перлюстрация писем была и что она обходилась государству в 130 тысяч рублей каждый год. Признает он и то, что иные изъятые письма он сам возил в Царское Село – царю и царице.
К сожалению, архив с этими письмами пропал – в министерстве Протопопова были предусмотрительные люди. Сохранилось только две папки, оказавшиеся в личных бумагах начальника департамента полиции Васильева. Среди писем, изъятых в ноябре – декабре 1916 года, оказалась копия письма из действующей армии, по-видимому, командира полка какому-то, судя по откровенности письма, близкому его другу и тоже из военных, но жившему в Петрограде. Конверта при письме нет. На самом письме рукой Протопопова написано только одно слово «Доложено». Любопытно, кому? А на приколотой к письму бумажке начальник департамента полиции написал: «Копия направлена начальнику охранного отделения».
Письмо начинается с воспоминаний о недавних днях, проведенных автором письма в Петрограде, в семье человека, которому он писал. Целый абзац поклонов «супруге твоей очаровательной», «безусым продолжателям твоего рода» и еще каким-то лицам, называемым по именам.
А далее автор письма пишет:
«…Настроение у меня по-прежнему ужасное от безысходности и бессилия перед стихией событий. Не развеяли его ни поездка в столицу, ни твои старания, тем более что здесь по возвращении я получил новый удар. Скажу тебе прямо – твой оптимизм, если он не был только от желания поправить мое настроение, происходит или от твоей полной слепоты, или от умышленного нежелания задуматься над происходящим. Не серчай за эту откровенность, но посуди сам.
Помнишь нашу поездку за Нарвскую заставу, на пункт формирования пополнения, и как на Петергофском шоссе твой автомобиль был задержан на целый час буйствующей толпой фабрич-ных, запрудившей улицу и кричавшей гадости по поводу священных для нас с тобой лиц и монаршей власти. А вот что ждало меня в полку. На станции меня встретил ординарец. Спрашиваю, что в полку, а он отвечает – митинг. Что за митинг? Не знаю, говорит, как раз за вами поехал, а устроили митинг большевики.
Приезжаю в полк, и вправду митинг. Весь полк митингует, даже с передовой пришли. На ящике из-под снарядов стоит оратор – солдат в расхристанной шинели – и кричит то же самое, что мы слышали с тобой на Петергофском шоссе. Ну хорошо – там была, как ты сказал, стихийная толпа, которой все равно, лишь бы не работать, но здесь-то у меня фронт, здесь наши устои каждый день и час освящаются народной кровью, здесь решается судьба России. И здесь я слышу омерзительнейшие слова о государе, о династии и о священной нашей войне. Моя рука невольно потянулась к нагану, но в это время меня поразила мысль: почему в этого оратора не стреляет мой полк? Почему стоят в покорности мои офицеры? Я сжал зубы и прошел в свою избу. А когда кончился митинг, вызвал к себе одного солдата, я воюю с ним вместе с октября четырнадцатого года, когда я только принял батальон. Он был трижды ранен, но возвращался ко мне, он стал для меня, если хочешь, символом бессмертия России, а для полка вроде реликвией, последние месяцы я, признаться, даже охранял его от беды, отводя под разными предлогами с передовой, когда там было жарко. Я зову его по имени-отчеству, и он меня тоже. Сам он, между прочим, из фабричных, работал на Ивановской мануфактуре слесарем, и в полку он тоже, когда надо, чинит пулеметы. Удивительно народный тип. Трудолюбив. Даже про войну говорит, что это работа. Хозяйственный. Рассудительный. Его всегда здравые, ясные мысли прямо поражали меня. И вот я вызвал его и спрашиваю: Прохор Фадеич, был на митинге? Отвечает: был. Что скажешь? Молчит, в пол глядит. Спрашиваю: кто это выступал? Отвечает: большевик, кто же еще. Откуда он взялся? Да это ж, отвечает, наш солдат, неужели вы его не признали? Пулеметчик наш. В журнале еще он был на фотографии вместе с царицей в ее лазарете, она ему «Георгия» вешала… Я прямо обомлел – действительно же, ораторствовал он… И снова я спрашиваю Прохора – что он думает про митинг? Молчит. Прошу его – скажи, не бойся, мне же надо, мол, знать, что думают мои солдаты. И вот что я услышал. Если думать да глядеть, какая наша жизнь, правду он говорил, наш пулеметчик. Правду. Я не выдержал, закричал: а ты, значит, три года воевал, трижды пролил свою кровь за кривду? А он отвечает: тут, на фронте, о России наша забота, чтоб не извел ее германец под корень. Все ж она нам мать-отчизна, даже если другой раз она нам и вроде мачехи. Пулеметчик-то отчизну и не трогал, он только власть нашу нынешнюю трогал… Тогда я ему говорю: он же, этот наш пулеметчик, хочет убить государя нашего. А Прохор на это: зачем убить? Только свергнуть, раз он довел Россию до такой беды, что у народа никакой жизни не стало. Я ему: как тебе не стыдно? Тебе царица «георгин» вручала, говорила с тобой. А он усмехается: в лазарете потом в курилке про это смеялись. Так что, если по правде, мне бы лучше тот «Георгий» от вас принять… Я так растерялся, что попросил его уйти… Он потоптался и, прежде чем уйти, сказал: зря серчаете, правда, она, какая ни есть, все равно правда…