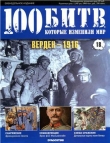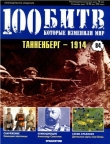Текст книги "Последний год"
Автор книги: Василий Ардаматский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
По различным документам дальнейшая история с Рубинштейном выглядела так… Делом его занялась комиссия, возглавлявшаяся генералом Батюшиным. Предупрежденный и сам понимавший, что па спасение Рубинштейна будут брошены влиятельные лица, генерал приказал вывезти Рубинштейна из Петрограда в Псков и там содержать в тюрьме. Но комиссия даже не успела приступить к допросам арестованного.
Распутин поработал хорошо…
26 сентября 1916 года царица в связи с предстоящей в Ставке у царя аудиенцией министра внутренних дел Протопопова писала своему супругу:
«Не забудь при свидании с ним и поговори с ним относительно Рубинштейна, чтобы его без шума отправили в Сибирь. Протопопов совершенно сходится во взглядах с нашим Другом на этот вопрос. Протопопов думает, что это, вероятно, Гучков подстрекнул военные власти арестовать этого человека в надежде найти улики против нашего Друга. Конечно, за ним водятся грязные денежные дела, но не за ним же одним».
Боясь, как бы царь все-таки не забыл об этом ее указании, 28 сентября в очередном письме мужу она снова пишет:
«Ангел мой! Затем поговори с ним относительно Рубинштейна…»
И наконец из Ставки от самодержца России последовало строгое указание освободить Рубинштейна. В Петрограде не знали, что делать. Отменить приказ об аресте Рубинштейна генерал Батюшин отказался. Дело было не в его принципиальности. Он боялся, что впоследствии этот его шаг будет ему поставлен в строку. В Царском Селе возникла идея снять генерала Батюшина с этой должности и на его место посадить более послушного. Но поступили иначе – от царицы поступило распоряжение изъять дело из военного ведомства, передать в министерство юстиции и там его прикрыть. А если министр заартачится, назначить нового министра, который выполнит приказ о прекращении дела. Дошло до того, что министры внутренних дел и юстиции совместно с генералом Ба-тюшиным обсуждали, как найти выход из положения. Собственно, только одну трудность им нужно было преодолеть – никто из них не хотел оставить в архиве своих личных следов, связанных с освобождением Рубинштейна…
Между тем Рубинштейн делал свои дела и в тюрьме. Там, в Пскове, не покидая одиночки, он по совету Крюге освободился от акций замаранного банка «Юнкера и К°», продав их богачу промышленнику Второву.
Как в конце концов сговорились «заинтересованные лица», неизвестно, но Рубинштейн был освобожден, а его дело превратилось в две странички протокола обыска. Куда девалось все остальное, поди узнай. Словом, «заинтересованные лица» хорошо позаботились не только о сокрытии своих личных следов.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Генерал Спиридович все время помнил и тяжело переживал размолвку с царем тогда, в поезде, и понимал, что прежнего доверия к нему царя не будет. А главное, как бы подводилась черта его усилиям внушить монарху тревогу перед растущей опасностью революции. Нельзя было сказать, что генерал Спиридович обожал царя, – нет, но была его высокая при нем служба, было понимание, что лучшего монарха, пока есть этот, Россия иметь не может, и была возможность как-то влиять на царя…
Среди крупных деятелей жандармерии Спиридович был из наиболее умных, а может быть, и самый умный. Приняв участие в подавлении революции 1905 года, он в отличие от большинства своих коллег увидел в тех событиях не просто бунт черни, спровоцированный подстрекателями, а новый этап в развитии русского общества, вызванный и внутренним положением страны, и деятельностью совершенно новой политической силы – российской социал-демократии. Этот его вывод многие деятели охранки не поддерживали…
Позже они спохватятся, поумнеют на этот счет, а тогда Спиридович с тревогой наблюдал их заблуждение и всеми силами старался помочь им прозреть. Он пишет и печатает в жандармской типографии только для служебного пользования две книги. Одна о партии эсеров, в ней он доказывает, что эсеровский террор – это спонтанная истерика слепых и разрозненных людей и что справиться с эсерами совсем нетрудно. Другая же книга о русской социал-демократии, о большевиках как о политической партии нового типа, имеющей умную и крайне опасную строю политическую программу и ведущей за собой большие массы людей, в первую голову пролетариат. Спиридович призывал беспощадно расправляться с большевиками, применяя законы военного времени даже в тылу. Одновременно он считал крайне необходимым вести умную агитацию против социал-демократической программы, за монархический, богом данный России строй.
Но у Спиридовича не было надежды, что его поймут и поддержат в жандармерии, и он решил – только воля монарха способна круто повернуть штурвал. Он держал при себе рукопись книги о социал-демократии, дожидаясь удобного момента попросить царя прочитать его труд. Такой момент оказался в той зимней поездке на фронт, царь рукопись прочитал и пригласил его к себе в вагон… – Я прочитал… прочитал… И не без интереса… – начал Николай задумчиво и потом долго смотрел в окно, за которым медленно каруселила заснеженная русская равнина… И вдруг повернулся к генералу. – Мне кажется, вас увлекла теория борьбы. А моя голова и, надеюсь, головы всех моих благонамеренных подчиненных заняты практикой борьбы, в которой одна ясная цель – достижение победы на войне… – Он показал на лежавшую перед ним рукопись. – У вас непереносимо часто повторяется слово «революция», вы точно под гипнозом этого слова, а заодно и под гипнозом у ваших социал-демократов, большевиков. – Николай отодвинул от себя рукопись и откинулся на спинку дивана. – Недавно Протопопов давал мне читать показания большевиков, арестованных в Иваново-Вознесенске. Право, смешно – какие-то ткачи и даже ткачихи вознамерились свергнуть меня. Боже, где тот Ива-ново-Вознесенск и где я? И вообще вы как конь с шорами на глазах – видите впереди только социал-демократическую революцию. А уж если говорить об этом всерьез, то революционная гидра многоголова, и я, например, больше встревожен революционной угрозой со стороны Думы, где все эти Родзянки и Гучковы уже собрались создавать правительство без моего участия…
– Ваше величество, думские дальше речей не пойдут! – мягко воскликнул Спиридович, от волнения его красивое лицо покрылось румянцем.
– А если пойдут? – наклонился вперед царь.
– Их можно попросту разогнать.
– Ну видите, как получается, – поморщился царь и снова откинулся на спинку дивана. – А ваши коллеги, занимающие самые высокие посты, говорят мне, что сейчас разогнать Думу – значит сознательно загнать ее в подполье, на нелегальное положение. А так она вся у нас на глазах…
Спиридович уже понимал, что царь его позицию не разделяет и не разделит – его упрямство известно, но, может, его встревожит последний аргумент – война?..
– Ваше величество, я сейчас думаю тоже только об одном, – заговорил он энергично, – о нашей победе над врагом. И, как могу, содействую этому. Но дело-то в том, что социал-демократы, большевики сейчас стремятся подорвать как раз военные усилия России, поэтому они активно действуют непосредственно в окопах, и их пораженческие призывы не могут не иметь успеха. Так же, как бедный всегда мечтает повергнуть в нищету богатых, так солдат, сидящий в окопе, мечтает о конце войны и своем возвращении целым домой.
– Вы заблуждаетесь, – подняв руку, прервал его царь, светлые глаза его потемнели, как всегда, когда он терял терпение. – Русская армия самоотверженно воевала, воюет и будет воевать впредь…
Разговор явно окончен, но Спиридовичу было невероятно трудно встать, у него вдруг появилось ощущение, что это последний его разговор с царем. И чтобы убедиться, что это не так, он начинает свой обычный доклад о порядке прибытия в Царское Село.
Царь выслушал его молча, закрыв глаза, и потом только кивнул еле заметно.
Спиридович покинул вагон в полном смятении.
Нельзя сказать, что царь в событиях 1905 года не узрел революции. Посылая в Москву на подавление декабрьского восстания рабочих свой Семеновский полк, Николай писал московскому генерал-губернатору: «Надеюсь, что Семеновский ролк поможет вам раздавить окончательно революцию…» Есть и другие царские документы, где он употребляет выражения «революционная смута», «бунт, вызванный революционерами». Но все дело в том, что царь понимал под этим словом «революция», в чем видел ее силу и опасность.
Как известно, славного руководителя московских большевиков товарища Баумана убил нанятый охранкой уголовник. На письменном столе царя впоследствии почти одновременно появилось два документа. В одном было тревожное сообщение начальника московского жандармского управления о том, что похороны Баумана вылились в мощную революционную манифестацию – триста тысяч участников! Другим документом было представление министра юстиции по поводу помилования убийцы Баумана. Наученный охранкой, он заявил, что совершил убийство в ответ на оскорбление его патриотических чувств. Николай на этом документе начертал одну букву С, что означало – согласен помиловать. На сообщении о манифестации его пометок нет, но он вспомнил о ней спустя два месяца, в дни московского декабрьского восстания, принимая с докладом министра внутренних дел, и сказал ему:
– Сейчас восстали те же, что шумели на похоронах, тогда и надо было всех их переловить и не было бы ничего теперь… – И добавил:– Это все те же, кому снится революция…
А когда министр доложил ему о беспорядках в Казани и Екатеринбурге, царь воскликнул:
– Безрукие генерал-губернаторы! Прикажите им переловить и к ногтю! Я теперь точно знаю, где у меня хорошие генерал-губернаторы: там, где нет подобных безобразий.
Царь смотрел на революционные беспорядки как бы с другой стороны. Но это не помешало тому, что усилиями всех карательных и сыскных служб во главе с царем, обнаружившим в страхе за себя и за свою власть беспощадную решительность, первая русская революция была утоплена в крови. Когда Семеновский полк после подавления московского восстания вернулся в Петроград, на устроенном в его честь параде люди, даже хорошо знавшие монарха, с удивлением обнаружили, что он может говорить очень громко. Царь кричал: «Спасибо, семеновцы, дорогие мои! От всей души горячо благодарю вас за вашу службу! Благодаря вашей доблести, стойкости и верности окончена крамола в Москве!»
Вскоре возле него появляется Спиридович как начальник его личной охраны. Он понравился царю с первой встречи. Рослый, чуть рыжеватый, как и сам Николай, с красивым, несколько холодным лицом, он всем своим обликом олицетворял силу и спокойствие. Проработав несколько лет до этого в жандармерии, в том числе в Москве у знаменитого полицейского «мыслителя» Зубатова, он много знал, разговаривать с ним было интересно, и то, что он не сыпал, как другие, пустопорожние льстивые слова, а говорил дело, тоже нравилось Николаю. Потом тот трагический вечер в киевской опере, когда был убит премьер-министр Столыпин, а находившегося в нескольких шагах Николая прикрыл собой Спиридович. Это еще больше приблизило к нему царя, теперь он часто брал его с собой на прогулки и весьма доверительно с ним разговаривал. Однажды Николай спросил:
– Я слышал, что вас, когда вы служили в Киеве, ранили эсеры?
– Недостойно вашего внимания, – решительно отвел этот разговор Спиридович. Но добавил – И вообще эсеры – это типичный политический дым. Не больше…
– Что же тогда огонь? – легко поинтересовался царь.
– Большевики, ваше величество!
– Большевики? – удивленно рассмеялся царь, может быть, впервые услышав тогда это название. – Что это такое?
Спиридович коротко, но вполне серьезно объяснил, и снова царь рассмеялся:
– Мне больше нравятся меньшевики, очевидно, их меньше.
– Но и они, ваше величество, тоже социал-демократы.
– Социал-демократы, социал-демократы, – вдруг нахмурился Николай. – Надоело. Со смутой покончено. И ваши большевики могут свою опасную программу проповедовать только каторжникам в Сибири.
Царь так рассердился, что, не окончив обычного маршрута прогулки, заторопился во дворец.
Меж тем дальнейшие события показали: партия большевиков продолжала действовать и силы ее все увеличивались. Большевики оказались избранными в Думу второго созыва. Царь был в ярости, он приказал охранке очистить Думу от большевиков. Они были схвачены и осуждены на многолетнюю каторгу. А Дума распущена. Однако и в третью и в последнюю, четвертую, Думу большевики снова были избраны.
Начавшаяся война как будто ослабила деятельность революционеров. Но Спиридович в это не верил…
…В начале 1915 года Спиридович был срочно вызван к царю и застал у него в кабинете начальника особого отдела дворцового коменданта полковника Ратко, в обязанности которого входило информировать монарха о положении в стране. Полковник, вытянувшись, стоял перед столом и, двигая головой, следил за царем, который с покрасневшим лицом быстро ходил вдоль стены. Увидев Спиридовича, царь быстро прошел к столу, схватил лежавшую там бумажку.
– Не угодно ль ознакомиться… – Царь стоял перед ним и нетерпеливо ждал, когда он прочтет бумажку.
Это была большевистская листовка, призывающая солдат прекратить братоубийственную войну и обратить оружие против извечных своих поработителей – капиталистов, помещиков и монархической власти.
– Да, ваше величество, они в самом начале войны заняли эту пораженческую позицию, – сказал Спиридович, положив листовку на стол.
– Это не позиция, а измена! – гневно сдвинув брови, сказал царь. – Как вы можете спокойно об этом говорить? Народ, возвышенный любовью к отчизне и трону, ведет войну, а за его спиной изменники! – Царь повернулся к полковнику Ратко – Распространители пойманы?
– Насколько мне известно, нет, ваше величество. Листовка найдена в кармане убитого солдата.
– Трижды измена! – задохнулся царь и нервно расстегнул ворот гимнастерки. – И достойный на нее ответ. Мой верный солдат прочитал эту грязную бумажку, пошел в бой и погиб. Наградить солдата Владимиром! Слышите? Владимиром!.. – Царь подошел к Спиридовичу и сказал желчно – Вы знаток этой страшной банды, не так ли? Сейчас же оставьте все, вместе с Воейковым поезжайте в охранное отделение, и чтобы к вечеру был готов проект приказа о беспрекословном соблюдении закона военного времени об измене и изменниках. Расстрел перед строем. Расстрел перед строем. Только это…
– Слушаюсь, ваше величество. Разрешите отбыть?
Царь сделал жест – убирайтесь, и Спиридович удалился с глубоким поклоном, не завидуя оставшемуся в кабинете полковнику Ратко.
И может быть, эта вспышка гнева Николая и отданный им приказ попутали Спиридовича – он решил, что царь изменил свою позицию, и поторопился отдать ему свою рукопись, а это окончилось для него очень плохо…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Последнее время у Грубина все чаще появлялось ощущение, что он может опоздать с выходом из всего этого бедлама. Ему казалось, что все в России стало настолько ясным и необратимым, когда он уже ничего существенного, принципиально нового сообщить в Германию больше не может. Однако исконно немецкое чувство дисциплины жило в нем, и он говорил себе: не торопись… не торопись.
Вот и сейчас, глухой ночью, слыша ровное дыхание жены, он думал, как лучше и быстрее выполнить полученное на днях задание своей службы – от него требовали точного, хорошо мотивированного заключения о том, не увеличились ли за последнее время шансы сторонников сепаратного мира и насколько реально их осуществление.
Но почему Берлин снова тревожит реальность сепаратного мира?.. Неужели его догадка о готовящемся наступлении была ошибочной?..
Часы в столовой басовито пробили два раза – все-таки надо постараться уснуть… Протяжный далекий гудок парохода – уснуть… уснуть…
Утро принесло новые волнения. Горничная подала ему в постель газету «Биржевые ведомости», с первой страницы которой кричал заголовок крупными буквами: «Положить конец немецкому засилью!» Была бы это какая другая газета, вроде булацелев-ского «Нового гражданина», он бы и внимания не обратил на такой заголовок – эти газеты все время визжат о немецком засилье. А сегодня это напечатано в газете солидной, никак не склонной к политической истерике… Тон статьи строгий, категорический, хотя и не крикливый, в ней нет ни фактов, ни фамилий, пи даже намеков, но сказано нечто такое, чего раньше никогда не было: «…если власти не покончат с безнаказанным немецким засильем, Россия вправе будет назвать это изменой отечеству…» И в самом конце фраза: «Отечество, народ, как всегда, с надеждой взирают на своего государя». Получалось так, что власти и царь – это не одно и то же, но вместе с тем, поставленные рядом, они невольно объединялись. Во всяком случае, так до сих пор еще не писали.
Жена, расчесывавшая перед зеркалом длинные пушистые волосы, спросила:
– Что в газете интересного?
– Интересного? – механически переспросил Грубин. – Абсолютно ничего.
– Есть объявление о смерти жены Инсарова?
– Да боже мой, кого это интересует? – против обыкновения повысил голос Грубин. Жена обернулась на него с укоризненной улыбкой и, ничего не сказав, снова повернулась к зеркалу.
Поначалу у Грубина мелькнула мысль, что эта статья войдет убедительным аргументом в его ответ Берлину. Но если такое печатается в солидной газете, не является ли это сигналом для начала каких-то особых и уже государственных действий против всего немецкого? Положение в Петрограде и без того крайне напряженное. Население наэлектризовано постоянной нехваткой продовольствия, начались перебои даже в торговле хлебом. Война продолжает пожирать людей… Властям, конечно, очень выгодно направить возмущение населения в сторону, на все немецкое, повинное-де в бедах государства. И если эта статья сигнал к такого рода действиям, в Петрограде может мгновенно возникнуть смертельно опасная обстановка… И опасная именно для него самого. Манус станет одной из первых жертв, а тогда удар неминуемо обрушится и на него. Грубин с тревогой думает о том, что в последнее время он не заботился, как раньше, чтобы его связь с Манусом была невидима другим. Черт бы его взял, этого зарвавшегося Мануса!
Надо принимать срочные меры, чтобы избежать удара. Это еще можно сделать – главное, не растеряться. И тогда надо выходить из игры…
Утренний чай проходил при свете люстры – окна были синие, запоздалое осеннее утро только начиналось, на улицах еще горели фонари. Алиса Яновна, приподняв широкие рукава японского халата, сама наливала чай, посматривая на мужа, но вопросов ему больше не задавала, у них было заведено: о том, что касалось дел мужа, ей интересоваться не положено, об этом мог заговорить только он сам. А Грубин в это время думал, как бы меньше встревожить жену новостью, которую он приготовил…
– Знаешь, дорогая, я хочу срочно продать наш дом со всеми его потрохами, – сказал он ласково.
Алиса Яновна поставила чашку на стол, черные ее брови взметнулись крыльями, в глубине черных глаз удивление:
– Тебе нужны деньги?
– Что ты, милая… – Он погладил руку жены. – Но сделать это надо срочно. Еще сегодня я скажу моему доверенному, чтобы нашел нам квартиру с обстановкой поближе к центру.
– Я так полюбила этот дом, – печально сказала она, пряча глаза в пушистых ресницах. Грубии обнял ее за плечи и, касаясь щекой ее мягких волос, сказал тихо:
– Пора домой, родная… До-мой… Понимаешь?
– Боже, неужели? – прошептала она с радостно заблестевшими глазами. – Ко мне возвращается мой Генрих… – Она порывисто обняла мужа – Дождались… дождались…
– Но, Алис… – Он мягко и решительно отстранил ее. – Никому даже тени намека… Ни-ко-му… Это может привести к катастрофе.
– Можешь быть спокоен, ты знаешь меня… – И вдруг сказала озабоченно – Мы же на пятницу позвали гостей.
– Напиши всем, что ты больна… инфлуэнца. Извинись… И готовься к переезду на новую квартиру. Горничную отпусти, скажи, у нас пошатнулись дела, дай ей денег… – Он улыбнулся. – А гостей мы позовем уже там… дома…
До обеда Грубин ездил по банкам, смотрел, что там делается, слушал, что говорят. Ничего нового и особенно тревожного он не видел, все было как всегда. Даже досадно стало, что давеча утром он так испугался газетной статьи, вспомнилось, как сам он поучал однажды Мануса не обращать серьезного внимания на газетные вопли. Да, нельзя распускать нервы. Нельзя. Может, и с домом спешить не надо?..
Он заехал в Гостиный двор к хозяину ювелирной фирмы Морозову. Неделю назад с ним было договорено о покупке драгоценностей, теперь нужно было закрепить договоренность и заплатить аванс.
С места в карьер Морозов сказал, что цена на его товар повысилась в полтора раза. Грубин не выразил ни удивления, ни огорчения – лихорадка с ценами теперь обычное явление, но все же ждал объяснения… Морозова он неплохо знал, не раз покупал у него дорогие подарки для жены – это был хитрый делец, умело вел свое ювелирное дело и не без успеха играл на бирже. Но он был не очень умен, этакий истинно русский купец среднего масштаба, далекий от политики и гордящийся этим, он в тех же «Биржевых ведомостях» читал, наверно, только биржевые ценники, а статьи, которая сегодня встревожила Грубина, он просто не заметил…
– Почему так подскочила цена? – не дождавшись объяснения, спросил Грубин.
– Вы же знаете, цены всегда диктует рынок, – ответил Морозов. – Вам объяснять это не требуется. А вот только что приезжавшая ко мне княжна Палей очень осерчала и ничего не хотела понимать.
– Неужели она хотела покупать? – спросил Грубин.
– Представьте… и хотела взять приличную партию бриллиантов. Я сам удивился…
Грубин заметил, что и ювелира это тревожит.
– А что же случилось на рынке?
– С одной стороны, непонятно резко возрос спрос, с другой – упали в цене деньги… – Морозов озабоченно помолчал, поглаживая пальцами свое розовощекое простоватое лицо. – Я у вас хотел бы… спросить. Ну положение с деньгами понятно. Но почему вдруг так подскочил спрос?
– Первое объясняет второе, – ответил Грубин и продолжал – Вот и я хочу закрепить свои деньги. То, что тогда отобрал, я беру… – Он вынул чековую книжку, заполнил чек и передал ювелиру. Тот взял его неуверенно и слишком долго разглядывал, но все же положил в стол со словами:
– Договор, как известно, дороже денег… – И снова вернулся к тревожившему его вопросу: – А не лучше ли мне закрыть торговлю?
Вместо того чтобы воспользоваться выгоднейшей конъюнктурой? – ответил Грубин.
– Господин Грубин, – вдруг решительно сказал ювелир. – Наша с вами сделка совершена, забудьте о ней, а теперь скажите мне откровенно – нет оснований у меня бояться?
– Чего?
– Той самой конъюнктуры. Вы, конечно, знаете Басова. Миллионщик. Знаете, что он мне предложил? Продать ему все мое дело на корню. Зачем оно ему?
– Спросили бы у него, – уклонился Грубин.
– Спросил. Но ответа не услышал. Но послушайте дальше. Мой главный конкурент вот тут, наискосок через Невский – Бур-харб в субботу закрыл свое дело. Я поехал к нему – почему? Ведь наш товар и на пожаре не горит. А он ответил, что проверять это свойство нашего товара он не хочет. И все. Смотрите – княжна Палей, Басов, Бурхарб да вот и вы… С чего бы все это?
– Не знаю, ей-богу, не знаю… – ответил Грубин и поспешил уйти…
Началось то, что он предугадывал. И первый отсюда вывод – надо как можно скорее перевести деньги в ценности, причем по любой цене. А дом надо продавать немедленно. Но – стоп, стоп – не паникую ли я снова?
В два часа дня Грубин зашел пообедать в Деловой клуб на Литейном. Он любил это заведение, где всегда царила тишина и не было показной роскоши. Вышколенные официанты походили на преуспевающих чиновников, скромное меню умещалось на маленьком листке, но блюда готовились по-домашнему, без претензий. Утром здесь были удивительно вкусные молочные завтраки, обеды до шести вечера, и ресторан закрывался. Сюда хаживали самые крупные дельцы, с которыми всегда можно было перекинуться новостями, получить полезный совет…
Войдя в ресторанный зал, Грубин остановился – кто тут есть? И ему повезло – он увидел известного в России богача Леонида Андреевича Манташева, с которым был знаком. И не просто знаком… Год назад он заинтересовался одним выгодным делом, но, тщательно его разведав, обнаружил мастерски скрытый в нем подвох. Когда он отказался от участия в этом деле, то узнал, что делом заинтересовался сам Манташев. Грубин немедленно воспользовался этим для знакомства с Манташевым и как раз здесь, в этом ресторане, рассказал ему о подвохе. Манташев поблагодарил его и спросил, как удалось ему открыть аферу. Грубин ответил: осторожность и еще раз осторожность – это мой принцип. Спустя несколько дней Грубин прочитал в какой-то газете разоблачение жуликов, которые вели именно то дело, – Манташев никогда не прощал, если кто-нибудь пытался его обмануть… После, когда Манташев появлялся в Петрограде, они несколько раз виделись здесь же, в Деловом клубе, но только здоровались…
Сейчас Манташев, судя по всему, уже пообедал и просматривал газеты. Подходя к его столику, Грубин увидел, что он читает французскую газету.
– Можно подсесть на пару минут? – спросил Грубин, подойдя к его столу и почтительно поздоровавшись.
Манташев не спеша оторвался от газеты и поднял на него большие внимательные глаза:
– А! Великий маэстро осторожности! Здравствуйте. Садитесь. Но я уже отобедал… – Освобождая место для Грубина, он отодвинул в сторону лежавший на диванчике ворох прочитанных газет. – Что вам заказать?
– Ради бога, ничего… Я забрел сюда просто так… чтобы побыть среди живых людей…
Манташев неожиданно рассмеялся и, показывая на зал, где обедали несколько человек, сказал:
– Это они-то живые? Все мертвецы, только они еще не знают этого… – Грубин вдруг увидел, какое у него усталое лицо. Большой делец, обладатель огромного состояния, вложенного в солидные дела, он был человеком веселого нрава, любил и понимал шутку, его черные глаза отражали живую душу. Он даже конкурентов душил весело. Все знали, как он одной своей жертве сказал: «Дорогой мой, относитесь к происшедшему как к уроку в школе деловых людей и пока поблагодарите меня устно, а придет время, я потребую урок оплатить». И когда спустя некоторое время неудачник провел выгоднейшее дело, Манташев послал ему письмо с напоминанием об уроке и потребовал оплаты по профессорской ставке. И получил перевод в двадцать пять рублей…
Сейчас перед Грубиным сидел совершенно другой Манташев, усталый, злой, с потухшими глазами.
– Зачем же вам понадобились живые люди? – спросил он.
– Тревожно мне, Леонид Андреевич, – тихо ответил Грубин.
– И мне тоже… и мне, – пробурчал себе под нос Манташев и вдруг с любопытством посмотрел на Грубина – А отчего тревога-то?
– Читали сегодняшние биржевые?
– Читал. Чепуха, – отрезал Манташев.
– Ну как же, Леонид Андреевич? В пороховую бочку суют зажженную тряпку.
– Порох давно отсырел, – категорически ответил Манташев. Он подозвал официанта и показал на груду газет – Уберите этот мусор…
Они молчали, пока не ушел официант. Потом заговорил Манташев, заговорил энергично, в его черных глазах поблескивала злость, усталое его лицо оживилось:
– Мне говорили, что вы человек Мануса… – Грубин протестующе поднял руку, но он продолжал – Ладно, ладно, не вы его человек, а он ваш, это не играет никакой роли. Но вы на него непохожи. Он настолько врос со своими деньгами во все, что по инерции еще именуется Россией, что уже не видит собственные колени – мешает пузо с барышами. Но вы-то, я знаю, финансист осторожный, а значит, думающий и на авось не полагающийся. Я же помню то дело… Так неужели вы не понимаете, что ваша бочка с порохом существует не сама по себе. Допустим, она в трюме парохода, который напоролся на скалу и идет ко дну. Какое значение, взорвется она или нет? Для нас с вами корабль – наше государство и прежде всего его фундамент – экономика, а именно здесь удар о скалу и пришелся. Я только что читал французскую газету. Они пишут, что русская экономика напоминает сейчас воздушный шар с простреленной оболочкой, он еще летит, но падение его неизбежно. Союзнички пишут, и они знают…
Грубин слушал его, пытаясь скрыть охватившую его тревогу, но не за корабль-Россию, конечно, а только за то, сумеет ли он спасти капитал, выйти из этой страшной игры, чтобы обрести затем в родной Германии спокойную жизнь, о которой мечтал все эти годы. Он не заметил, что Манташев уже давно молчит и смотрит на него с недоброй усмешкой.
– Как же спастись? – спросил Грубин.
– И как спасти капитал? – подхватил Манташев и мгновенно ответил – Не знаю. Каждый спасается в одиночку, и его спасительным плотом в океане является его ум… – Манташев умолк, ожидающе смотря на Грубина.
– Ну а если что-нибудь изменится на войне? – нерешительно начал Грубин.
– Что война? Что и какие изменения вы ждете? – Манташев не скрывал злости, но Грубин понимал, что эта злость не на него, а на все, что привело его к этим мыслям, и ему, наверно, нужно было перед кем-нибудь выговориться. – Войны уже нет! – продолжал он, глядя в пространство. – Ее проиграли и мы и немцы. Парадокс? Это истина, дорогой мой. Ис-ти-на…
– А если войну остановит мир?
– И это для нас с вами уже не имеет никакого значения, поскольку мы не сидим в окопах. Для нас важно только одно – есть у нас деньги или их уже нет. Так вот – у нас их нет. Тот рубль, который мы называли золотым, сейчас стал в лучшем случае жестянкой. А что вы можете сделать с этими жестянками?
Грубин подавленно молчал, а Манташеву словно доставляло удовольствие, что он загнал собеседника в тупик без выхода. Но ведь и сам он был в этом тупике… И вдруг он точно нашел что-то утешительное, в глазах у него загорелось злорадное оживление:
– Одно приятно – весь мир перевернут на спину. Весь! А знаете, что бывает с ежом, когда его перевернут на спину? Он становится беззащитным, у него открыто голое брюхо. Мир перевернут на спину! Кто его поставит на ноги? Может быть, маленькие нейтралы вроде Швеции, которые, как это ни смешно, выиграли эту войну. Но скорее всего это сделает Америка, она сейчас словно на другом корабле. Но сколько она за это возьмет? Захочет ли она получить жестью вместо золота? О, она поступит иначе! Она взрежет голое брюхо ежа и запустит руки в его внутренности. Она потребует концессий! И тогда мы с вами со своими жестянками превратимся в бедных родственников при американском богатом дядюшке, а он, как известно, к бедным родственникам нежных чувств никогда не испытывал. Вот о чем следует думать, дорогой мой осторожник, которого явно покинула осторожность, вы, дорогой мой, опоздали высадиться с этого корабля. Опоздали!…
Они вместе вышли на улицу, молча попрощались. Манташев сел в поджидавший его автомобиль.