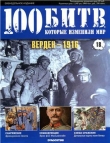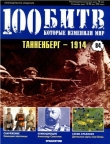Текст книги "Последний год"
Автор книги: Василий Ардаматский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
В Петрограде среди высшей власти полный разброд, и никто не способен на какие-либо решительные действия. Чего можно ждать здесь, неизвестно, но дворцовый переворот может существенно изменить всю картину здешней обстановки. То, что он узнал от великой княгини Марии Павловны, выглядело весьма серьезно и реально – заговор во дворце подготовлен… А Грюсс твердит: сейчас в верхах никому нельзя верить…
Бьюкенен вызвал слугу, распорядился подать пальто.
Вернувшись с пальто на руке, слуга сказал:
– Я велел подать автомобиль…
– Кто вас просил об этом? – Бьюкенен гневно смотрел на слугу.
– Простите, сэр… – Слуга исчез за дверью и через минуту вернулся – Все в порядке, сэр… – Он замер у двери, распахнув пальто и смотря в сторону.
– Я ведь собрался на прогулку, старина Уин… – как бы извиняясь, мягко сказал Бьюкенен. Он был недоволен собой – гневаться на слугу недостойно английского джентльмена и тем более ему гневаться на старого Уинстона, сопровождающего его многие годы жизни и в Лондоне, и в Софии, и здесь. Право же, этот старик самый преданный ему во всем посольстве.
– Это прекрасная мысль, сэр… – сказал слуга. – Дождя нет, даже проглядывает солнце… Но холодно… – Он встряхнул пальто, как бы приглашая посла поспешить на свидание с хорошей осенней погодой, которая так редка.
Бьюкенен надел пальто, слуга пригладил на плечах мохнатую шотландскую ткань, подал котелок и трость.
– Не тоскуете, старина Уин, по лондонской осени? – улыбнулся Бьюкенен.
– Я всегда в тепле, сэр… – Слуга тоже позволил себе чуть улыбнуться, по улыбка тотчас спряталась в его обвислых белых бакенбардах. Он распахнул перед послом дверь и согнулся в поклоне…
Прогулка по Невской набережной, которая в этом месте называлась Английской, всегда успокаивала. Бьюкенен шел вдоль парапета и наблюдал игру света на Петропавловской крепости – когда проглядывало солнце, ее силуэт становился чуть розовым и шпиль над ним как вспыхнувшая свеча, а когда солнце уходило в тучи, силуэт снова становился фиолетовым, и свеча гасла. Это зрелище завораживало.
Посол вернулся к мыслям о деле… Никогда еще не было, чтобы он ждал, да еще с таким нетерпением, кого-нибудь из своих сотрудников… Действительно все перевернулось с ног на голову. А с этим Грюссом вообще все сложно… В первые два года войны к услугам этого представителя британской разведки Бьюкенен не обращался, не было надобности, он и без него знал все, что происходит в верхах России, где его связи были достаточно широки и полезны. Один Сазонов чего стоил… Грюсс, в свою очередь, делал свое дело, и он время от времени просил его поделиться своими наблюдениями и всякий раз видел, что этот молодой человек ест свой хлеб не зря, его наблюдения были точными…
У него были самые неожиданные связи в различных сферах государственной машины и жизни, и, как правило, это были люди, знающие подводные течения, возникавшие в потрясенной империи. Достаточно сказать, что, установив связь с каким-то маленьким чиновником личной канцелярии императрицы, Грюсс получил возможность знать, что телеграфирует Александра Федоровна мужу. И то, что Бьюкенен узнал из переписки, потрясло его, ибо превосходило все его представления о размерах вмешательства царицы в государственные и военные дела и о безволии ее коронованного мужа.
На Грюсса работали клерки из банков, какие-то третьестепенные чины жандармерии и полиции, шоферы военных ведомств, официанты и еще черт знает кто. А в результате он располагал информацией, какой Бьюкенен не имел от своих великих князей, сенаторов и думских деятелей.
Сегодня Грюсс поехал, чтобы встретиться всего лишь с техническим секретарем великой княгини Марии Павловны. Поехал неохотно, уверял, что это пустая трата драгоценного времени. Но Бьюкенен настоял, он поверил, что Мария Павловна и ее сын великий князь Борис предпринимают нечто новое, очень серьезное и что у них есть политическая и военная программа, которую поддерживают Родзянко и Гучков и, что особенно важно, хотя и неожиданно, генерал Брусилов, чья популярность после прорыва его войск на Карпаты была очень велика. А вчера сообщили, будто Брусилов находится в Петрограде и у него была встреча с великой княгиней. Словом, все выглядело вполне серьезно и реально…
Но кому сейчас можно верить?..
Увидев мчавшийся по набережной автомобиль, Бьюкенен ускорил шаги.
Он прошел прямо в комнату Грюсса, который уже сидел за столом и писал что-то.
– Ну, Бенджи? – нетерпеливо спросил Бьюкенен, опускаясь в кресло и сердясь на все – и на это свое нетерпение, которое он не мог скрыть, и на унижающую его ситуацию, когда он должен что-то просить у своего сотрудника…
– Генерал Брусилов, сэр, приказал кланяться, в Петрограде не было даже его тени, – сказал Грюсс, продолжая писать. Он отодвинул бумаги и пригладил ладонями свой и без того безукоризненный пробор. – Заговор и программа великой княгини – очередной блеф. Но программу я привез. Вот… – Он протянул тоненькую синюю папку с великокняжеским вензелем, послу показалось, что серые продолговатые глаза Грюсса скрывают усмешку. – Еще сегодня это надо вернуть, – деловито закончил Грюсс.
– Надо снять копию… – раскрыв папку, сказал Бьюкенен.
– Прочитайте сначала, – не возразил, только вежливо посоветовал Грюсс– Но, читая, знайте, что за этой программой ничего и никого нет. Даже самой княгини нет. Мария Павловна еще позавчера приказала секретарю подготовить документы на отъезд в Швецию.
– Это невероятно! – протестующе воскликнул Бьюкенен, и щеки у него порозовели. – Она же сама говорила мне об этой программе, была полна энергии и уверенности!
– Ну что ж, возможно, она ждала, сэр, услышать в ответ, что Англия всей своей мощью готова их поддержать. Но у них самих, кроме благих желаний, нет ничего.
– А Брусилов?
– Две недели назад они послали к нему на фронт какого-то штабс-капитана, но он не вернулся.
– Княгиня сказала, что Брусилов готов поддержать их военной силой.
– Княгиня, сэр, сказала неправду, – тихо ответил Грюсс, глядя на растерянное лицо посла, и продолжал – Разрешите сказать вам нечто более важное. – Он подождал, пока Бьюкенен, не дочитав, положил панку на стол. – Чтобы не терять зря времени, я встретился еще и с банковским казначеем Постниковым. Помните, я вам говорил о нем в связи с получением от него информации о коммерсанте Грубине? Сейчас он снова сообщил мне серьезные вещи… Во-первых, сам Грубин забрал из личного сейфа в банке все свои ценности. Но это еще не все: оказывается, еще девять финансовых тузов спешно продали свои ценные бумаги, приобрели золото и драгоценные камни, а сегодня с утра ту же операцию проделали еще четверо. Согласитесь, сэр, вот это очень тревожная новость.
– Но кто-то у них ценные бумаги купил? – спросил Бьюкенен, отлично понимая, однако, опасность привезенной Грюссом новости.
– Очевидно, сэр, – кивнул Грюсс– Но те, кто продал, это крысы, которые упорно грызли переборки корабля и теперь с него бегут.
– Куда?
– Кто куда, важно, сэр, что они покидают корабль.
– Но разве корабль уже тонет? – поднял густые брови посол.
– Боюсь, сэр, что, как установлено, крысы всегда чувствуют беду первыми.
– Гм… крысы, – задумчиво усмехаясь, произнес Бьюкенен и вдруг, откинувшись на спинку кресла, спросил строго и требовательно – Назовите, кто именно?
– Грубин, – твердо ответил Грюсс и, заглянув в лежавший на столе блокнот, продолжал – Набутов, Крашенинников, Соловьев, Пахомов.
– Это не крысы, а мыши, – прервал его Бьюкенен.
– Грубин, сэр, не мышь, – продолжал Грюсс, смело смотря на посла. – Этот средний коммерсант опаснее иных крупных финансовых тузов. Все, что я узнал о нем за последнее время, только утвердило меня в прежнем мнении. Грубин – крупная закулисная фигура и явно немецкой ориентации. Более того, я по-прежнему думаю, что он агент Германии. Он не только изъял из банка свои ценности, но он отправил за границу жену. Вы, слава богу, дали мне в отношении Грубина карт-бланш. Позвольте же действовать здесь до конца и не отвлекаться на всякие слухи.
– Вы говорили, что Грубин стоит за спиной Мануса. Что же делает сейчас сам Манус? – спросил Бьюкенен.
– Манус – явление чисто российское, сэр. Он слишком крепко впрягся в тройку императрица – Протопопов – Распутин и, очевидно, как и они, полагает, что ничего страшного, а тем более катастрофического для них произойти не может. Вспомним письмо императрицы, о котором я вам докладывал, оно ведь полно уверенности, что все в порядке и что все к лучшему.
Бьюкенен долго молчал, смотря мимо Грюсса и поглаживая согнутым пальцем свои пушистые белые усы. И вдруг спросил:
– А что Юсупов?
– По-моему, и это блеф. Когда люди затевают подобное дело, они о нем не говорят на всех перекрестках. У Распутина охрана – сам министр внутренних дел, сама царица, и я не допускаю, чтобы угрозы Юсупова не достигли их ушей. Ну а главное – что это дает нам?
– У роковой тройки не станет своего снятого, – легко, почти шутливо произнес Бьюкенен и, откинув голову, закрыл глаза… Еще раньше, когда он в первый раз услышал об угрозе Юсупова убить Распутина, это вызвало у него брезгливое отвращение: типичная азиатчина в политике. А теперь он хватается за это со смутной надеждой, что это принесет какое-то улучшение. Однако говорить об этом с Грюссом, пожалуй, не стоит, он же давно сказал, что Распутин – это несерьезная карта в большой игре.
Они долго молчали. Бьюкенен так и сидел с закрытыми глазами, а Грюсс смотрел на него удивленно и чуть насмешливо.
– Можно мне, сэр, высказать одну идею? – спросил Грюсс. Бьюкенен открыл серые умные глаза.
– …Конечно, я, может быть, и ошибаюсь, сэр, но бегству крыс я придаю огромное значение, вижу в нем огромную опасность. Если ко всему, что происходит, прибавится еще финансовая паника, на союзной нам России можно поставить крест. И я предлагаю эту панику… предусмотреть.
– Каким образом? – поинтересовался посол.
– Нанести удар по первым бегущим крысам, – ответил Грюсс. – Начать с устранения Грубина, пока он еще не исчез.
– Вас смутили лавры Юсупова?
– Нет, сэр. Я считаю Грубина поважнее Распутина. Посмотрите, сэр… Он главный советник банкира Мануса. Почему же он именно сейчас, когда Манус и компания в своей деятельности достигли апогея, решает уйти с арены?
– Да, почему? И почему не бегут Манус и другие? – спросил Бьюкенен.
– Да потому, сэр, что в отличие от Грубина их корни здесь и они запасаются золотом, полагая, что с ним можно будет начать дела и в аду. Но то, что они запасаются золотом, еще один сигнал о начинающейся панике в финансовом мире, этом последнем устое государства…
– Как же вы собираетесь предотвратить панику? – спросил Бьюкенен после долгого молчания и снова закрыл глаза. Все, что говорил Грюсс, было похоже на правду, но признать это вслух он был не в силах и ждал, что Грюсс, развивая свою мысль, даст ему повод для возражений. Нельзя же ему оказаться в положении, когда он должен верить одному Грюесу?..
– Это сделают русские патриоты, которые тоже все это понимают и готовы принять меры. Мы уже говорили с вами о них, сэр.
Бьюкенен не шевельнулся, не открыл глаза. Он прекрасно знает, что имеет в виду Грюсс, решает – пусть Грюсс делает все, что хочет, на свою ответственность.
– Они сейчас наблюдают за Грубиным, – продолжал Грюсс, – и в нужный момент его… устранят. И придадут этому акту широкую гласность. Петроград и вся страна узнают, чем этот акт вызван, и это будет предупреждением всем, кто пытается стать на путь измены России. Это станет примером для других…
– Я в подобных делах профан, – поставил точку Бьюкенен и встал – Кроме того, мне по должности не положено вдаваться в дела вашей службы. Меня интересует только то, что связано с политикой и войной. Благодарю вас за информацию…
Бьюкенен не спеша вышел из комнаты. Грюсс проводил его взглядом и, когда дверь закрылась, сказал негромко:
– Вы уже ни черта не понимаете… сэр.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Генерал-майор Дмитрий Николаевич Дубенский уже четыре месяца безвыездно находился в Ставке, готовил очередные выпуски «Летописи войны». Когда его перевели сюда из генштаба, он страшно возгордился – значит же, была кем-то наверху замечена его благонамеренная приверженность к истории. Шутка сказать – работать рядом с царем, в главной его Ставке. Но вскоре выяснилось, что здесь его попросту не замечают, тут же, куда ни повернись, увидишь сразу трех генералов. А работы невпроворот…
Его официальная должность была – летописец царского поезда, и он был обязан во время поездок царя вести камер-фурьер-ский журнал и на этом материале выпускать еженедельные деся-тистраничные журналы «Летопись войны». Но царь ездил все реже, и теперь его поезд курсировал главным образом между Ставкой и Царским Селом, а в эти рейсы его не брали. Недавно на него возложили еще и наблюдение за изданием иллюстрированных альбомов «Великая война в образах и картинах». Очень не по душе ему эти альбомы, у него по-прежнему неодолимый зуд к сочинительству. Работы над ними без конца, и чуть не по каждому неприятности: то напечатали портрет не того генерала, какого надо, то дали неточную подпись под снимком. Весь день он крутится с этими изданиями, и у него нет времени заниматься своим любимым детищем – выходящей в Петрограде газетой «Русское чтение», а в ней недавно напечатали бог знает что про политику. Он написал резкое письмо редактору Русакову, а тот ответил, что, если газета не будет откликаться на нужды общества, она потеряет последних подписчиков, а редакция уже сейчас тратит последние остатки правительственной ссуды… Нынешней политики Дубенский так боится, что решил от греха подальше в скором времени газету закрыть – она стала опасной и марает его имя.
В этот вечер он уже собирался уйти домой, как прибежал посыльный – его срочно просили явиться в оперативный отдел. Убрав со стола бумаги и заперев их в железный шкаф, Дмитрий Николаевич одернул свой мешковатый китель и, тяжело вздохнув, отправился к оперативникам. Ходить туда он не любил, там война чувствовалась особенно близкой, а именно там говорили о ней цинично, иногда прямо бесстыдно. Кроме того, штаб-офицеры любили подтрунивать над ним и над его работой. Хотя бы к возрасту имели почтение, как-никак через год шестьдесят стукнет, так нет же, не щадят… Особенно едко глумился над ним штабс-капитан Лемке…
В просторной комнате, как обычно, стрекотали, щелкали установленные вдоль стен телеграфные аппараты ЮЗа, с которых ползли в плетеные коробки бесконечные бумажные ленты. Офицеры, сидевшие за огромным столом, прочитывали ленты, резали их и наклеивали на листы твердой синей бумаги. Этой комнаты Дубенский опасался еще и потому, что сюда в любую минуту мог выйти из своего кабинета генерал Алексеев, которого он так боялся, что при виде его терял дар речи…
Только он вошел и комнату, тут как тут главный злослов и ерник Лемке:
– Простите великодушно, Дмитрий Николаевич, что оторвали вас от сверхважной для отчизны работы. Но нам тут случайно и с большим запозданием попалось в руки ваше живописное издание… вот оно – одиннадцатый выпуск, – он открыл альбом на середине… – Вот, посмотрите, сделайте нам одолжение… – Другие офицеры подошли к ним, обступили со всех сторон. Оглянувшись на них, Лемке продолжал своим въедливым голосом – Вы тут решили мощно поддержать наш Кавказский фронт. Правда, несколько спустя после драки, ибо люди с нормальной памятью уже забыли, что такое Эрзерум. Ну ладно, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но мы тут растревожились: как бы великий князь Николай Николаевич не призвал бы вас к ответу вот за эти фотоснимочки. Смотрите! Что на этом снимке? Ясно виден один пулемет. Один. Пулемет. Так? А в подписи под снимком сказано – «часть турецких орудий, захваченных в Эрзеруме». Где же тут орудия? Может, их заслонили вот эти стоящие плотно казаки в папахах? Но тогда это надо было пояснить… – Офицеры рассмеялись. Дубенский слепо смотрел на снимок, весь сжался и молчал – возразить ему было нечего… А Лемке перелистнул страницу и продолжал – А тут еще похлеще. Смотрите. На снимке явно дровяной склад, а точнее сказать – груда жердей, которые при желании можно пересчитать. А что в подписи? Читаем: «Подсчет военной добычи, захваченной нашими войсками». Ай-яй-яй, Дмитрий Николаевич, как же это вы такого не заметили? А если это заметит великий князь? Он же понимает, что за этими жердями в такие далекие дали лезть ему было совсем необязательно, таких жердей можно было, и главное – без потерь, нарубить под Рязанью…
Офицеры еще смеялись, когда распахнулась дверь и в комнату вошел генерал Алексеев, а за ним – полковник, лицо которого Дубенскому показалось знакомым. Но разглядывать да вспоминать было не ко времени. Он вытянулся, замер, выпятив грудь, прижимая к боку локтем альбом, взятый у Лемке.
И вдруг грозный Алексеев обращается к нему и говорит своим железным голосом:
– Очень вы запаздываете со своими красивыми альбомами. Так может случиться, что мы и войну проиграем, а вы все еще будете рассылать победные картинки времен покорения Крыма… – И без паузы уже к оперативникам – Покажите полковнику всю переписку с Юго-Западным фронтом по поводу пополнений и резервов… – Генерал круто повернулся и ушел к себе.
Дубенский продолжал стоять навытяжку.
– Вольно… – прыснув, произнес полковник Лемке и обратился к полковнику – Прошу вас к этому столу…
Но полковник подошел к Дубенскому:
– Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, неужто не узнали?
– Да как же не узнать? – Память у Дубенского включилась. – Караганов? Петр Нилыч?
Они обнялись.
– Где вы тут сидите? – спросил полковник.
– По коридору последняя дверь направо.
– Как освобожусь, непременно зайду…
– Буду очень рад…
Вернувшись в свою комнату, Дубенский долго не мог сообразить, за что ему взяться.
И вдруг он точно услышал снова железный голос генерала Алексеева: «Мы и войну проиграем, а вы все еще будете…» То, что относилось в словах генерала к нему и его работе, сейчас не помнилось в точности, но вот эти слова «мы и войну проиграем…». Как он только мог произнести такое? Дубенский не решался даже в памяти повторить это…
В это время в дверь постучали, и в комнату зашел полковник Караганов. Когда-то они вместе учились в академии генерального штаба, но Дубенский ее не окончил – его взяли на работу в генштаб. В академии они дружили – оба старательно учились, вместе просиживали ночи за учебниками. Сближало их и то, что оба они были не из состоятельных семей и денег у них всегда было в обрез…
Сейчас им почти по шестьдесят, и Дубенский не без тревоги вглядывался в постаревшее лицо товарища, думая, что и он сейчас видит его таким же.
– Так ты, значит, на Юго-Западном? Повезло тебе, – сказал Дубенский, думая, что он-то свою военную судьбу зарыл в канцелярщине.
– В чем же ты видишь везение? – поднял сизые, выгоревшие брови Караганов.
– Быть рядом с такими заслуженными генералами… у вас же там и Брусилов… – начал Дубенский, но Караганов перебил его:
– Во-первых, я с ним не рядом, – сказал он, явно злясь. – Во-вторых – и это главное, – мы имеем такую войну, когда ничего не может дать близость даже с военным гением. Мы ведь с тобой знаем все про войну Пуническую, но мы понятия не имеем, что, оказывается, есть еще войны преступные, а участвуя в такой войне, все наши академические знания лучше забыть.
– Я тебя не понимаю… – еле слышно проговорил Дубенский, испытывая нервный озноб от прихлынувшего к сердцу уже привычного страха.
Караганов смотрел на него удивленно и недоверчиво:
– Не понимаешь?.. А ты что же, считаешь, что наша война протекает нормально и по всем тем канонам, которые мы с тобой изучали?
– Трудно, конечно… Очень сильный и коварный противник… Недостаток опытных офицерских кадров… – неуверенно ответил Дубенский.
Нетерпеливо дождавшись паузы, Караганов сказал:
– А ты вспомни пашу страшную катастрофу в Пруссии. Было только начало войны. Армия была хорошо отмобилизована. Офицеров было предостаточно, во всяком случае генерал Самсонов застрелился в окружении блистательных офицеров. Почему же мы так срамно проиграли тогда это сражение?
– Ну… я не знаю…
– А я знаю! – решительно и со злостью подхватил Караганов. – Я начал войну там, дорогой Митя. И для того чтобы понять, что уже тогда все пошло преступно, достаточно ответить на один вопрос: почему не подоспел к Самсонову со своими войсками Ре-ненкампф?
– Ошибки в стратегии и тактике бывали всегда…
– Митя, опомнись! Оглянись! Подумай! – воскликнул Караганов. – Вспомни простейшую науку, которую мы слышали из уст профессора Кузнецова! Он говорил нам – войну делают люди, но война единственная область, в которой один какой-то человек совершать ошибки не имеет права, ибо любая ошибка измеряется жизнью таких же, как он, людей. А люди, находящиеся во главе войны, должны быть чисты и умны, как боги. Помнишь? Не считаешь ли ты богом великого ростом князя Николая Николаевича?
А ведь это он ринул наших солдат в Пруссию, с криком «на Берлин!», и только для того, чтобы угодить нашим мифическим союзникам! Разве он не соображал, во что это может вылиться? Он же мог это выяснить в течение десяти минут, подойдя к карте военных действий и имея в руках справку о наличном составе солдат и техники. А теперь этому скандально провалившемуся полководцу надевают горностаевую мантию за Эрзерум. Ты можешь мне пояснить, что нам дает этот Эрзерум, кроме новых русских могил и крови на чужой далекой земле? – Караганов вынул из кармана мятую пачку папирос, но, точно решив не закуривать, положил ее на стол… – Ты вот вспомнил Брусилова. Так он и мой бог. Но почему, когда он начинал свое славное наступление, другие фронты, которые должны были его поддержать, стояли на месте? Что же, ваш Алексеев был в это время в отпуску? И всякие эверты делали что хотели? Нет, Алексеев был на месте. В разгар наступления Брусилов связался с ним, просил изменить один частный приказ Ставки и тем спасти солдатские жизни, знаешь, что он ему ответил? Государь спит, и будить его он не будет. И тогда Брусилов изменение приказа взял на свою ответственность. Скажи, так можно воевать серьезно? Государь изволят спать, а его подданные должны идти на бессмысленную смерть? Митя, неужели ты ничего этого не видишь? Да перестань ты на меня таращиться, скажи хоть что-нибудь! – истерично выкрикнул Караганов, схватил со стола пачку и начал трясущимися пальцами доставать из нее папиросу и, не закурив, бросил ее на пол и продолжал уже спокойней: – Митя, дорогой мой! Вся эта война преступна перед святым ликом России и нашего многострадального народа, чьей кровью это преступление щедро оплачивается. Неужели ты этого не понимаешь? Дубенский молчал, испытывая непреодолимое желание возражать, защитить… Что защитить? Россию? Или самого себя от нахлынувшего ужаса? А может?.. И он решил выдвинуть как щит самое святое:
– Государь-император… – начал он, но Караганов резко взметнул руку:
– Не трогай его… Он виноват только в том, что биологический случай возвел его на престол, который ему не по силам, и что он сразу же от него не отрекся… Он безвольный и бессильный человек.
– Это не так! – крикнул Дубенский.
– Нет, Митя, так… – тихо и обреченно произнес Караганов и, помолчав, добавил – Через час мой поезд… Покачу обратно в свою пропасть… – летуче улыбнулся Дубенскому – А я-то, увидев тебя, обрадовался, ну, думаю, Митя скажет мне что-то такое, чего мы там не знаем и что станет нам надеждой… Впрочем, что можешь сказать ты, если подлинный хозяин войны Алексеев, прочитав донесение Иванова, возмущенно воскликнул: «Этого не может быть», и повел меня в оперативный отдел, чтобы я убедился, что истина иная. Однако известно, что двух истин об одном и том же не бывает. Оказалось, прав Иванов, и тогда Алексеев сказал только, что доложит все верховному, и отпустил меня на все четыре стороны. – Караганов вдруг как-то странно рассмеялся: – А если сильного резерва нет, государь народить его не может… даже со своей плодовитой супругой… – Он встал, протянул Дубенскому руку и, глядя на разбросанные по столу бумаги, сказал с усмешкой – Завидую я тебе, Митя… – Он крепко, но как-то отрывисто пожал Дубенскому руку и ушел, забыв на столе свою мятую пачку папирос…
Дубенский работать не мог, чувствовал себя раздавленным…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Штабс-капитан Лемке генерала Дубенского недолюбливал, называл его царским лакеем, удобно устроившимся у царской кормушки, он и изводил генерала главным образом для того, чтобы он не чувствовал себя слишком спокойно на своей безмятежной службе…
Никто в Ставке не знал, что обер-офицер управления генерал-квартирмейстер Ставки штабс-капитан Михаил Константинович Лемке ведет подробнейший дневник, в который он заносит не только и не столько свои личные впечатления, как свидетельства участников или очевидцев важнейших событий войны, кроме того, он снимал копии с проходивших через его руки важных документов и вкладывал их в дневник. Он делал это очень осторожно, главным образом по ночам, ибо ведение дневников в таком военном учреждении, как главная Ставка, никак не поощрялось. Особенно осторожным он стал после того, как один из крупных работников Ставки по дружбе предупредил его, что им интересуется военная контрразведка. Позже, правда, выяснилось, что этот интерес был вызван его весьма давней связью с эсеровским журналом «Былое». В общем, Ломке надо было смотреть в оба, тем более что его дневник все глубже забирался в дебри бесславных дел войны и политики.
В этот вечер он переписывал начисто запись, бегло сделанную днем…
«…Имел два разговора, полных большого интереса, – писал он. – Зашел в комнату Пустовойтенко по его приглашению, просто поболтать. По-видимому, он соскучился и хотел немного отвлечься от ежедневно расписанной жизни. Мы вспомнили Варшаву, нашу поездку в его тамошнее имение, революционные настроения 1905 года. В это время вошел Алексеев и, поздоровавшись со мной, сел, прося продолжать нашу беседу, и прибавил, что пришел потому, что в его кабинете печь надымила.
– О чем же у вас речь?
– Просто вспоминаем старое, когда встречались друг с другом в совершенно другой обстановке.
– Дань прошлому за счет тяжелого настоящего?
– Не то что дань, – ответил Пустовойтенко, – а просто некоторое отвлечение.
– Да, настоящее невесело…
– Лучше ли будущее, ваше превосходительство? – спросил я без особенного, впрочем, ударения на свою мысль.
– Ну это как знать… О, если бы мы могли предугадывать без серьезных ошибок! Это было бы величайшим счастьем для человека дела и величайшим несчастьем для человека чувства.
– Верующие люди не должны смущаться таким заглядыва-нием, потому что всегда будут верить в исправление всего высшею волею, – вставил Пустовойтенко.
– Это совершенно верно, – ответил Алексеев. – И вы знаете, ведь и живешь мыслью об этой высшей воле, как вы сказали. А вы, вероятно, не из очень-то верующих? – спросил он меня.
– Просто атеист, – посмеялся Пустовойтенко и отвел от меня ответ, который мог бы завести нас в сторону, наименее для меня интересную.
– Нет, а я вот счастлив, что верю, и глубоко верю, в бога, и именно в бога, а не в какую-то слепую и безличную судьбу. Вот вижу, знаю, что война кончится нашим поражением, что мы не можем кончить ее чем-нибудь другим, но вы думаете, меня это охлаждает хоть на минуту в исполнении своего долга? Нисколько, потому что страна должна испытать всю горечь своего падения и подняться из него рукой божьей помощи, чтобы потом встать во всем блеске своего богатейшего народного нутра…
– Вы верите также и в это богатейшее нутро? – спросил я у Алексеева.
– Я не мог бы жить ни одной минуты без такой веры. Только она и поддерживает меня в моей роли и моем положении… Я человек простой, знаю жизнь низов гораздо больше, чем генеральских верхов, к которым меня причисляют по положению. Я знаю, что низы ропщут, но знаю и то, что они так испакощены, так развращены, так обезумлены всем нашим прошлым, что я им такой же враг, как Михаил Саввич, как вы, как мы все…
– А вы не допускаете мысли о более благополучном выходе России из войны, особенно с помощью союзников, которым надо нас спасти для собственной пользы?
– Нет, союзникам вовсе не надо нас спасать, им надо только спасать себя и разрушать Германию. Вы думаете, я им верю хоть на грош? Кому можно верить? Италии, Франции, Англии? Скорее Америке, которой до нас нет никакого дела… Нет, батюшка, вытерпеть все до конца – вот наше предназначение, вот что нам предопределено, если человек вообще может говорить об этом…
Мы с Пустовойтенко молчали.
– Армия наша – наша фотография. Да это так и должно быть. С такой армией, в ее целом, можно только погибать. И вся задача командования – свести эту гибель к возможно меньшему позору. Россия кончит прахом, оглянется, встанет на все свои четыре медвежьи лапы и пойдет ломить. Вот тогда, тогда мы узнаем ее, поймем, какого зверя держали в клетке. Все полетит, все будет разрушено, все самое дорогое и ценное признается вздором и тряпками.
– Если этот процесс неотвратим, то не лучше ли теперь же принять меры к спасению самого дорогого, к меньшему краху хоть нашей наносной культуры? – спросил я.
– Мы бессильны спасти будущее, никакими мерами этого нам не достигнуть. Будущее страшно, а мы должны сидеть сложа руки и только ждать, когда же все начнет валиться. А валиться будет бурно, стихийно. Вы думаете, я не сижу ночами и не думаю хотя бы о моменте демобилизации армии?.. Ведь это тоже будет такой поток дикой отваги разнуздавшегося солдата, который никто не остановит. Я докладывал об этом несколько раз в общих выражениях, мне говорят, что будет время все сообразить и что ничего страшного не произойдет: все так-де будут рады вернуться домой, что ни о каких эксцессах никому и в голову не придет… А между тем к окончанию войны у нас не будет ни железных дорог, ни пароходов, ничего – все износили и изгадили своими собственными руками…
Кто-то постучал.
– Войдите, – ответил Алексеев.
– Ваше превосходительство, кабинет готов, доложил полевой жандарм.
– Ну, заболтался я с вами, надо работать, – и пошел к себе.
Я вспомнил всех чертей по адресу не вовремя явившегося жандарма, мне так хотелось довести разговор до более реального конца.
– Вы думаете, – спросил меня Пустовойтенко, – что начальник штаба будет сейчас работать? Нет, после таких бесед у него всегда только одно желание: помолиться.
– А ваше мнение, Михаил Саввич, тоже такое же?
– Я по складу своего мышления мало гадаю о будущем, а пристально всматриваюсь в настоящее.
– И каким же находите его в пределах нашего прерванного разговора?