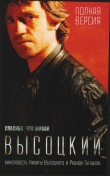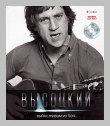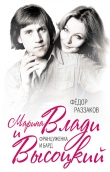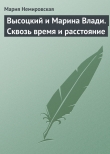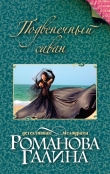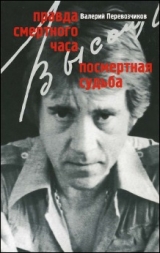
Текст книги "Правда смертного часа. Посмертная судьба"
Автор книги: Валерий Перевозчиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
ГЕНИЙ?
Талант делает то, что может, гений – то, что хочет.
Проблему, которая, безусловно, волнует всех, работающих со словом: останется ли им сделанное? Будет ли творчество жить и после смерти творца? Владимир Высоцкий был уверен, что останется и будет жить. Хотя у него были периоды неуверенности в себе, но что ему дано В.В. знал всегда.
Из ранних свидетельств и воспоминаний… На вопрос из анкеты
A. Меньшикова: «Хочешь ли быть великим?» Высоцкий твердо отвечает: «Хочу и буду!» По-разному передают знаменитый разговор
B. В. с Н. Р. Эрдманом. Вот один из вариантов. Эрдман спрашивает: «Как вы пишете, Володя?» – «На магнитофон, Николай Робертович… А вы?» – «А я – на века…» – «Вы знаете, Николай Робертович, я ведь тоже кошусь на эти самые века».
Приведем запись из дневника Валерия Золотухина: «2.03.1969. 300-й (спектакль «Антимиры» – В.П.) прошел прекрасно, сверх ожиданий. Читал Андрей (Вознесенский. – В. П.), потом– ВТО. Я удивился Высоцкому – какая у него глотка! Феномен. Кажется, предел – все, дальше ничего не будет: оборвется. А он еще выше, еще мощнее и звонче издает звуки. Начали мы с ним «Баньку», мне не пелось, и тональность я не выдерживал, а он за двоих шпарил, да еще по верхам, да еще с надрывом, ох, молодец! Андрей повернулся: «Володя, ты гений!»
Восприятие творчества Высоцкого знаменитыми поэтами-современниками – тема отдельной статьи. Отметим, что восхищенные оценки чаще всего относились именно к голосу, к песне как таковой, а не к стихам В. В. Так что сомнения у Высоцкого были, их просто не могло не быть…
Вспоминает Вадим Иванович Туманов: «Однажды мы вместе с Володей достали по экземпляру «Наполеона» Манфреда… Володя читал-читал, вдруг вскочил, обрадовался: «Слушай, Вадим! И великие падали в обморок!» А там есть эпизод, когда Наполеон выступает в Конвенте или в Собрании Пятисот – не помню точно – и ему стало плохо, Володя был счастлив: «И настоящие великие падали в обморок!»
Теперь обратимся к более поздним воспоминаниям. К этому времени Высоцкий прекрасно сознавал и величину своего дара, и свое предназначение. Рассказывая Игорю Шевцову о своих выступлениях в США, В. В. не без удовольствия заметил, что американские газеты написали: после Есенина еще ни одного русского поэта не принимали так хорошо, как Высоцкого. Вспоминает Олег Николаевич Халимонов: «В феврале 1975 года – я тогда работал в Лондоне– к нам приехали Володя и Марина. Я не видел их года два, не слышал новых Володиных песен… Володя спел «Купола» и еще несколько новых вещей. Они меня просто поразили: «Володя, ты гений!» Он перебирал струны, положил на них ладонь, поднял голову: «Ну вот… Наконец и ты это понял».
Возможно, на такую самооценку (самоощущение?) повлиял разговор Высоцкого с тремя поэтами – Слуцким, Самойловым и Межировым. Свидетельство В. Смехова: «…Он вернулся с этого свидания буквально оглушенным, взахлеб пересказывая детали. Как они, живые классики поэзии, его выслушали, затем обсуждали на предмет возможных публикаций… Но сейчас отмечу, прежде всего, важнейшую из деталей. Более всего автор был изумлен их, поэтов, изумлением… Они подарили ему анализ его необычайного, оказывается, таланта».
В последние годы одним из самых близких для В. В. людей была Оксана Афанасьева – тогда студентка одного из московских вузов… Вспоминает Оксана: «Володя считал себя гениальным и неоднократно говорил об этом. Он мне показывал на ладони линию гениальности, которая есть только у него, а ни у кого другого нет… Кстати, у Пушкина он любил то самое: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»
И еще один рассказ на эту тему. Рассказ человека, которого В. В. очень ценил и мнением которого очень дорожил. Михаил Шемякин: «…И вот я взял его за эту желтую куртку, слегка тряхнул и говорю: «Володя, опомнись. Ты не имеешь права так поступать! Ты знаешь, что ты – гений?!» Он так мрачно на меня посмотрел и как-то мрачно-мрачно ответил: «Знаю».
Конечно, Высоцкий не был «непризнанным гением» в классическом, так сказать, смысле, но все же… В. Янклович: «Меня все время гложет мысль: если бы кто-нибудь из больших поэтов сказал Володе при жизни: «Ты – гений!» – сказал бы это в серьезном разговоре… Но ведь такого серьезного разговора у него ни с кем не произошло. И здесь была трагедия… Да, успех! Да, знал, что его любят люди! Но уровень восприятия?! Ведь Володя воспринимал себя на уровне Есенина, Пастернака… А ведь на самом деле так оно и было…»
АРКАДИЙ И НИКИТА
(Разговор с Л. Абрамовой)
– Аркадий Владимирович Высоцкий… Я знаю, что в школе он увлекался астрономией, даже проводил экскурсии в Московском планетарии.
– Да, Аркадий закончил математическую школу, он увлекался астрономией. Но чем старше он становился, тем больше понимал, что его увлечение астрономией имеет под собой гуманитарное основание. Это любовь к научной фантастике, особенно к романам братьев Стругацких, в общем, романтическая, поэтическая сторона астрономии. Он просто понял, что это не его дело. А фактически, он проучился год в МГУ, на факультете вычислительной техники.
– Но ведь он поступал в МФТИ?
– Он сдал все экзамены, набрал приличные баллы, но Володина биография была причиной того, что Аркадия туда не приняли. Для приемной комиссии имело значение, что отец женат на иностранке и часто бывает за границей.
– А Владимир Семенович не пытался помочь?
– Аркадий пробовал с ним поговорить – посоветоваться, что делать, если он не поступит… Потому что за год до этого Володя говорил мне, что он хочет устроить судьбу детей. Пусть они назовут любой институт, а он заранее договорится, – будь то МГИМО или Литинститут. Кстати он хотел, чтобы Никита пошел в Институт военных переводчиков. Кстати, того же хотела моя мама, которая закончила этот институт. Они мечтали, чтобы Никита стал офицером, интеллигентным офицером.
– А после МГУ Аркадий сразу поступил во ВГИК?
– Нет, сначала он некоторое время работал в артели Вадима Ивановича Туманова, а потом поступил во ВГИК. Стихи он писал давно, прекрасно писал, но со стихами на сценарный факультет не принимают. И во ВГИК он сдал – на творческий конкурс – повесть о своем детстве, о юности… Эта повесть комиссии понравилась.
Я должна сказать, что при поступлении сыновей в творческие институты, – ни Никите в 1981 году, ни Аркадию в 1984 году, – фамилия отца помочь не могла. В эти годы фамилию «Высоцкий» произносили неохотно. Ну а ВГИК – это не то место, где Володин авторитет был особенно велик. Так что оба поступали, скорее вопреки, чем благодаря своей фамилии.
– Но стихи Аркадий продолжал писать – и во время учебы во ВГИКе и позже?
– Да, и показывал их Валерию Золотухину, который вообще в его судьбе принимал большое участие. Валерию Сергеевичу стихи нравились. Нравились они и Леониду Филатову.
– В этом смысле у меня есть некоторая гордость: впервые стихи Аркадия были опубликованы у нас на Ставрополье, в журнале «45-я параллель».
– А мы с Аркадием этим ужасно гордились – это действительно его первая публикация, еще до выхода книги. И вообще, нам очень нравилось это издание.
Во ВГИКе Аркадий защищал диплом по уже снятому фильму «Теплый зеленый огонь козы». А снят этот фильм был на Киевской киностудии – режиссером Толей Матешко. В это же время шла работа над вторым фильмом по сценарию Аркадия, тоже на Киевской студии, там есть прекрасный режиссер, очень талантливый человек – Лесь Танюк. Я думаю, Аркадий не шутил, когда говорил, что готов переехать в Киев для профессиональной работы. Но, к сожалению, человек предполагает, а Бог располагает, – и это не состоялось. Аркадию больше не удалось сделать ничего на экране, хотя пишет он много, в том числа и киносценариев.
Сейчас Аркадий работает на телевидении, там его учителем и руководителем был Владимир Владимирович Познер. Не так давно перешел на Российский канал – в музыкальную редакцию. 25 января сделал передачу об отце – очень интересная работа. «Субботний вечер с Виктюком» – это была, скорее, литературная передача. К 9 мая, к дню рождения Булата Шалвовича Окуджавы, Аркадий сделал фильм о нем.
Он встречался с Булатом Шалвовичем за несколько месяцев до его смерти: к сожалению, Аркадию не удалось записать интервью – Булату Шалвовичу нельзя было волноваться. Сын понимал, что вывести его на откровенный разговор – это могло быть очень опасно. И сценарий, и выбор песен Окуджава одобрил, и вообще, он контролировал весь процесс подготовки передачи. И вот теперь его не стало…
– А как складывалась судьба вашего младшего сына – Никиты Владимировича Высоцкого?
– Профессиональная судьба Никиты складывалась непросто. Первый год после школы он работал на заводе, потому что ему надо было поработать с логопедом, – устранить некоторые речевые недостатки. Потом он поступил в Школу-студию МХАТ – туда же, где учился Володя Попал на курс Олега Николаевича Ефремова, а его педагогами были Алла Покровская и Андрей Мягков – очень сильный педагогический состав. Я думаю, что на то время это была лучшая театральная мастерская в Москве, и Никита очень много получил от этих людей.
Весь курс был достаточно интересен, и спектакли они ставили заметные. Композиция по «Горю от ума» и выпускной спектакль «Вестсайдская история» стали событиями в истории студии. После окончания Никита ушел в армию. Вначале он служил во Львове, а последние полгода – в Москве, в Театре Советской Армии. В это время он уже репетировал и даже играл в «Современнике-2» у Галины Борисовны Волчек. Было такое молодежное отделение театра, которым руководил Миша Ефремов, там Никита сыграл несколько спектаклей.
Потом, когда армейский срок у Никиты закончился, он организовал свой театр, который назывался Московский маленький театр. Там было несколько спектаклей, которые поставил Рашид Тугушев, а помогал в постановках Роман Виктюк. Он проверял их режиссерские партитуры, советовал, принимал спектакли. Были там интересные работы, например, пьеса Николаи «Не пятое, а девятое». А лучшим спектаклем, пожалуй, была «Бездна» Леонида Андреева.
Все шло хорошо, но через какое-то время оказалось, что не хватает денег на ведение этого театра. Очень дорого стоила аренда помещений, и не только для спектаклей, но и для хранения декораций и реквизита. Один раз их ограбили… Репетировать было негде, спектакли от этого разваливались. Это было очень тяжелое время. В конце концов, после нескольких очень хороших сезонов театр, к сожалению, погиб.
– А было ли приглашение работать в Театре на Таганке?
– Это было, когда Никита заканчивал Студию, и должен был идти в армию. Увиливать от армии он не хотел, хотя это было время афганской войны, и я боялась страшно. Но ведь и официального приглашения Никита не получал, хотя в частных разговорах у Нины Максимовны эта тема поднималась. В это время Любимов был за границей, а театром руководил Эфрос. В общем, тогда всерьез этот вопрос не обсуждался. Я не знаю, если бы Никита обратился к Валерию Золотухину или прямо в художественный совет Таганки… Но он этого не сделал.
– Итак, распался Московский маленький театр.
– К этому времени Никита уже был готов к самостоятельной режиссерской работе. Он сделал довольно интересный фильм, который был посвящен, упрощенно говоря, проблеме межрелигиозного и межнационального общения и проникновения в другой духовный мир, в другую ментальность. И решалось это не сюжетными коллизиями, а чисто режиссерскими средствами. Сюжет безумно прост.
Человек приезжает в азиатскую страну, ходит по ней, смотрит и пытается что-то понять. И понимает. Это была хорошая режиссерская работа, а еще у него была огромная роль, и Никита ее очень интересно сделал.
– А когда Никиту стали приглашать в спектакль Театра на Таганке «Владимир Высоцкий»?
– В самое трагическое время для труппы Любимома, в момент острого раскола театра. Когда этот внутренний раскол превратился и оформился почти в государственную границу. В это время Никита – еще при всем старом актерском составе – сыграл несколько раз, частично заменив Леонида Филатова. Филатов к этому времени был уже болен, но он видел, как Никита репетировал, Никита с ним советовался.
У Никиты ни с одним человеком в Театре на Таганке нет враждебных отношений. Но, с другой стороны, никогда даже не обсуждался вопрос, где играть: в труппе Губенко или в театре Любимова. Его сердце, его душа – всегда были вместе с Юрием Петровичем. Любимов – учитель его отца, и его учитель. Никита видит достоинства и недостатки спектакля, и с огромной болью понимает, что спектакль постарел и устарел. Но верность есть верность. Ведь и Володя – что бы он ни видел и ни понимал, какие бы сложности ни были у него в человеческих и творческих взаимоотношениях с Любимовым – был верен Таганке до конца.
– Недавно Никита стал директором Музея Высоцкого.
– Никита решился на это ради памяти своего отца и ради бабушки. Для Нины Максимовны в этом музее сосредоточена вся ее духовная жизнь, все ее интересы и надежды. Никита решился взять это на себя, что очень тяжело еще и потому, что своей творческой жизни у него теперь не стало. На это абсолютно нет времени. Он проводит в музее очень много времени и отдает музею очень много сил.
– А отношения Никиты Высоцкого и Марины Влади?
– Валерий Кузьмич, я на конфликтные вопросы стараюсь не отвечать. Но могу сказать вот что… Некоторые сведения о том, что Марина Влади не желает говорить о жизни и творчестве Владимира Семеновича, я бы перевела такими словами Высоцкого:
Сыт я по горло, сыт я по глотку,
Даже от песен стал уставать…
Она хочет жить той частью своей жизни, которая принадлежит только ей. У нее другая семейная жизнь, она занимается литературой… Ни я, ни она не обязаны комментировать ее взаимоотношения с кем-то третьим.
А вообще, свои обиды человек должен забывать. И когда Никита стал директором Музея Высоцкого, для него Марина – не просто интересная личность, но это первый, ближайший круг общения его отца. Марина повлияла на жизнь и творчество Владимира Семеновича, занимала огромное место в его песенном творчестве. Поэтому Никита был готов к контактам, он обращался к Марине. И понял ее отказ именно так, как я только что сказала.
Тем более, что времени прошло много, и строить жизнь на прошлом невозможно. А чем больше проходит лет, тем дальше отступают те, когда-то конфликтные, позиции. Что касается сыновей, то я нисколько не сомневаюсь, что самая лучшая жизнь – это та, которая строится своими руками. И жить в тени отца – это очень большой крест. Частично это компенсируется – иногда моральной, иногда материальной поддержкой. Но я уверена, что ответственность перевешивает. Трудно быть сыновьями гениального человека, и чем дальше – тем труднее.
ПАМЯТНИК
В таких святых местах ничего так просто не делается.
М.Шемякин
Драматическая история памятника на могиле В.С.Высоцкого началась уже 28 июля 1980 года. Ночью после похорон кто-то украл (взял на память?) стандартный колышек «Владимир Высоцкий. 1938–1980».
Каким быть памятнику? Вначале все решает вдова– Марина Влади, родители практически не вмешиваются. В. Абдулов: «Марина сама занималась скульптурой, она сразу сказала, что изображения не должно быть:
– Нужно найти камень, похожий на Володю…»
Это подтверждает врач-реаниматолог Леонид Сульповар: «Еще до похорон Марина говорила, что никакого изображения не надо – надо поставить каменную глыбу… С самого начала у нее была эта идея».
Марина Влади обращается к близкому другу В. В. Вадиму Ивановичу Туманову: «Марина хотела поставить на Володиной могиле какой-нибудь дикий необыкновенный камень:
– Пусть он будет некрасивый, но он должен передавать образ Володи…
Попросила меня найти такой. Я нашел – это была разновидность трактолита… Камень возрастом 150 миллионов лет, вытолкнутый из глубин земли. Поражала его невероятная целостность: при ударе молотком он звенел, как колокол».
Камень был доставлен в Москву, но к этому времени появляется новый проект: настоящий небесный метеорит, вправленный в строгий земной камень – гранит. Давид Боровский – главный художник Театра на Таганке: «Сама идея принадлежала Марине, а я пытался ее воплотить».
А. Демидова: «Я не помню, кому пришло в голову, что надо найти кусок метеорита или астероида, положить его на могилу Высоцкого, а внизу мелкими буквами написать: «Владимир Семенович Высоцкий. 1938–1980». Чтобы человек, читая, невольно наклонялся – кланялся этому астероиду и могиле Высоцкого, и старой церкви за ней, и всему кладбищу».
Проходит год, два… Памятника на могиле все еще нет. Марина Влади: «Я должна сказать, что состояние могилы вселяло в меня радость: горы свежих цветов, меняющиеся каждый день, зимой и летом, руками друзей, – что может быть лучше?» Необходимое уточнение: «руками друзей» – это значит руками Нины Максимовны Высоцкой и ее добровольных помощниц. Они каждую субботу наводят на могиле порядок и слышат не очень приятные разговоры…
– Такие богатые, а памятник поставить не могут…
– Может поставить тарелочку – люди и соберут…
– Марина привезет памятник из Франции – уже готов.
Но могила убирается действительно – руками друзей: отношение Марины Влади и Нины Максимовны остаются практически такими же, как и до смерти Владимира Высоцкого. Марина говорит соседям, что наша мама для нас так много сделала. И Нина Максимовна искренне любит свою сноху. Да и было за что… Вот только один эпизод из ранних времен. Вспоминает сосед Высоцких еще по 1-й Мещанской Михаил Яковлев: «Однажды Нина Максимовна пришла к моей тете– одно время мы с мамой (Гисей Моисеевной. – В. П.) жили у нее – и рассказала:
– Представляете, возвращаюсь после работы усталая, вымотанная… Падаю на стул, вытягиваю руки и ноги. И вдруг Марина – кинозвезда с мировым именем – стягивает с меня сапоги. Меня это тронуло до слез».
Отношения с Семеном Владимировичем не такие безоблачные… Марина Влади, обращаясь к нему, пишет в своей книге: «Вы несколько раз намекали мне, что Ваше последнее пристанище будет рядом с сыном. Я ответила резко, что это все-таки могила, а не коммунальная квартира». А вот как передавал этот разговор Семен Владимирович Высоцкий: «Она мне заявила: «Нет, это я буду здесь лежать! Могила – это не общежитие, а Володя не любил общежитий».
Дело в том, что к этому времени уже существовало завещание Марины Влади, о котором мало кто знал тогда, а теперь тем более… В. Янклович: «Марина при мне писала: «После моей смерти прошу похоронить меня рядом с мужем…» Это было нотариально заверенное завещание. Она же понимала цену легенды».
В 1982 году объявляется конкурс на лучший проект надгробного памятника В. С. Высоцкому. 25 января 1983 года в Театре на Таганке открывается выставка этих проектов. Прилетает Марина Влади: «Более тридцати работ выставлено в фойе театра. Скульпторы вложили в работу всю душу, каждый по-своему, воздавая должное памяти моего мужа… Мы долго рассматривали каждое произведение – это было печально и прекрасно, но каждый выбирает по себе – и родители остановились на очень похожей скульптуре во весь рост…»
Родителям понравилась работа скульптора Рукавишникова… Но уже готов и проект Боровского, условно называемый «метеорит в камне»… Из этих двух вариантов надо выбирать один. Вспоминает Валерий Павлович Янклович: «Когда все приехали смотреть проект Марины с метеоритом, отец посмотрел и сказал:
– А где она – скульптура?
Ему показывают макет, а он продолжает свое:
– Я не понимаю, что это? И кто это сделал? Кто он такой?
Марина разволновалась, стала объяснять, какой это хороший художник… Ее стали успокаивать… Говорили, что все будет в порядке…» Евгения Степановна Высоцкая (мачеха В. В.) высказалась еще резче: «Я не хочу, чтобы наш ребенок лежал под этим…» Нина Максимовна поехала в планетарий: «Господи, ну металлический еще блестит, а этот – просто камень».
За проект Давида Боровского – Марины Влади активно выступает Ю. П. Любимов: «Была прекрасная идея – положить на могилу кусок метеорита. И ученые давали метеорит. Это уникальный случай – дали настоящий метеорит!»
В. Янклович: «Юрий Петрович ездил к академику Яншину, чтобы «вырвать» этот метеорит… Заседала специальная комиссия, было получено разрешение. Все мы (М. Влади и друзья Высоцкого) и не думали, что речь пойдет о другом проекте. А родители уже на конкурсе как бы нацеливали всех на скульптуру Рукавишникова».
Конечно, родителей– людей уже пожилых– можно понять: они хотели видеть своего сына «как живого». Как сказала Евгения Степановна – «вторая мама»: «Пока мы живы, Володя будет – каким он был…» Н. М. Высоцкая: «Приехали к Рукавишникову. Стоит Володя – монументальный! Ошарашивает! Марина Влади говорит, что это не то…» По свидетельству С. В. Высоцкого, она выразилась еще резче: «Нет, такому памятнику не бывать!»
Кстати, был еще один удачный – и как бы независимый – проект… По воспоминаниям Л. В. Абрамовой, второй жены В. В., небольшая скульптура Геннадия Распопова (Высоцкий с раскинутыми в стороны руками и гитарой за спиной) делалась именно как надгробие: «Но к этому времени родители уже выбрали проект Рукавишникова…» Теперь эта – увеличенная – скульптура Г.Распопова установлена в сквере у Петровских ворот.
Со времени поездки в мастерскую Рукавишникова отношения между родителями и Мариной Влади обостряются, а вскоре и совсем прерываются. Н. М. Высоцкая: «Все началось с того момента, когда Марина поняла, что ее вариант не пройдет… А люди потеряли Володю, они хотели его видеть. Люди ставили его портреты на могилу…»
В. Янклович: «Марина была в шоке! Тут мы поняли, что «проиграли» – Марина написала протест в Моссовет, там его обсуждали, но…» Сыграло свою роль и то, что сыновья Высоцкого поддержали родителей (т. е. своих бабушку и деда). А Марина осталась с друзьями, среди которых уже нет прежнего единства. К тому же она живет в Париже и в Москве бывает редко.
A. Макаров: «Это было именно тогда, когда у меня была доверенность Марины на ведение дел. Марины не было в Москве, я занимался, в частности, и делами памятника. Этот вопрос решался в Главном управлении культуры Моссовета, где мне было официально заявлено, что памятник имеет право устанавливать только то лицо, которое оплатило участок под могилу. Мне также было зачитано письмо отца, сопровождающееся подписями многих генералов и маршалов в защиту проекта Рукавишникова».
B. Янклович: «Кроме того, мы упустили из виду одну вещь. Мы не знали, что после захоронения нужно взять документ о том, кому принадлежит эта могила. А родителей кто-то надоумил это сделать…» Н. М. Высоцкая говорила мне (цитирую по памяти): «Этот клочок земли принадлежит нам… А друзья – если они хотят поставить свой памятник– пусть сделают это на площади…»
В Ленинграде, в 1991 году, Марина Влади сказала, что ее лишили права быть похороненной рядом с мужем. Что же произошло?
В январе 1984 года Марина Влади прилетает в Москву на день рождения В. Высоцкого. Останавливается, как всегда, на Малой Грузинской у Нины Максимовны, которая замечает через несколько дней, что Марина стала какой-то другой, – ей что-то наговорили… А дело в том, что она узнает две вещи: уже заказан скульптору Рукавишникову памятник и родители оформили документы, что захоронение принадлежит им. В. Янклович: «Марина, узнав, что здесь ей ничего не принадлежит, пришла в ужас».
Марина Влади: «Когда Володя умер, я, конечно, ничего не знала о ваших привычках и занималась совсем другими делами… И не пошла платить деньги и взять бумажку… А надо иметь такую бумагу, чтобы потом владеть могилой. Я не хотела владеть – это не моя манера жить… А родители Владимира сделали это сразу после его смерти».
А. С. Макаров: «У меня в архиве хранится один документ.
«В случае моей смерти прошу похоронить меня рядом с моим мужем Владимиром Семеновичем Высоцким. Марина Влади де Полякофф».
На документе есть резолюция: «На основании протеста родителей Владимира Семеновича Высоцкого, являющимися фактическими владельцами данной могилы, решение Моссовета– отказать». Итак, в нашей тогда еще социалистической стране все решило право на землю.
Родители заказывают надгробный памятник Рукавишникову – всеми организационными делами занимается Семен Владимирович Высоцкий. Вспоминает В. И. Туманов: «Семен Владимирович говорит, что Володя будет как живой. Даже родинка есть…»
Но не все так просто – начинаются мытарства родителей. Вспоминает Семен Владимирович Высоцкий: «А сколько нервов нам стоил памятник! В горкоме партии говорят: убрать канаты! Рукавишников спустил немного ниже…» На кладбищах не положено устанавливать памятники выше полутора метров – снова проблемы…
В конце концов, заказ на изготовление памятника поступает на Мытищинский завод художественного литья. По словам С. В. Высоцкого, фигура отлита из самой лучшей бронзы. Надпись на цоколе: «От родителей и сыновей». На чьи средства сделан памятник? В. Туманов: «Вначале был открыт счет, собирали на надгробие. Семен Владимирович сказал, что Рукавишников сделал проект бесплатно». Но надо отметить, что Семен Владимирович оплатил стоимость материалов и заплатил за отливку скульптуры, что было, разумеется, недешево.
А теперь приведем рассказ самого Рукавишникова об истории создания памятника В. Высоцкому: «Памятник у вас нестандартный, – говорили они (тогдашние командиры Главного управления культуры, кое-кто из Министерства культуры, те московские деятели, которые ведают памятниками). Памятник не должен превышать 150 сантиметров, вот инструкция такого-то года.
– Могу сделать 150, опустив его в яму, – говорил я, – но тогда он будет восприниматься еще острее.
А им решительно не нравилось в этой работе, что Владимир Высоцкий изображен со связанными руками и что гитара у него над головой выглядит в определенном ракурсе как нимб. Два года требовали убрать нимб, развязать руки и срезать одну из трех лошадиных морд. Тут уж я пошел навстречу – срезал. Друзья уговаривали: развяжи, убери – все-таки будет памятник! А я помнил Володину песню «Памятник» и стоял на своем. В итоге он такой, каким видится мне. На том и стою».
12 октября 1985 года – открытие надгробного памятника Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище. Марины Влади на этой церемонии нет… В. И. Туманов: «Марина впервые увидела памятник в январе 1986 года. Она прилетела, мы поехали на кладбище – там она расплакалась… С родителями не виделась. Навестила только Евгению Степановну, которая тогда лежала в больнице». В интервью Марина Влади тактично сказала о памятнике: «У меня был другой проект».
Большинству друзей В. В. памятник не понравился. А.Демидова: «Осенью 1985 года мы стояли на открытии бронзового монумента, я вспоминала стихотворение Высоцкого «Монумент» и думала, что и здесь он оказался провидцем».
Приведем позицию – а скорее всего окончательную оценку – Марины Влади в книге «Владимир, или Прерванный полет»: «Отныне на твоей могиле возвышается наглая позолоченная статуя, символ социалистического реализма – то есть то, от чего тебя тошнило при жизни. И поскольку она меньше двух метров в высоту, у тебя там вид гнома с озлобленным лицом и гитарой вместо горба, окруженного со всех сторон мордами лошадей».
В заключение приведем мнение всемирно известного художника и скульптора – друга Высоцкого – Михаила Шемякина: «Мне памятник нравится. Можно было сделать тот «заумный» памятник – камень, осколок метеорита… Но не нужно забывать, что Володя – поэт народный. Хотя он для меня – поэт в самом высоком смысле этого слова и очень утонченный. Но тем не менее эта любовь всенародная существует.
Иногда произносятся речи в честь кого-то– и без этого тоже нельзя, тот памятник как бы произнесенная речь, без которой не обойтись. Я понимаю, что, может быть, это не шедевр и не совсем то, что хотели бы видеть друзья… Но друзья могут нормально прийти и просто помолчать минуту…
Пусть он слишком расшифрован, если можно так сказать. Но ведь он сделан довольно давно, верно? (Интервью 26 марта 1989 г.) Памятник был сделан в нужный момент – там есть эта закованность…
Люди ведь идут – туда приходит вся Русская земля – поклониться. Поэтому нужен какой-то образ. И я думаю, что в таких святых местах ничего так просто не делается. Раз уж Бог так решил, значит так нужно».