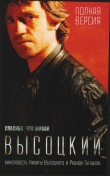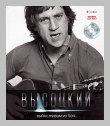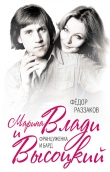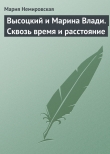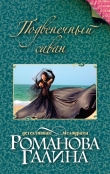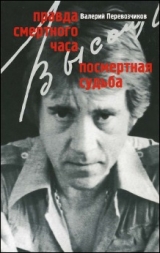
Текст книги "Правда смертного часа. Посмертная судьба"
Автор книги: Валерий Перевозчиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Мандельштамом сказано – я боюсь, что недостаточно грациозно воспроизведу его формулу, – но сказано приблизительно вот что
Смерть поэта есть его художественное деяние. То есть смерть поэта не есть случайность в сюжете его художественного существования…
Я полагаю судьбу Высоцкого совершенной, замкнутой, счастливой. Потому что никаких поправок в нее внести невозможно.
Б. Ахмадулина.
24 января 1987 года.
ПАМЯТНИК
Я при жизни был рослым и стройным,
Не боялся ни слова, ни пули
И в привычные рамки не лез, —
Но с тех пор, как считаюсь покойным,
Охромили меня и согнули,
К пьедесталу прибив ахиллес
Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не вытащить из постамента
Ахиллесову эту пяту,
И железные ребра каркаса
Мертво схвачены слоем цемента, —
Только судороги по хребту
Я хвалился косою саженью —
Нате смерьте! —
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти, —
Но в обычные рамки я всажен —
На спор вбили,
А косую неровную сажень —
Распрямили
И с меня, когда взял я да умер,
Живо маску посмертную сняли
Расторопные члены семьи, —
И не знаю, кто их надоумил, —
Только с гипса вчистую стесали
Азиатские скулы мои.
Мне такое не мнилось, не снилось,
И считал я, что мне не грозило
Оказаться всех мертвых мертвей, —
Но поверхность на слепке лоснилась,
И могильною скукой сквозило
Из беззубой улыбки моей.
Я при жизни не клал тем, кто хищный,
В пасти палец,
Подходившие с меркой обычной —
Отступались, —
Но по снятии маски посмертной —
Тут же в ванной —
Гробовщик подошел ко мне с меркой
Деревянной
А потом, по прошествии года, —
Как венец моего исправленья —
Крепко сбитый литой монумент
При огромном скопленье народа
Открывали под бодрое пенье, -
Под мое – с намагниченных лент
Тишина надо мной раскололась —
Из динамиков хлынули звуки,
С крыш ударил направленный свет, —
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет
Я немел, в покрывало упрятан, —
Все там будем! —
Я орал в то же время кастратом
В уши людям
Саван сдернули – как я обужен, —
Нате смерьте! —
Неужели такой я вам нужен
После смерти?!
Командора шаги злы и гулки.
Я решил: как во времени оном —
Не пройтись ли, по плитам звеня? —
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.
Накренился я – гол, безобразен, —
Но и падая – вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой, —
И, когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров все же
Прохрипел я: «Похоже – живой!»
И паденье меня и согнуло,
И сломало,
Но торчат мои острые скулы
Из металла.
Не сумел я, как было угодно —
Шито-крыто.
Я, напротив, ушел всенародно
Из гранита.
В.Высоцкий, 1973

Посмертная судьба
ВСТУПЛЕНИЕ
Потомством взвесится,
Кто сколько утаил…
Н.Гумилев
Стихотворение гения возможно анализировать и через сто лет после его смерти, а что касается биографии – тут многое зависит от современников. Ответственность современников в том, чтобы обеспечить потомков качественным биографическим материалом, – без привлечения которого, кстати, невозможен и полный литературоведческий анализ.
Только современники могут сохранить то неуловимое, что Мандельштам называл «шумом времени» – атмосферу эпохи. Живые мелочи, внятные детали, настроения и мнения – все это понятно и доступно только им. Не говоря уже о том, смогут ли понять потомки какие-то слова и выражения, свойственные «эпохе развитого социализма», которые с неизбежностью «вымирают» в жизни и в языке. О лексике Высоцкого написаны сотни статей, о лексике его времени – единицы.
Ответственность современников – это и мысль Пушкина о том, что надо делать записки, «чтобы потомки могли на нас ссылаться»… Сравните с публичной позицией дирекции Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого (далее– Музей Высоцкого): «да, мы будем собирать воспоминания современников, но не публиковать, потому что там много противоречий и неправды». Но во втором выпуске альманаха «Мир Высоцкого» эта позиция уточняется: «…Из всего массива мемуаристики отдавать предпочтение тем ее частям, которые непосредственно связаны с творчеством В.С.Высоцкого».
Но публиковать желательно все – память человеческая несовершенна, – чтобы еще при жизни поколения В. В. можно было что-то уточнить, поправить или опровергнуть. Напечатан же сборник, составленный научным сотрудником Музея Высоцкого инженером И. Роговым «Еще о Высоцком», часть которой посвящена опровержению еще не вышедшей в то время книги «Правда смертного часа».
И почему– публиковать только те материалы, которые непосредственно связаны с творчеством Высоцкого? Понятно, что нужно щадить чувства родных и близких… Но делать это всеобщим принципом государственного научного учреждения?! А может быть, в этом есть стремление скрыть, утаить от современников и потомков все драматическое и трагическое, – чего в жизни Высоцкого было достаточно?
Через год после выхода книги «Владимир, или Прерванный полет» Марина Влади сказала в телевизионном интервью: «Люди, которые не любят меня, говорят, что я занимаюсь мытьем грязного белья, – это не так. Моя книга – про жизнь. А жизнь – это и трагические моменты». Ахматова сказала: «Поэт без трагедии – не поэт». А «музей делает все, чтобы стесать Володины азиатские скулы» – Л. В. Абрамова, 1992 год.
«Время сорвалось с цепи, вскочило в седло – и погоняет человечество». Во всяком случае, наше российское человечество– еще наполовину советские люди. И не гении, но кумиры занимают умы поколения, которое «выбирает «Пепси». Зачем же ворошить прошлое? Но ведь только через драматические конфликты, через трагические столкновения можно попытаться восстановить истину – правду отношений между людьми.
Все взято в трубы, перекрыты краны, —
Ночами только воют и скулят,
Что надо, надо сыпать соль на раны
Чтоб лучше помнить – пусть они болят.
(1977)
После смерти Владимира Высоцкого прощальными словами друзей, стихами его памяти была задана такая высота, что современники стали опускаться на землю только в конце 80-х годов. Посыпались статьи, интервью, воспоминания разной степени откровенности, разного качества – и все они публиковались. Пожалуй, самая честная позиция для вспоминающего о близком человеке, друге, товарище – не щадить ни себя, ни его. Так не бывает? Но ведь есть воспоминания И. Дыховичного, Л. Абрамовой, А. Демидовой, А. Васильева, В. Янкловича, М. Шемякина…
Посмертная судьба поэта вполне может стать трагической – это забвение потомков. С Высоцким такого не произойдет – его поколение и его время просто этого не допустят. Высоцкий присутствует и в литературе, и в нашей жизни – он самый цитируемый в периодической печати поэт конца XX века. Как сказал Александр Блок: «Не лучше ли для поэта такая память, чем тома критических статей и мраморный памятник?»
Можно ли считать судьбу Владимира Высоцкого «законченной и совершенной»? А разве не существует для него, как и для всех – «несбывшееся будущее»? В. Шехтман сказал Высоцкому летом 1980 года:
– Володя, ты же за последние месяцы не написал ни одной песни?
– У меня в голове их штук двадцать…
Но они так и остались ненаписанными… Ненаписанных воспоминаний тоже достаточно. В общем, каждый, кто знал Высоцкого, должен выполнить долг его современника – оставить свои субъективные, пристрастные, пусть противоречивые воспоминания, свидетельства, записки…
Содержание этой книги достаточно разнообразно: статьи, непосредственно посвященные посмертной судьбе Владимира Высоцкого; ретроспективные заметки; статьи, темы которых были только намечены в «Правде смертного часа»; статьи о взаимоотношениях В. В. и его знаменитых современников; интервью с людьми, которые сыграли значительную роль в жизни и в посмертной судьбе Владимира Высоцкого.
За рамками книги остались темы, безусловно, важные и достаточно известные: создание спектакля «Владимир Высоцкий»; судьба рукописного наследия; издание первой книги В. В. «Нерв»; история Музея Владимира Высоцкого. Так что работа продолжается…
ПРОЩАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Он был гражданином всего человечества.
Д.Вернье
Начнем с того, что 28 июля 1980 года небольшая заметка о прощании с Владимиром Высоцким появилась в «Вечерней Москве», – эта газета первой сообщила о смерти В. В.
«Скоропостижно скончался артист Театра на Таганке Владимир Семенович Высоцкий.
В траурном убранстве сегодня помещение театра. На сцене, на высоком постаменте, гроб с телом В. С. Высоцкого. Рядом – венки: от Министерства культуры РСФСР, Союза кинематографистов СССР, коллектива театра, от коллективов других столичных театров и учреждений культуры, от близких и друзей покойного.
Состоялась гражданская панихида.
В. С. Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище».
На этом прощание с Владимиром Высоцким в наших средствах массовой информации закончилось. А за границей – некрологи, репортажи с похорон, целые статьи публиковались до начала августа. При жизни В.В. выступал. во Франции, США, Канаде, ФРГ и практически во всех социалистических странах. Но дело не в этом… Все публикации свидетельствуют, если не о всемирной славе, то наверняка о международной известности Владимира Высоцкого.
Респектабельная «Нью-Йорк таймс» публикует довольно большую статью своего московского корреспондента Крейга Уитни, в которой перемешаны «популярные» слухи, переводы песен В. В. и общеизвестные факты.
«Владимир Высоцкий, советский актер и бард, умер от сердечного приступа.
…В. Высоцкий был популярной кинозвездой, а также поэтом-бардом. Он отбывал срок в лагерях в юности, но был освобожден при Никите Хрущеве после смерти Сталина в 1953 году.
Он не всегда мог ездить за границу даже к своей жене в Париж, поскольку его взгляды часто приводили к конфликту с властями.
Он совершил такую поездку в Соединенные Штаты полтора года назад.
Сатира г. Высоцкого была не столь острой, чтобы сделать его «персоной нон грата» для советских властей, но и не столь беззубой, чтобы он потерял уважение советской молодежи.
27 июля 1980 года».
Французская газета «Монд» не забывает о «холодной войне», но и помнит об особых отношениях Франции и СССР.
«Смерть советского актера и певца Владимира Высоцкого.
… Чтобы реабилитироваться перед властями, Высоцкий записал несколько весьма «соцреалистических» песен, прославляющих альпинистов, советских геологов… Однако своей популярностью он обязан другому реализму, более суровому и ироническому, который описывал условия жизни в лагерях– где он побывал еще подростком, – и пребывание в психиатрических больницах, когда человек не является сумасшедшим.
Владимир Высоцкий был представителем поколения ангажированных певцов, вместе с Александром Галичем, умершим в эмиграции в Париже два года назад, и Булатом Окуджавой, который ничего не записывал уже несколько лет.
Даниэль Верне.
Париж. 27–28 июля 1980 года».
Шесть лет жизни прибавляет В. Высоцкому Терри Бушель из английской коммунистической газеты «Морнинг Стар», и замечает в публикации
«Прощание с советской поп-звездой.
…Для поколения русских он был тем же, чем Боб Дилан является для поколения на Западе.
28 июля 1980 года».
Макс Леон, знавший В. Высоцкого ещё по работе корреспондентом в Москве, – более того, он был свидетелем на бракосочетании Владимира Высоцкого и Марины Влади, – публикует в своей газете «Юманите» статью
«Неистовый Владимир.
…Он был поэтом и– что в значительной степени игнорировали– политиком, смелым, сознательным, с критическим складом ума, неудовлетворенностью, требовательностью, с тем чувством национального и интернационального, что присуще подлинному революционеру.
Художественная жизнь Москвы – и далеко за пределами столицы, вплоть до Сибири и Дальнего Востока – не будет такой, как прежде, после смерти Володи.
Владимир Высоцкий, наш друг, был гражданином Москвы, Советского Союза, с подлинной мерой осознания и ответственности – гражданином всего человечества.
Париж, 29 июля 1980 года».
Сообщение английского агентства «Рейтер» под разными заголовками публикуют газеты разных стран. В канадской газете «Глоб энд мейл» оно напечатано под заголовком
«Полицию призывают, когда толпа скорбит о советском актере.
…Люди протестовали, когда полицейские в белой олимпийской униформе и молодые рабочие гражданской обороны, сцепившись руками, оттеснят толпу.
Один человек из толпы сказал корреспонденту: «Это не политическая демонстрация. Мы просто любили его».
Торонто, 29 июля 1980 года».
В этот же день «Нью-Йорк таймс» публикует вторую статью Крейга Уитни. Корреспондент побывал на похоронах и приводит несколько точных деталей.
«Советская полиция вмешивается, когда тысячи людей волнуются на похоронах барда.
…20-летний юноша, который гордо показывай свои шрамы и царапины после того, как все было кончено, сказал: «Полиция обесчестила память человека».
Пожилая женщина наставляла его: «Толпа может быть опасной. Полиция всего лишь делапа свое дело».
Необычная сцена, имеющая немного аналогий в современной советской истории, была яркой демонстрацией силы слова в этой стране…
Молодой человек стоял на афишной тумбе, откуда два полисмена постоянно пытались его стащить. Толпа веселилась всякий раз, когда им это не удавалось. Наконец, он наступил на руку полицейскому и спрыгнул, чтобы смешаться с толпой. На плакате было написано: «Наш советский образ жизни».
Нью-Йорк, 29 июля 1980 года».
30 июля в газете «Информашон» (Копенгаген, Дания) публикуется большая статья Мейланд-Хансена, действительно неплохо информированного корреспондента.
«Владимир Высоцкий – для советских поколений герой и антигуру-
…Русские любят своих писателей и поэтов, в том числе покойных, умерших десятки и сотни лет назад. В народе – и не только в среде интеллектуалов – помнят наизусть их слова.
Почти у всех крупных русских и советских писателей есть одна общая черта: у них были трудности с государственной властью, и наоборот. Еще одним важным доказательством тому служит бессмысленная смерть в молодости крупнейших лирических поэтов.
Бессмысленные дуэли Пушкина и Лермонтова, таинственные самоубийства Есенина и Маяковского.
К этому списку крупных имён в русской литературе принадлежит теперь также и Владимир Высоцкий (1938–1980).
Ходят слухи, что Высоцкий покончил с собой. Если так, то почему? Теперь мифы будут разрастаться по русским меркам: было ли это связано с любовью, политическими репрессиями или пресыщенностью жизнью. В феврале мне рассказывали на Таганке, что Высоцкий сильно переживал проблему своего старения. Может быть, это послужило причиной его смерти.
Высоцкий не мечтал об идеалах и утопиях. Только о жизни разумной. Такой, какой ему не досталось».
Естественно, что все ведущие польские газеты откликнулись на смерть Владимира Высоцкого», – ведь всего два месяца назад он поразил Варшаву своим исполнением роли Гамлета.
«Владимир Высоцкий ушел из жизни.
…Умер 25 июля. Ушел неожиданно, в возрасте 43-х лет, полный творческих сил, в расцвете таланта, популярности. А эта популярность, выходящая далеко за рамки ее понимания, создавалась не только сильной эмоциональной наполненностью искусства Высоцкого, но, прежде всего, насыщенностью его содержанием, близким современному человеку… Он был одним из тех необычных явлений, которые оставляют неизгладимый след, артистом своего времени».
«Жиче Варшавы», 30 июля 1980 года.
Много откликов на смерть Высоцкого в Болгарии, где его хорошо знали и любили. Самый интересный текст принадлежит В.Свинтиле в газете «Литературен фронт».
«Разлука с Высоцким.
…Этот человек не мог жить без поэтов и без поэзии. И давайте выскажем дерзкую мысль: он участвовал в воспитании своего поколения поэтов, в воспитании их чувствительности.
Однажды, в гостях в Болгарии, Владимир Высоцкий сказал почти случайно:
«Жизнь – это рана, которая лечится сама. Мне дороги страдания, потому что из них рождаются радости».
Никто не говорил о страданиях современного человека с таким жизнелюбием и с такой верой. И это парадокс. Парадокс Высоцкого – явления, которое мы, современники, отныне будем оценивать.
31 июля 1980 года».
Каким-то образом до корреспондента немецкого журнала «Шпигель» доходят отзвуки событий, действительно происходивших и в Театре на Таганке, и даже в квартире Владимира Высоцкого.
«Проклятие поэта.
…После многих месяцев болезни врач должен был находиться за кулисами Театра на Таганке, чтобы с помощью инъекций поддерживать Гамлета-Высоцкого. Народный поэт умер в прошлую пятницу, утром, в своей квартире, неподалеку от германского посольства.
С вечера пятницы тысячи скорбящих людей собирались у Театра на Таганке, принести горы цветов и прости похоронить поэта на знаменитом Новодевичьем кладбище в воскресенье. Власти разрешили только Ваганьковское кладбище (где находится могила поэта Есенина, тоже объект паломничества) и перенесли похороны на середину понедельника, на рабочее время – надежда на малое скопление народа. Все сведения держались в тайне, но власти скоро поняли, что плохо знают свой народ.
4 августа 1980 года».
Эмигрантский журнал «Посев» печатает некролог А. Югова, который сопровождается публикацией 6 текстов Высоцкого.
«Умер Владимир Высоцкий.
… Высоцкий не был членом Союза писателей, официально не числился за поэтическим цехом советской литературы. Но его известности в народе с лихвой хватило бы на весь этот цех.
Сами похороны потрясли Москву – такого еще не было. В день похорон, 28 июля, людская река (называют цифру в сорок тысяч человек) текла мимо Театра на Таганке. Этот стихийный взрыв любви и горя явно произвел впечатление на иностранных корреспондентов и операторов. Потрясенный Клаус Беднарц, московский корреспондент 1-й программы телевидения ФРГ, даже перешел на несвойственный ему пафос: «Народ, который так умеет прощаться со своими поэтами, – бессмертен!»
Август, 1980 года».
И закончим короткой цитатой из некролога, опубликованного во французском журнале «Революсьон».
«Высоцкому.
…Отдавая дань Владимиру Высоцкому, тысячи кассет после его смерти продлевают эхо его голоса, это то эхо, о котором он говорил в своей песне, но которое не было расстреляно. У глашатаев такой народ, какого они заслуживают.
17 августа 1980 года».
ПОСМЕРТНАЯ МАСКА
Посмертная маска актера – его последний грим.
История посмертной маски Владимира Семеновича Высоцкого достаточно сложна и запутана. Более того, только приблизительно известно нахождение нескольких ее экземпляров… Но вначале немного о том, как она была снята.
Вспоминает Валерий Павлович Янклович: «25 июля Марина сказала, что надо снять посмертную маску. Пригласила художника Ю. Васильева. С Васильевым договорились, что он сделает три экземпляра: одну Марина увезет с собой, вторая останется в семье, а третья будет храниться в театре. Васильеву позвонил я, он приехал… Марина ему помогала…» (По другим сведениям, Васильеву помогал и его сын.)
Близким знакомым Васильев говорил, что «лицо Высоцкого помогало»… Слепок руки не получился…
В это же время в квартире, разумеется, находилась мама В. В. Нина Максимовна Высоцкая: «Марина помогала скульптору… Какие-то тряпки лежали… Я как увидела, мне стало дурно… Валера Янклович подбежал: «Мы сейчас все уберем' Мы все это уберем!» Но где же маска, которую обещали семье? Их же было сделано три…»
Вот с этого числа три и начинается вначале неразбериха и путаница, а потом ссоры и обиды… Все говорят о трех масках, имея в виду три металлические копии, но ведь было еще три гипсовых оригинала!
Рассказывает Людмила Абрамова: «Васильеву снимать маску помогала Марина и его сын… Слепок он унес домой, и сам сделал три оригинала. И пометил их, чтобы отличить от любой подделки. А потом поручил скульптору Гурченко выполнить маску в бронзе с серебром (в трех экземплярах). Более того, Васильев взял клятву с Гурченко, что тот правильно выдержит рецепт сплава и не сделает для себя ни одного тайного слепка… И вроде бы никаких нарушений Гурченко не сделал. Юра ему верил».
Вот так все происходило на самом деле, и когда были готовы металлические копии – одну забрала с собой Марина, вторую отвезли в театр (отдали Ю. П. Любимову, который положил маску в сейф), третья, которая предназначалась для семьи, пока находилась у друзей В. В. Но вот Любимов уезжает за границу, и вторая маска исчезает из сейфа…
В. П. Янклович: «Скульптору Распопову (он умер в феврале 1988 года), который делал фигуру Высоцкого, понадобилась маска, понадобилась для работы. Распопов решил обратиться к Дупаку (раз в театре – значит, у директора). Дупак ответил, что маски у него нет, Любимов увез ее за границу… Но Петрович никакой маски за границу не увозил, она должна быть у Дупака…»
Семья беспокоится тоже. Нина Максимовна Высоцкая приезжает в театр… Где маска? – «Дупак повел нас в кабинет… Нет ключа от сейфа! Долго искали ключ. Открыли сейф в кабинете Любимова, – маски нет. А Дупак говорит: «Я ничего не знаю. Маска была». – «Как же так, Николай Лукьянович!» – «Я буду искать». Звоню на следующий день: «Вы знаете, Нина Максимовна, обратитесь к Марине… Мы и вторую отдали ей…»
Разумеется, этого не могло быть… Итак, точно известна судьба только одной посмертной маски В. Высоцкого – она у Марины Влади в Париже. Еще одна маска у друзей, но где она? – этого никто не знает… И только в самое последнее время стало более или менее точно известно, где находятся и гипсовые оригиналы, и бронзовые копии…
Вторая бронзовая маска все эти годы хранится у одного из близких друзей В. Высоцкого– Артура Сергеевича Макарова. Летом 1991 года он обещал передать ее в «Дом Высоцкого на Таганке».
Третья металлическая маска, которая долгое время хранилась в кабинете Любимова, может находиться либо у Н. Л. Дупака, либо у сына Любимова – Никиты.
Теперь о судьбе трех гипсовых оригиналов посмертной маски Владимира Семеновича Высоцкого. Считалось, что один из них был использован как форма для отливки бронзовых копий… Л. Абрамова: «Металл делали из первого оригинала, который при этом «погиб»… Об этом знала и Нина Максимовна Высоцкая: «Скульптор уничтожил, чтобы не было тиражирования…» Так вот, для отливки был использован оригинальный слепок, тот самый, с которого были сделаны и три бронзовые маски.
Гипсовая маска с номером «один» была подарена Васильевым своему другу, профессору, доктору наук Ю. Делюсину, который долгое время входил в художественный совет Театра на Таганке. Гипсовая маска с клеймом «два» хранилась у Васильева – ее он никому не показывал… Но на стене у него в квартире висела посмертная маска В. В. – это был слепок «три». Эту маску он когда-то обещал В. С. Золотухину…
Запись в дневнике В. Золотухина от 30.03. 85 года: «Тамара (жена Золотухина) сказала, что звонил Ю. Васильев, что для меня готова давно обещанная посмертная маска В. С. Высоцкого, и ее нужно срочно забрать. Он только что из больницы, снова собирается туда, и вернется ли?.. А без него маску мне никто не отдаст…
Завернул он мне Володю в вафельное полотенце… Семья его покинула. Живет он с девочкой Жулькой – маленькой собачонкой…
– Сильный инфаркт… Так что я решил кое-какие дела почистить. Отдать, что обещал… Только не давайте никому, начнут тиражировать, торговать… Я много масок снимал. Они имеют свойство жить, реагировать. Будете ругаться – он будет хмуриться. Будете радоваться – он будет улыбаться…»
А собственный экземпляр– гипсовый слепок номер «два» – Васильев обещал передать в музей Высоцкого. Рассказывает Л. Абрамова, близко знающая вдову Ю. Васильева: «Он сказал жене: «Когда я умру, маску отдай в музей». Этот оригинал Васильев хранил и никому не показывал… Когда Юрия Васильевича не стало, жена долго не могла найти маску. Совершенно случайно, разбирая вещи в квартире, она ее нашла. И мы привезли ее в музей».
У некоторых коллекционеров (и в общественных музеях В. Высоцкого) хранятся «посмертные маски В. В.»– «ленинградского происхождения», которые якобы сделаны учеником Юрия Васильева… Одну из таких масок П. М. Леонов в свое время возил показывать Васильеву (это было незадолго до смерти художника). По словам Леонова, Васильев пришел в ужас, когда увидел «маску», и сказал, что это подделка.
Людмила Абрамова рассказала, что они с вдовой Ю. Васильева положили рядом оригинал посмертной маски Высоцкого и «ленинградскую версию»: «У «ленинградской копии» перепутаны правая и левая стороны. У настоящей маски на одну сторону уголок рта опущен, а у копии – на другую. Но вполне возможно, что это делал скульптор, причем скульптор неплохой, потому что определенное сходство там есть… Но делал по фотографиям. Вдова Васильева говорит, что это самостоятельная работа… Воссоздание, которое выдают за посмертную маску… Ведь Васильев снимал только лицо, потому что был сильный отек шеи, и он сделал только до подбородка… А на «ленинградской» работа очень глубокая: шея, уши, волосы… Причем волосы сделаны совершенно не так…»
И в заключение перечислим местонахождение гипсовых оригиналов и бронзовых копий посмертной маски Владимира Семеновича Высоцкого. «Гипс номер один» – в семье Льва Петровича Делюсина, вторая гипсовая маска хранится в Музее Высоцкого, и третья гипсовая маска– у В. С. Золотухина. Одна бронзовая маска находится в Париже у Марины Влади, вторая хранится у наследников
А. С. Макарова, судьба и местонахождение третьей бронзовой копии пока точно неизвестны.