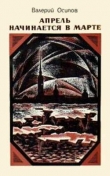Текст книги "Я ищу детство"
Автор книги: Валерий Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
СЕДЬМАЯ ГЛАВА
В третьем субботнике участвовали уже не только рабочие Электрозавода. Прислали своих добровольцев фабрика «Красная заря», заводы «Красный богатырь» и Первый инструментальный. Вышли помогать субботнику и жители бараков, и обитатели соседних улиц – Девятой роты, Суворовской, Бужениновской. Свалка надоела всем, избавиться от неё хотелось побыстрее. Шпана, постоянно шнырявшая между Преображенским рынком и свалкой, воровала на ходу из дворов разную мелочишку, срывала иногда с верёвок бельё, выкапывала с огородов картошку, не прочь была запустить руку в окна и форточки первых этажей, заглянуть в открытые двери. Конец свалке одновременно означал и конец шпане, которая, непомерно расплодившись в годы нэпа, успела до смерти уже осточертеть преображенским обывателям.
Вместе с группой ткачих «Красной зари» появилась на субботнике на свалке и Клава Сигалаева.
– Вот это встреча! – обрадованно заулыбался, увидев жену, Костя.
– Тебе, что ли, одному в сознательных ходить? – упёрла Клава руки в крутые бока. – Мы небось тоже хотим в новых домах пожить.
– Ну, это мы ещё посмотрим, – прищурился Костя, – пускать вас в новые дома или не пускать. Для этого надо потрудиться на общую пользу.
– Бессовестный, – ткнула Клава мужа кулаком в грудь. – Кто же ещё трудится на общую пользу, как не я? Троих тебе родила? Кормлю, пою тебя, дьявола рыжего, каждый день или нет?
– Сама рыжая, – засмеялся Костя и хотел было при всех поцеловать жену, но она ловко увернулась от него и отбежала в сторону.
– Бесстыжие твои глаза, – шептала Клава, когда Костя всё-таки поймал её и, обняв за плечи, повёл среди весело трещавших костров к берегу Хапиловки. – Ночи тебе мало? Всю смену до обеда зевала, а девчонки мне и говорят: Клав, говорят, вы никак со своим рыжим четвёртую хотите сработать?
– И завтра зевать будешь до обеда. А девчонкам своим на фабрике так и скажи: обязательно будет четвёртая. Но только парень на этот раз.
– Да куда тебе четвёртую-то? – смущаясь, опускала голову Клава. – Троих некуда девать, а тут четвёртую.
– Ничего, Клавочка, пускай растут. На старости лет будет нам с тобой утешение. Взводом внуков будем командовать. А девать будет куда. Вот сожжём до конца всю эту мразь, разобьём здесь сквер, построим новые дома, и дадут нам с тобой там хорошую квартиру…
– Я и сама мальчишку хочу, – прижималась Клава к мужу, – надоели девки. И главное, все рыжие.
– Какими же им ещё быть? – смеялся Костя. – Мы же с тобой оба рыжие.
– Хочу, хочу парня! – горячо зашептала Клава, прижимаясь к нему всё сильнее. – Чтобы такой же, как ты, был, дурачок!
– Клавочка, солнышко моё, да я хоть сейчас! – рывком притянул к себе жену Костя.
Клава, опомнившись первой, оттолкнула от себя Костю и, поправляя красную косынку на голове, сказала, стараясь согнать с лица стыдливый румянец:
– Очумел, что ли, совсем! Люди кругом.
И повернувшись, пошла к подругам, с весёлыми улыбками и шутками-прибаутками наблюдавшими за ними. (Надо же, троих родили и всё никак не намилуются, среди бела дня друг на друга бросаются.)
А Костя Сигалаев, глядя сзади на фигуру жены, почувствовал, как тёплая волна, которая всегда рождалась в нём в ожидании близости с этой женщиной, покатилась в ноги, делая их непослушными и почти ватными.
«Ну, зачем таскаются мужики по разным бабам, вроде братанов моих холостых? – с каким-то даже сожалением подумал Костя. – С одной надо жить, одну надо любить, одну целовать, ласкать, чтобы она открылась тебе всей своей бабьей сладостью, всей своей бабьей глубиной и щедростью своего тела, чтобы лететь в эту глубину всю жизнь, чтобы летать каждый раз всё выше – одной жизни, наверное, не хватит, чтобы понять и почувствовать то, что может подарить тебе единственная твоя любимая женщина, около которой и умереть-то не жалко за её любовь к тебе… Да собери сейчас передо мной всех этих Клавкиных подруг, которые вон там хохочут о чём-то с ней в своих красных косынках, – ни на одну глаз не посмотрит, только Клавку мою мне отдайте, только бы взять её в руки всю и заласкать, зацеловать…»
– О-го-го! – громко закричал Костя, схватил первую попавшуюся под руки тачку, швырнул в неё лопату и побежал, как молодой, к самой большой куче мусора и, выдернув из тачки лопату, начал швырять в тачку обломки кирпичей, щебёнку и ещё что-то, а потом, яростно плюнув на руки, понёсся вперёд, рывками толкая перед собой тяжёлую тачку, вкладывая в свои физические усилия всё непонятное ему самому, но распиравшее его во все стороны возбуждённое состояние полноты и беспредельности восприятия окружавшего его мира, который он готов был перевернуть вверх ногами, на сто восемьдесят градусов.
В тот день, в третий субботник, райисполком (под давлением Заботина) прислал на свалку несколько десятков подвод, чтобы вывезти мусор, который нельзя было сжечь, далеко за пределы города и сгрузить его в таких местах, где поблизости нет никакого человеческого жилья.
Кроме того, завод «Серп и молот» (бывший Бромлей), с которым Электрозавод соревновался по многим показателям, выделил семь грузовых автомобилей (в этом тоже чувствовалась рука Заботина) возить со свалки к своим мартеновским печам железный лом.
Так что работы на погрузке было хоть отбавляй. И Костя Сигалаев с такой яростью схватился швырять в кузов машины ржавые спинки кроватей, металлические сетки, трубы, самовары, чугуны, мотки проволоки и всё прочее, дребезжащее и звенящее, что проходивший мимо Заботин вынужден был остановить его.
– Эй, легче! – крикнул Алексей Иванович, хватая за руку разбушевавшегося энтузиаста. – Кузов сломаешь, машину пожалей!
Костя, тяжело дыша, несколько секунд, ничего не понимая, вытаращившись, смотрел на Заботина, а потом, подняв и прижав к себе маленького парторга, закружился с ним около грузовика.
– Алексей Иванович! – откинувшись назад, хохотал Костя Сигалаев. – Наша-то берёт, а? Половину свалки уже к чертям собачьим выкинули! Теперь сквер здесь сажать будем, деревья сажать будем! А потом белые дома построим и жить в них будем! Ура-а!
– Стой! Отпусти! – вырывался щуплый Заботин из чугунных лап Сигалаева. – Задушишь! Остановись, говорю, псих ненормальный!
Костя отпустил парторга.
– Вот леший здоровенный, – одёргивал на себе гимнастёрку изрядно помятый Заботин. – Рехнулся от счастья, что в новых домах будешь жить?
Но Костя уже не слышал его. Выдернув из груды металлического лома старую железную бочку, он с оглушительным грохотом покатил её к следующему грузовику, обгоняя и пугая встречавшихся по дороге с деревянными носилками ткачих с «Красной зари», Клавиных подруг.
– Эй, бабы, расступись! – кричал Костя. – Даёшь металл мартенам – ржавый, но даёшь!
Бойкие ткачихи, заразившись весёлым Костиным настроением, задиристо звали соревноваться электрозаводских слесарей, то и дело сходившихся по пять-шесть человек на перекур, мимо которых работницы носили лёгкий мусор.
– Мужички! – кричали разрумянившиеся, раскрасневшиеся ткачихи. – Не замёрзли? С носилками нашими погреться не хотите?
– С носилками не хочу! – кричал в ответ кто-нибудь из заводских, самый ушлый и разбитной. – А вот с тобой погрелся бы!
– А ты умеешь греть-то? – принимали вызов женщины. – Всё табачок свой смолишь, а от него одна квёлость! Нам папиросники не требуются, нам ухватистые женихи нужны!
– А вот я тебя сейчас ухвачу! – продолжали дуэль заводские. – Будет тебе квёлость!
– На словах-то каждый умеет! – не унимались работницы. – А ты за тачку свою ухватись, покажи сперва – есть у тебя силёнки, или всё в дым ушло!
Ткачихи хохотали, ребята с Электрозавода ухмылялись, крутили головами, но бросать папиросы не торопились. Женщины, видя, что одними шутками мужиков не проймёшь, перешли к более решительным действиям. Одна из работниц – высокая, полная, статная – подошла к очередной группе курильщиков и слегка подтолкнула локтем ближнего к себе парня.
– Ударник!.. Не засох на корню? Зачем пришёл сюда – небо коптить?
– Ну, чего ты пристала, тёть Марусь? – отступил «ударник». – Дай передых сделать. Ты прямо как мастер подгоняешь… Не на заводе же…
– Ах вот оно в чём дело, – подбоченилась воинственная тётя Маруся. – Значит, от мастера здесь прячешься, отдохнуть решил на субботнике… Ну и дурошлеп же ты, Серёга! Мозгов совсем не осталось – одни штаны висят…
Ткачихи снова засмеялись, заулыбались и заводские.
– Выходит, ты на мастера работать сюда явился, – наступала на Серёгу тётя Маруся, – мастер твой один в шести домах жить будет. А тебя, подневольного, из-под палки пригнали горбатиться. Так, что ли, получается?
– Зачем на мастера? Я сам, добровольно.
– А если добровольно, чего стоишь как пень? Давай бери носилки – вместе таскать будем. Я тебе покажу, как от общего дела отлынивать!
Делать было нечего – пришлось Серёге браться за одни носилки с тётей Марусей. Под смешки и прибаутки составилось ещё несколько смешанных пар. Но конечно, веселья здесь было больше, чем дела. Женщины всё время перекликались между собой, вслух оценивали старательность и прыткость своих помощников.
– Ксюш, глянь на моего-то! Два раза принесли, а он уже спотыкается.
– А мне кособокий какой-то достался, всё у него на бок сыплется… Дядя, ты что – охотник?
– Почему охотник?
– А зачем у тебя одно плечо ниже другого?
– А мой, видать, рыболов – на себя дёргает… Ой, милый, не смеши, умру со смеху!
– Нет, девки, мужики простую работу делать не могут. Им электричество подавай…
Ребята с Электрозавода, конечно, в долгу не оставались, отшучивались, как могли.
– Ходи ровней! Чего прыгаешь, как трясогузка? Это тебе не узелки на фабрике своей вязать…
– Эй, кудрявая! Ты не на каблуках ли?
– Какие ещё каблуки?
– Тогда не семени как ёж, если без каблуков! Мне за тобой не угнаться…
– Давай, милая, шагай, не спи на ходу! Или дома не выспалась?
– Мужики, а надо бы нам баб-то по строевой подготовке подтянуть! Совсем забыли, где левая нога, где правая…
Костя Сигалаев, проводив грузовики в первую ездку, нашёл среди красных косынок жену, схватил её за руку:
– Клавдя! Покажем семёновским, как наши, преображенские, шустрить умеют? Берись за носилки…
– Вот ещё! – независимо возразила Клава. – Чего это мне с тобой, с бугаём, в одной упряжке равняться?
Но Костю было не угомонить.
– Берись, кому говорят! – неожиданно проявил он характер. – Рыжие мы с тобой или не рыжие?
И Клава, зная по опыту, что на мужа в такие минуты долго ещё не будет укорота, послушно взялась за носилки.
Они уже сделали вдвоём несколько быстрых и молчаливых ходок (им-то подгонять друг друга не требовалось – шагали в ногу как заведённые, словно два журавля из одного гнезда, невольно останавливая на себе взгляды всех Клавиных подруг и Костиных друзей), но в это время в стихийно возникшее и, в общем-то, бестолковое пока соревнование вмешался Заботин.
– Ребята! – остановил всех Алексей Иванович. – Что же это вы тачки свои побросали и действительно женщин в одни оглобли с собой засупонили? Совесть у вас есть или нет? Они же слабый пол, им снисхождение требуется…
– Знаем мы этот слабый пол, – загалдели заводские, – вон Маруська Серёгу своего до седьмого пота измочалила, взопрел малый, как в бане, аж пар от него идёт…
– У нас что сейчас получается? – продолжал Заботин. – Уравниловка и обезличка. Кто и чего сделал – я не вижу. А любое соревнование – это прежде всего наглядность.
– Правильно, завод! – подала голос тётя Маруся. – Берите себе свой участок, а мы себе свой возьмём… Тут уж вам перекуров не будет! Кто первый закончит, тому почёт и уважение. А кто отстанет – тому срамотища!
Разделились на участки, фабрике отмерили вдвое меньше – скидка на почти стопроцентный женский состав, и субботник снова загомонил десятками голосов, замелькали во все стороны красные косынки и чёрные косоворотки.
Вмешательство парторга упорядочило и заметно ускорило дело. Ткачихи с «Красной зари», польщённые тем, что им было оказано внимание как женщинам, прытко очищали свою территорию. Электрозаводских слесарей тоже вроде бы проняло напоминание о том, что на их стороне преимущество в мускульной силе. Намеченный на один день общий участок быстро освобождался от мусора и отходов.
Первой закончила свою работу «Красная заря». Тётя Маруся восторженно сорвала с головы красную косынку и подбросила её. За ней взлетели вверх красной стаей и остальные косынки.
– Ура-а! – зашумели ткачихи. – Знай наших!
Заводские ребята, запарившись в тщетной попытке догнать фабрику, обескураженно наблюдали за победительницами.
– Что, мужички, – веселились работницы, – говорили мы вам, что табачок-то отбирает силы, а не прибавляет, а? То-то и оно!
Заводским крыть было нечем.
Неожиданно тётя Маруся решительным жестом оборвала веселье.
– Девки! – зычно крикнула она. – Неужели мы нашим мужикам по их немощи не поможем?
Тут же снова были повязаны на головы красные косынки, и ткачихи энергично двинулись на участок Электрозавода.
– Не надо, не надо! Без вас управимся, – пробовали было отказаться от помощи ребята.
– Вези! Чего стоишь, как засватанный? – покрикивала тётя Маруся на Серёгу, с верхом нагружая лопатой его тачку.
Войдя в азарт, пересмеиваясь и балагуря, не заметили, как прихватили к сегодняшней норме и ещё довольно солидный кусок свалки, намеченный под очистку только лишь на следующий субботник.
Алексей Иванович Заботин, работавший вместе со своими заводскими и теперь деливший вместе с ними «позор» поражения в им же самим затеянном наглядном соревновании, улыбался, глядя, как гоняют ткачихи с «Красной зари» его нерасторопных слесарей.
После субботника Клава и Костя Сигалаевы пошли по улице Девятая рота на Преображенскую площадь – по магазинам.
– Ну, что, муженёк, обставили мы вас, обштопали, как несмышлёнышей, а? – подтрунивала Клава по дороге над Костей.
– Обставили, Клавочка, обштопали, как пить дать, – деланно сокрушался Костя.
– А ты чего там ухмыляешься, ударник? – косилась Клава на мужа. – Или, может быть, вы первые соревнование закончили?
– Так ведь у вас-то работы в два раза меньше было, – снисходительно замечал Костя.
– А вы на то и мужики, чтобы женщинам уступку делать… Хотя, если по совести говорить, далеко-о ещё вашему Электрозаводу до нашей «Красной зари».
– Это почему же?
– А потому что бабы, которые у нас на фабрике работают, дружнее, чем ваши заводские мужики.
– Это почему же?
– У вас что? Железо. Холодное оно, неживое… А у нас ниточки. Они мягкие…
– Ну, Клавка, ты и загнёшь другой раз!
– Берёшь в руки пряжу, размотаешь её, а она сама вокруг тебя так и вьётся, так и вьётся, как живая…
– А мы лампы делаем. Они людям свет дают.
– Или возьми ткань. Ничего вроде в ней особенного нет… А она ведь к человеческому телу будет приложена. Ему тепло даст и от него возьмёт. В ней душа есть…
– А у нас…
– А у вас одно железо. Лежит – молчит, стоит – молчит… Что, может, не согласный со мной?
– Согласный, Клавочка, согласный я с тобой, всегда и во всём согласный, ты же знаешь.
– А кто на меня заорал сегодня на субботнике?.. «Берись за носилки, кому говорят!»
– Это нечаянно, Клавочка. Ей-богу, нечаянно.
– Прощения просишь?
– Прошу.
– Ну, то-то.
В молочной лавке купили молока и масла, в булочной – хлеба, в гастрономе – конфет-подушечек. Костя ходил за Клавой с сумками от прилавка к прилавку, из магазина в магазин. Клава выбивала чеки, брала покупки, заворачивала их в бумагу, а Костя стоял перед ней, держа широко открытой одну из сумок, и ждал, пока Клава положит в неё очередной свёрток. Знакомые продавщицы приветливо и понимающе кивали Клаве из-за прилавков, как бы говоря: правильно, подруга, так их и надо держать, мужиков-то, чтобы ходил за тобой, как бычок на верёвочке. А Клава гордо вскидывала красивую рыжую голову, как бы отвечая: ничего здесь особенного нет, просто умная женщина всегда к мужчине подход найдёт, на то нам и красота дана, чтобы на дело её употреблять, на семью и детей, а не пускать по ветру на гулянки и прочие глупости.
Когда купили всё, что хотели, Костя вдруг сказал:
– Клаша, а может, в кино сходим? Что-то я давно с тобой в кино не был.
– С полными сумками?
– А чего? Я понесу, они лёгкие.
– Ну, пошли.
Взяли билеты, постояли немного в фойе, разглядывая фотографии знаменитых заграничных артистов – Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, Асты Нильсен, Вестера Китона… Потом Костя кивнул в сторону буфета:
– По бутылочке пивца, Кланя, с устатку?
– Не люблю я его.
– А ты крем-соду выпьешь с пирожным, а я «Жигулёвского» с бутербродом.
– Разгулялись мы что-то сегодня с тобой.
– День сегодня хороший, Клавочка, работали вместе.
В буфете Костя усадил Клаву за столик, сложил на пол около своего стула сумки, принёс пиво, воду, бутерброды, пирожные. Клава с улыбкой смотрела, как ухаживает за ней муж, как за молодой, словно и не было у них троих детей.
– Я тебе чего хотел сказать, Клавочка, – начал Костя, усаживаясь напротив жены. – Бабы у вас, конечно, на фабрике сноровистые и дружные, тут говорить нечего…
– Кость, да ну её!
– Кого «её»?
– Да фабрику нашу. Чего мы заладили всё про неё да про неё…
– Здрасьте! То ниточки мягонькие, а то – ну её…
– Костик, не обижайся. Налей лучше водички.
– Клавочка, с дорогой душой.
– Костя, тебе какой цвет больше всего нравится?
– Рыжий!
– Я серьёзно.
– И я серьёзно.
– А кроме рыжего?
– Красный. Как твои волосы.
– Они же у меня рыжие…
– Когда как. Иногда красные бывают.
– Чудила ты, Константин… Какие ещё цвета, кроме рыжего и красного, знаешь?
– Малиновый. Розовый. Рябиновый.
– Ещё пунцовый есть, алый, оранжевый, георгиновый…
– Кумачовый. Червонный. Маковый. Багровый…
– Горящие цвета называем, сейчас загоримся…
– А я уже загорелся…
–. . . .
–. . . .
–. . . .
–. . . .
– Ну, остыл немного?
– Остываю…
– Пива выпей…
– А ты водички…
– Сумасшедшие мы с тобой…
– Есть немного…
– А мне, Костя, знаешь ещё какой цвет нравится?
– Какой?
– Синий. Я когда-нибудь платье себе синее куплю. В белый горошек. И с кружевами…
– Красивая будешь. Я в тебя ещё сильнее влюблюсь.
– Куда уж сильнее…
– Пирожные вкусные?
– Вкусные.
– Ещё принести?
– Нет, Костик, не надо. Я и эти-то еле доем.
– Помочь?
– Помоги.
– Вот это возьму, рыжее. На тебя похожее…
– Какое же оно рыжее? Оно коричневое, шоколадное…
– Ам… и нету.
Раздался первый звонок. Народ зашевелился, начали подниматься из-за столов, двинулись из буфета к зрительному залу.
– Костя, гляди, кто в углу сидит! – зашептала Клава.
Костя оглянулся. За самым последним столиком в дальнем углу сидели… тётя Маруся и Серёга.
– Вот это да! – повернулся Костя обратно к Клаве и даже рот открыл от удивления.
Клава, пригнувшись к столу, тихо смеялась.
– Ты рот-то закрой, муха залетит…
– Ну, дела…
Серёга, отставив мизинец, солидно пил пиво, не обращая внимания на звонки.
– Пошли, что ли, Костя, без нас кино начнётся…
– А вот я сейчас к ним подойду…
– Не мешай, пускай сидят, если сидится.
– Она ведь старше его.
– При чём тут старше, младше? Хорошее у людей настроение…
– Чего ж это Маруська задумала?
– Каждому своё, Костя…
Фильм был заграничный, комедия. Маленькие, усатые человечки непрерывно били друг друга палками по голове, давали друг другу пинки под зад, швырялись пирожными, дрались, сталкивались, падали, вскакивали, мчались куда-то на автомобилях.
Зал оглушительно и непрерывно хохотал. Вместе со всеми смеялась и Клава. А Костя, сев рядом и сложив на полу сумки, как взял её руку, так и не отпускал до самого конца сеанса. Иногда он, словно вспоминая что-то, подолгу смотрел на Клаву сбоку, и тогда она, смущаясь, тихо шептала:
– Чего уставился? Вперёд гляди.
Но Костя только улыбался в темноте и молча гладил её руку. Проходило несколько минут, и он снова, будто разбуженный каким-то воспоминанием, начинал смотреть на жену, на пушистый её профиль, искрящийся от голубовато-пепельных лучей киноаппарата, идущих из маленького окошка в задней стене зала на экран. Казалось, что никакого кино и вообще ничего на свете сейчас нету для Кости, а есть только одна его Клава, тепло и уютно сидевшая рядом. Клава веселилась от души, хохотала не переставая, то наклоняясь вперёд, то откидываясь назад, и от этих её движений на Костю шли волны – рыжие, красные, малиновые, розовые, пунцовые, багрово качавшие его из стороны в сторону, уносившие в какую-то неведомую оранжевую даль – за маковое поле, за георгиновый луг, за костёр рябиновый, за кумачовый алый горизонт.
…Когда вышли на улицу, Клава сказала:
– У нас премии сегодня дают на торжественном заседании. – Она быстро взяла у мужа сумки. – Костя, ты давай в детский сад за Тоней и Зиной и в ясли за Анютой, а я быстро на фабрику слетаю и тут же обратно.
– Сумки-то зачем взяла?
– Тебе же троих тащить.
– Управлюсь.
– Ничего, сама донесу. Проводи до трамвая.
Костя взял из детского сада Тоню и Зину, из яслей – маленькую Анютку, накормил их, умыл, причесал и уложил спать. Анютку – в самодельную колыбель, которую собственноручно сколотил из двух старых ящиков из-под конфет, взятых на заднем дворе кондитерской лавки на рынке, а Зину и Тоню (обеих вместе) – тоже на самодельный топчан, сделанный из особой деревянной обшивки, в которой прибыл однажды на Электрозавод иностранный груз. Доски из заграничной упаковки были чуть ли не полированные, так что топчан получился очень хороший, будто купленный в магазине.
Уложив детей, Костя, тоже умытый и причёсанный, сидел на кровати босиком, в майке и штанах и ждал Клаву.
Костя крепко наломался сегодня на субботнике. Но был он молод, физически здоров, и усталость не утомила его, а, наоборот, только размяла, растревожила мускулы.
…Клава вбежала с улицы в их тесную, четырнадцатиметровую, комнатушку раскрасневшаяся, свежая. (Кровать, топчан, люлька, кухонный столик, на котором обедали, комод – вот и все четырнадцать метров, повернуться негде.)
Костя вскочил с кровати, взял из рук Клавы сумки, прижался губами к её огненно-рыжим волосам, вдохнул любимый, вкусный, родной запах жены.
Клава сняла парусиновые туфли и, оставшись тоже босой, как и Костя, осторожно, на цыпочках подошла к Анютке, поправила одеяло, потом взглянула на старших, повернулась к Косте (он так и стоял с сумками в руках, гордый от того, что порученное ему дело «транспортировки» детей домой и ухода за ними не только выполнено, но и перевыполнено) и поцеловала мужа в щёку.
– Молодец! – сказала Клава.
Костя, не выпуская авосек, хотел было обнять жену, но Клава прижала палец к губам и кивнула на дочерей: «Т-с-с! Подожди, пока уснут».
Потом Клава начала выкладывать покупки. Между прочим на столе оказалась бутылка красного вина. Костя удивлённо посмотрел на жену.
– С премии! – шёпотом объяснила Клава.
Она доставала с висевшей на стене над столом застеклённой полки тарелки, стаканы, вилки, тянулась, белея икрами ног, то в одну, то в другую сторону, и вся её ладная и как-то по-женски вызывающая, дразнящая мужской глаз фигура, «ложилась» Косте на сердце, освобождала от всех забот и мыслей и оставляла в душе только одно состояние – всё время, все двадцать четыре часа в сутки быть рядом с этой женщиной, чтобы каждую минуту, вытянув руку, можно было бы ощутимо убедиться в реальности её присутствия.
Клава постепенно раздевалась.
Она знала, что Косте нравится смотреть, как она раздевается, да и самой ей почему-то тоже нравилось раздеваться при муже.
Конечно, если бы у них была вторая комната, то Клава, по всей вероятности, уходила бы переодеваться туда. Но этой второй комнаты у них не было, и с самого начала их брака, когда они ещё жили у свёкра за занавеской, Клава сразу привыкла не стесняться Костю, и он привык к тому, что она всегда раздевалась на ночь за занавеской рядом с ним. Привык к этому и полюбил эти, поначалу вроде бы напряжённые и неловкие минуты приобщения к чему-то запретному и тайному, когда на него веяло от раздевающейся рядом жены слабым потом и ещё чем-то женским, кружащим голову, путающим мысли, но потом эти минуты в пору их жадной и ненасытной друг другом молодости стали самыми желанными, самыми ожидаемыми, и так это и осталось между ними и с каждым годом становилось всё более желанным и ожидаемым для обоих.
Клава сняла кофточку. И Костя, увидев её полные, чуть покатые белые плечи, сразу испытал знакомое волнение. И первый, лёгкий, дурманящий туман возник перед ним и, качнувшись, уплыл в сторону.
Клава опустила юбку, перешагнула через неё и повесила на спинку стула. И от этого знакомого, сотни раз виденного движения Костя снова испытал волнение, как в молодости, когда в первые месяцы их жизни вдвоём он всё никак не мог насытиться в такие минуты взглядами на фигуру жены.
Клава нагнулась, взялась обеими руками за край комбинации и неожиданно, подняв голову, посмотрела на Костю. Они встретились глазами, и взгляды их были пристальны и напряжённы.
Костя никогда бы не смог объяснить себе (да и не пытался делать этого), почему именно это движение так завораживающе действует на него, почти ослепляя его, обрывая все остальные связи со всем, что его окружало.
Наверное, здесь было всё: и молодая страсть, и зрелость их чувственных отношений, и, может быть, даже то, что было недоступно его пониманию, а было просто присуще необъяснимой, неизрекаемой его мужской и одновременно человеческой сущности – незримая связь между этим последним движением и рыжими девчонками, сопевшими во сне всего в двух шагах от них.
Она стояла перед мужем, не стесняясь спящих за спиной дочерей (присутствие их даже, наоборот, как-то по-новому волновало Клаву, и это волнение – она чувствовала – передаётся и Косте). И Костя снова ощутил возвращение того ослепления и дурмана, который на секунду схлынул было с него, и, подняв голову, уже ничего не видя перед собой, двинулся к жене, прижался губами к её закрытым глазам и начал целовать, целовать, целовать её лицо, волосы, шею, плечи…
Они лежали на кровати в своей тёмной четырнадцатиметровой комнатке (забыв о бутылке красного вина, забыв вообще обо всём на свете) и шептали друг другу бессвязные, ничего не значащие, но такие, наверное, прекрасные в это мгновение слова:
– Костенька, рыженький мой, солнышко моё, обними крепче, поцелуй…
– Милая моя… любимая, ненаглядная… золотая…
– Костенька… рыжая головушка…
– Клавушка, Клавушка…
Ночь уносила к звёздам их слова, ласки, движения. Костя лежал на правом боку, лицо Клавы было рядом с его лицом, полуоткрытые её губы тепло дышали в его губы, он ощущал на правой руке лёгкую тяжесть её головы. Иногда она брала его руку и целовала её, и оба они чувствовали, что всё, что было до этого мгновения с каждым из них (днём, на работе, с другими людьми), всё эго была разорванная на две половины их общая действительность, и только сейчас, вот в эти мгновения, эти две половины начали сближаться в одно единое целое, которое надо соединить, сомкнуть, чтобы восстановить их общую разорванную действительность в её естественных (как они это ощущали) и нерасторжимых границах.
– Иди ко мне, сладкий мой, – шептала Клава, – иди скорее…
И небо падало на землю, и мир, разомкнутый на две половины – мужчину и женщину – снова становился единым, снова восстанавливался в своём неумирающем естестве, и вечность, накрыв их пологом своей неистребимости, уносила обоих за последний горизонт тайны творения.
– Хочу парня, мальчишку хочу! – шептала Клава. – Дай мне его, Костенька, подари мне его!
И Костя тоже хотел, хотел, чтобы у них родился сын, он обнимал Клаву, шептал ей что-то, жарко обещая мальчишку, парня, и погружался всё глубже и глубже в распахнутый настежь плен её женской щедрости и своего мужского счастья.
– Рыженького мальчишку хочу, Костенька! – шептала Клава. – Такого же, как ты. Вот он! Вот он, мой маленький, мой хороший… Вижу его, вижу! Вот он! Вот он!
Косая, белая молния безмолвно разрезала небо над их головами, над их четырнадцатиметровой комнатушкой, над их бараком, над всей Преображенкой.
Безгласный гром уронил с неба свою освобождённую тяжесть.
И пал на землю дождь, безудержный ливень пробился в леса и озёра, и забурлили озёра, зазеленели леса, вышли из берегов реки, и новый поток жизни, омывая долины своей стремительной страстью, сметая на своём пути всё, что могло помешать будущему, помчался по земле вперёд, в далёкий океан всеобщего человеческого бытия.
…Лёжа друг около друга, обнявшись, они долго ещё летали в ночном небе Преображенки и вместе, и каждый отдельно, то подлетая друг к другу, то разлетаясь в разные стороны, кружась среди оранжевых звёзд в своих счастливо закрытых глазах.
Рядом, в темноте, мирно сопели и причмокивали во сне их маленькие рыжие девчонки, и Костя Сигалаев, ощущая около себя усталую, нежную, лёгкую тяжесть жены, подумал о том, что, если бы его сейчас спросили, как спрашивали ещё до революции в школе, – что такое «царствие божие»? – он не задумываясь ответил бы: это то, что происходит с ним сейчас.
Полное согласие всего того, что было внутри, со всем, что было вокруг. Соединённость вчерашнего дня с сегодняшним, и сегодняшнего с завтрашним. Жена, дети, своя крыша над головой (хоть и деревянная, но скоро будет другая), работа, завод, цех, ребята по бригаде, Митя Андреев, Заботин и новые дома, которые они построят на месте свалки, и рощица-сквер, которую они разобьют около домов.
А что надо ещё? Что можно было ещё добавить к «царствию божьему»? Согласие с самим собой? Оно было у него полное. Счастье? Куда уж больше можно хотеть счастья, чем столько, сколько у него есть. Вот он лежит, большой и сильный, свободный и самостоятельный, свободный до звона.
И Клава рядом. Вот оно что это такое – «царствие божие». Это – Клава. Без неё никакого «царствия божия» нет, не было и быть не может. Она – вход в «царствие божие», и райский сад, и райские кущи. Она сама «царствие божие» – входи в него и живи в нём, и воздастся тебе.
И правда, что ещё надо? Работай на совесть, живи по справедливости, и всё будет твоё – и земля, и небо, и работа, и дом, и воздастся тебе.
…А Клава лежала рядом с Костей, уткнувшись носом в его плечо, вся залитая от макушки до пяток каким-то своим, внутренним, ровным и чистым сиянием и светом, вся переполненная своим женским счастьем, вся в мыслях о своём будущем рыжем мальчонке, думая о том, как она будет носить его, прислушиваться к нему, ощущать его ручки и ножки, улавливать толчки его сердца, как он будет ворочаться и расти в ней, как она будет сладко и больно рожать его, как ей первый раз принесут его кормить и он дотронется своими слепыми губёнками до её груди, возьмёт сосок и зачмокает, засопит, а потом будет кусаться, и она «услышит» своей грудью, как родился у него первый зубок…