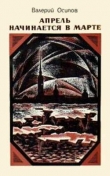Текст книги "Я ищу детство"
Автор книги: Валерий Осипов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
И вот теперь, живя в Уфе, в чужом городе, и вспоминая довоенную Москву и свой рабочий район, северо-восточную промышленную московскую окраину, я почему-то прежде всего видел все эти, такие знакомые мне, ставшие привычным пейзажем моего довоенного детства, фабричные и заводские силуэты – трубы, краны, цехи. Я скучал на новом месте по Москве. Скучал по своей довоенной жизни, и поэтому далёкие утренние голоса Преображенских заводов и фабрик звучали в моей памяти как напоминание о тех мирных временах, когда всё было хорошо – я учился, папа был дома, проверял по вечерам мои уроки по арифметике, играл со мной в шахматы. Тем более что теперь я в школу не ходил, а только стоял целыми днями, а иногда и ночами в очередях за продуктами и хлебом.
«Как там сейчас, в Москве, на Преображенке?» – думал я, слушая по радио сводки Информбюро о положении на фронтах. Фашисты были совсем неподалёку от Москвы – в это невозможно было поверить. Но в Москве выходили газеты, из Москвы передавали радиопередачи, в Москве работали заводы и фабрики. «И Электрозавод, наверное, работает, – думал я, представляя себе Хапиловку, Яузу, наши белые дома, наш сквер, – и «Красная заря». По утрам идут по улице Девятая рота к Электрозаводу на Журавлёвой горке тысячи людей. Они всё отдают для фронта, для победы. А я тут в Уфе по утрам бездельничаю, хныкаю, предаюсь каким-то сопливым настроениям…»
«А почему бы и мне не устроиться на работу? – подумал я однажды. – Разве я не хочу, чтобы мы скорее победили Гитлера? Разве я не могу помочь папе, который воюет сейчас на фронте? Ведь сейчас в Уфе столько военных заводов, которые работают для победы, для фронта.
Ну, хорошо, на завод меня не возьмут – мало лет, всего лишь одиннадцать. Но ведь есть же и другие места, куда можно устроиться, если прибавить себе два-три лишних года. Тогда и я буду отдавать всё, что могу, для фронта и для победы. И, может быть, тогда мне и карточку дадут рабочую, и зарплату я начну получать, как настоящий рабочий. Маме сразу станет легче, и всё по-другому будут ко мне относиться, как к взрослому. Надо попробовать».
Я стал вспоминать, как вели себя, как разговаривали жившие в наших белых домах на Преображенке рабочие Электрозавода, какие они употребляли слова, какие делали движения и жесты. И «вооружившись» этими Преображенскими воспоминаниями, приступил к реализации своего плана.
Но без документов со мной, конечно, никто и нигде не хотел даже разговаривать. Несколько дней я ходил по городу, презирая себя за малый возраст и рост, но всё было напрасно. Везде надо мной смеялись, как только я открывал рот, требуя трудоустройства. Я был близок к отчаянию. Хандра первых военных месяцев снова готова была напасть на меня. Но я не сдавался.
Наконец на улице Ленина, в самом центре, я набрёл на небольшую радиомастерскую. Усатый, хромой и даже какой-то подслеповатый дядька в кожаном фартуке открыл на мой стук маленькое деревянное окошко в дверях и высоким, почти женским голосом спросил, что надо.
Вспомнив манеры и жесты своего соседа по шестому московскому подъезду, отца многодетного семейства Сигалаевых слесаря Кости Сигалаева, и предельно мобилизовав свои голосовые возможности, я грубым, одиннадцатилетним «басом» небрежно бросил: ищу, мол, работу, не найдётся ли у вас здесь чего-нибудь подходящего?
– А сколько годов-то? – поинтересовался хозяин кожаного фартука.
– Четырнадцать, – храбро сказал я.
– Врёшь небось… Ну да ладно, зайди.
Он открыл всю дверь, и я оказался в тёмном низком помещении, в центре которого стоял верстак, сплошь заваленный какой-то допотопной металлической рухлядью.
– Садись.
Я сел на перевёрнутый ящик.
– Паяльник в глаза когда-нибудь видел?
Что должен был бы ответить Костя Сигалаев, окажись он на моём месте?
– А как же, – уверенно сказал я.
– Олово понимаешь?
– Что-что?
Подслеповатый дядька хихикнул.
Но до меня, хотя и не сразу, дошёл всё-таки его вопрос.
– Мы к олову привычные, – солидно сказал я.
– Смелый ты, парень, – сделал вывод хозяин мастерской. – И, видать, нахальный. Но это ничего. Нахальство по нынешним временам – второе счастье.
– Так берёте, что ли, на работу? Я чего делать не умею, научусь быстро.
– Дрова колоть умеешь?
– Умею.
– Возьми топор в углу. Поленница во дворе.
Через десять минут я приволок с чёрного хода охапку поленьев.
– Ничего, ничего, – одобрил мои скорые действия хозяин мастерской. – Рука лёгкая.
Я был счастлив. Какие-то отношения, кажется, завязывались.
– Где живёшь-то?
– На улице Крупской.
– А с кем?
– С матерью.
– Отец на фронте?
– На фронте.
– Ну, ладно, коли на фронте… Приходи завтра с утра, обследуем тебя на грамоту, какой ты есть привычный к олову.
Радиомастерская одной только вывеской могла подтвердить своё название. Никакой радиоаппаратуры здесь и в помине не было. Приёмники в соответствии с особым строгим приказом были сданы жителями города ещё в самом начале войны. Изредка приносили в починку старые репродукторы. Всё же остальное время Саранцев (такая была фамилия у заведующего мастерской) паял вёдра, тазы и корыта, а в промежутках между основными своими занятиями мастерил электроплитки, которые и продавались тут же в мастерской штучно, за государственную цену, только семьям фронтовиков по ордерам, выданным райсоветом или военкоматом.
Саранцева пытались подбить на оптовое производство плиток с последующим сбытом по спекулянтским каналам разные тёмные дельцы, но он всех гнал в шею. Он вообще был исключительно честным человеком в смысле расчёта со своими заказчиками и покупателями, никогда не брал ничего сверху и не признавал никакого калыма. А когда какая-нибудь торопливая хозяйка пыталась всучить ему чаевые за ремонт вне очереди своего прохудившегося вёдра или корыта, объясняя сверхсрочную свою просьбу неотложной домашней необходимостью, он и её гнал из мастерской. Все заказы и каждую проданную солдатским жёнам по ордеру электроплитку Саранцев аккуратно вносил в толстую амбарную книгу. Он был и мастером, и бухгалтером, и заведующим своего заведения одновременно.
Моя полная неосведомлённость в паяльных делах и олове была открыта, разумеется, в первый же день. Но Саранцев никакого неодобрения по этому поводу не высказал. На меня были возложены обязанности по уходу за печкой-буржуйкой, дровяные хлопоты и сбор отходов производства. Кроме того, я разносил иногда по домам починенные тазы и вёдра, чего сам заведующий по своей хромоте, естественно, делать не мог.
Постепенно Саранцев стал приобщать меня и к своему ремеслу. Паять я научился уже через неделю. Потом стал натягивать спирали на кирпичёвую основу электроплиток. Слабее шли лудильные работы – у меня не хватало терпения зачищать нужное место на каком-нибудь ржавом корыте до необходимой кондиции, чтобы накладывать на него металлический шов или заплату.
В конце первого месяца своей трудовой биографии я уже мог считать себя вполне квалифицированным подмастерьем-жестянщиком и запросто сдал бы тарификационный экзамен на третий разряд по ручной металлообработке («Вот бы теперь-то появиться на Преображенке, – думал я иногда. – Сразу бы стал своим человеком среди живущих в нашем доме слесарей с Электрозавода»).
И тогда Саранцев доверил мне один из самых трудоёмких процессов плиточного производства – изготовление из обыкновенной миллиметровой проволоки спирали. При помощи системы креплений мы очень тщательно накручивали проволоку на специальные железные болты и штыри с винтовой насечкой и ставили их на закал. А до этого приходилось долго и нудно протягивать её несколько раз через специальные тиски – для большей крепости, чтобы не так быстро перегорала, если нерадивая жена фронтовика забудет вовремя выключить плитку.
Безусловно, эту работу – электроплитки по военкоматовским ордерам – можно было впрямую называть работой для фронта, для победы. Прочтёт солдат на переднем крае письмо из дома о том, что его семье вручена электроплитка от государства, и сильнее будет бить фашистов. А кто делал плитку? Кто накручивал спираль, закалял и протягивал её? Кто укладывал хрупкую, свернувшуюся бесконечным числом мелких колечек, металлическую «гусеницу» в извилистые, как лабиринт на последней странице довоенного журнала «Пионер», желоба кирпичёвой основы? Кто опробовал плитку под разными напряжениями? Кто набивал на неё снизу противопожарный ободок? Кто вырезал этот ободок тяжёлыми кровельными ножницами из какого-нибудь старого бидона? То-то же!
Саранцев объяснил мне и первые азы прикладных электротехнических навыков, хотя я уже и раньше был слегка знаком с этим делом – до войны мне очень много рассказывал об электричестве папа. Да и потом человек, проживший первые одиннадцать лет своей жизни рядом с Электрозаводом, не мог, конечно, хотя бы элементарно не разбираться в электричестве.
Но Саранцев направлял мои прежние познания на мастеровой, практический лад. Как определить, например, сопротивление, или силу тока, или напряжение без прибора, с одной только сетевой розеткой? Не знаете? То-то. А я уже знал это зимой сорок первого года. Саранцев научил. Или как из обыкновенной металлической кружки сделать кипятильник? То-то и оно.
…Когда мы вернулись из эвакуации в Москву, на Преображенку (много событий произошло в моей уфимской жизни до этого после закрытия мастерской), я пытался на первых порах ввести некоторые электротехнические новшества в нашей квартире. Например, снял выключатели в уборной и ванной, чтобы там никогда напрасно не горел свет. Один конец провода подвёл к задвижке, другой – к железной скобе. Заходит человек в уборную или в ванную, закрывает за собой дверь, задвигает задвижку в скобу – свет зажигается, электрическая цепь замкнута.
А когда надо выйти, человек выдвигает задвижку из скобы – цепь разомкнута, лампочка гаснет. И таким образом, получается, что свет ни в уборной, ни в ванной никогда не горит напрасно. Прикладная электротехника в действии. Плюс наглядная экономия электроэнергии. Промышленность может не выпускать больше выключатели для мест общего пользования – опять же экономия.
Я уже хотел было идти с этим изобретением на Электрозавод, чтобы заводские инженеры по достоинству оценили мою идею. Но тут выяснилось, что в ней есть один существенный просчёт. Металлическая задвижка, к которой был подведён один конец провода, иногда сильно била током посетителей мест общего пользования, когда они, находясь в уборной или в ванной, замыкали электрическую цепь, то есть вводили задвижку в скобу. Конечно, для того чтобы избежать этого неприятного момента, существовала изоляционная лента, которой я регулярно обматывал задвижки. Но лента часто разматывалась…
По всему по этому сделанное мной изобретение внедрить на Преображенке не удалось. А жаль. Я уже собирался снимать выключатели и переоборудовать электрическую схему туалетов и ванных и в квартире Сигалаевых, и в квартире Частухиных, и вообще во всём нашем подъезде. Но не получилось. По техническим причинам плодотворная новаторская электротехническая идея не осуществилась. Мою встречу с инженерами Электрозавода пришлось отменить. Экономия электроэнергии на Преображенке не состоялась. Электрический свет в туалетах и ванных в квартирах нашего подъезда продолжал иногда часами гореть напрасно (если кто-нибудь, скажем, забывал погасить его на ночь), нанося тем самым огромный вред народному хозяйству.
ПЯТАЯ ГЛАВА
А всех рыжих сестёр Сигалаевых на Преображенке называли «Преображенская гвардия». И это прозвище (особенно вторая половина слова «Преображенская» – «женская») удивительно точно соответствовала внешнему виду всего младшего поколения семейства Сигалаевых.
Вот они идут, бывало, куда-нибудь все вместе – впереди отец и мать, Костя и Клава, а позади несколько дочерей, и как-то хорошо и уверенно за будущее рода человеческого делается на душе, смотришь на это почти торжественное и в чём-то даже вызывающее шествие. Все сёстры – фигуристые, ясноглазые, все какие-то аккуратные, ухоженные, подтянутые, все полногрудые, длинноногие, круглобёдрые, и каблуками стучат одинаково, и все в мать – почти красноволосую и всё ещё статную, несмотря на годы, Клаву Сигалаеву. Настоящая «женская гвардия», одна к одной, одна другой завлекательнее. «Ну, такие-то нарожают ещё одну рыжую армию, числом побольше, только держись!» – думает каждый, кто встречает их, удивлённо останавливается и провожает взглядом.
А глава семейства, Костя Сигалаев, хотя и тоже рыжеватый, но, конечно, не такой огненно-сочный, как Клава, – щупловатый, бледный, костистый, сутулый, но зато уж, как каждый встречный понимает, орёл, ежели вывел такую завидную породу, специалист своего дела.
Костя Сигалаев был коренной преображенец – он даже родился в Преображенском монастыре. Его отец был ткачом на одной из суконных фабричонок, густо стоявших на реке Хапиловке в месте слияния её с Яузой. Ещё задолго до революции, когда Преображенский монастырь окончательно потерял всякое значение и в нём, чтобы не терять отмеченное высшим провидением место, церковные власти пытались устроить женскую богадельню, многодетные рабочие хапиловских прядильных и ткацких фабрик, жившие за Преображенским кладбищем в бараках, явочным порядком захватили несколько отличных каменных зданий монастыря и основали там нечто вроде общежития (а бездетных обитательниц богадельни уплотнили всех сначала в одном корпусе, а потом и вовсе куда-то из монастыря выжили).
Епархия, конечно, не сразу смирилась с потерей святого места, и в монастырь была послана полиция, но ткачи сначала отбились от неё стенкой, а потом пошли с бумагой по начальству, нажимая на многодетность семей, занявших добротные каменные монастырские кельи.
Отец Кости Сигалаева был, по семейному преданию, одним из главных заводил всего этого дела. Особенно он отличился в первом кулачном бою, в котором хорошо «поднёс» двум городовым, и был поначалу даже забран в часть и жестоко избит там, но потом отпущен.
Закрепиться ткачам в монастыре неожиданно помогла община московских староверов. Желая насолить епархии за все свои притеснения от неё, староверы, дав крупные взятки полиции и городским властям, попросили отдать бездействующую из-за отсутствия богаделок монастырскую церковь своей общине. Деньги подействовали, наверное, куда как сильнее, чем претензии епархии (тем более что за епархией оставались ещё два храма в двух шагах от монастыря – Богоявленский, на Преображенской площади, и кладбищенская обитель на Преображенском валу). Монастырскую церковь отписали староверам, и они переосвятили её, а за всеми этими дрязгами оставили в покое и ткачей.
И вот какая смешанная и даже смешная получилась картина. Монастырь захватили и жили в нём рабочие. В центре монастырских зданий (новые обитатели которых любили и пошуметь, и выпить, и подраться) молились своему древнему, дониконианскому богу дремучие староверы. У стен монастыря с одной стороны бойко шумел Преображенский рынок, с другой – активно вела медицинскую пропаганду туберкулёзная больница, с третьей – печально качало листвой Преображенское кладбище (со своей и поныне действующей церковью), с четвёртой – тянулась Черкизовская яма, населённая рыночными спекулянтами и ворьём, а с пятой – гудел колоколами Богоявленский храм, а в двух шагах от храма, по берегу Яузы, уже поднимались кварталы одного из главных гигантов столичной индустрии – московского Электрозавода, а за Хапиловкой дымили десятки прядильных фабричонок, вставали трубы будущего швейного объединения «Красная заря», а за кладбищем дымилось и пыхтело опять что-то ткацкое и текстильное (так прямо и называлась одна из самых больших улиц этих мест – Ткацкая).
Вот такая мешанина образовалась на месте бывшего царского села Петра I Преображенского. (Я, кажется, только сейчас понял, в каком интересном районе я родился.)
А уже после революции в одном из корпусов монастыря, на первом этаже, прямо напротив старообрядческой обители, открыли отделение милиции. И это действительно было смешно – около темноликих икон древнего письма, в тусклом горении свечей молились о спасении души бородатые угасшие старики и черноплатые старухи, неизвестно с какого света собиравшиеся здесь; а в открытые двери церкви было видно, как волокут с рынка по двору монастыря в милицию с разбитыми рожами и в разорванных, растерзанных до пупа рубахах жизнерадостных, мордастых пьяниц и хулиганов, которых печальными взглядами провожают туберкулёзные больные; а вдоль стены Преображенского кладбища грустно тянется погребальная процессия; а в Черкизовской яме разрывается от шального веселья чья-то удалая гармонь; а через Преображенскую заставу чинно шествует в лиловой рясе с золотым крестом на арбузообразном брюхе знаменитый протоиерей Богоявленского храма отец Иосиф; а на Преображенский рынок и с рынка навстречу благочинному катят телеги или сани с мужиками в овчинных тулупах, везущими мясо, птицу, зелень, мешки с мукой и картошкой, капустой и морковью, бараньими ногами, свиными тушами, петухами, курами, гусями, утками; а в Богоявленском храме уже ударили в колокола к вечерней службе, но, заглушая их несерьёзный и какой-то игрушечный звон, гортанно заорали, забасили, загорланили десятки фабричных и заводских гудков на «Красной заре», на Первом инструментальном, на «Физэлектроприборе», на «Красном богатыре», на Электрозаводе и на многих других заводиках и фабричонках, покрывая своими густыми голосами металла и пара все иные звуки, висящие над Сокольниками, Измайловом, Преображенкой и Черкизовом, а возле кинотеатра «Орион» уже собираются на вечерние сеансы девушки в осоавиахимовских футболочках и парни со значками ворошиловских стрелков…
Да, трудно, наверное, ещё в каком-нибудь другом районе Москвы, кроме как у нас на Преображенке, было найти такое смешение разнообразных и противоречивых сторон человеческого бытия, такой конгломерат старых и новых форм жизни, такой «винегрет» людских характеров и судеб, такой водоворот интересов, целей, намерений, поступков и проступков, такое живописное переплетение всех социальных слоёв и общественных граней действительности.
…В места, где прошло наше детство, тянет иногда, наверное, сильнее, чем преступника на место преступления. Кажется, что когда-то, давным-давно, здесь случилось то, чего теперь уже ни изменить, ни исправить нельзя. Что же именно? Что произошло здесь, что заставляет теперь тебя снова и снова возвращаться сюда в мыслях и чувствах, во сне и наяву? Ты дал здесь себе клятвы, которые потом не исполнил? Нарушил верность друзьям? Сделал свой первый необдуманный шаг? Впервые огорчил родителей – вызвал горькую усмешку отца или слёзы матери? Или, может быть, здесь у тебя возникли желания, которые потом так и не превратились в твои возможности?
Нет, просто здесь ты родился, здесь небо впервые распахнулось над твоей головой, и с этим теперь уже ничего не поделаешь, этого теперь уже изменить нельзя.
Дорога в страну нашего детства лежит через долину воспоминаний. Наверное, воспоминания – самый искренний вид литературы, потому что вспоминается всегда только то, что было на самом деле. С высоты прожитых лет, с каменистых вершин содеянного и совершённого (на пользу или во вред людям, или то же самое для самих себя) мы медленно спускаемся тропинкой воспоминаний в зелёную долину нашей юности, в тенистый сад начала нашей человеческой жизни. Когда-то каждого из нас здесь со всех сторон окружало ожидание будущего. Теперь то будущее стало настоящим. Мы поднялись на вершины зрелости (или забыли о них? остановились на полпути?). Пора оглянуться назад. В зелёную долину юности. Пора сравнить высотное здание нашей зрелости с полузабытым в хаосе бытия, полупотерянным для нас навсегда ветхим домиком нашей одноэтажной юности…
…Длинный зелёный спуск к речушке, деревянный мост и затяжной подъём. И на пригорке – силуэт колокольни над густыми кладбищенскими купами деревьев на фоне высокого неба. Красножелтый, почти игрушечный вагончик трамвая спускается к речушке, дребезжит через мост, начинает медленно подниматься вверх, останавливается около колокольни, ты выходишь из него и видишь перед собой зубчатые стены и башенки древнего монастыря.
Далёкая, неповторимая, прекрасная страна детства… Стоит мне только подумать о ней, как передо мной действительно каждый раз сразу же возникает уходящий вниз, к реке Хапиловке, пологий склон Преображенского вала, и древняя, умершая звонница церкви чернеет своими безглазыми проёмами окон на фоне неба моего детства. И большой, огромный сквер лежит на обоих берегах реки, если оглянуться назад. И за редкими кронами деревьев виднеются шесть почти одинаковых шестиэтажных светлых домов – красивое, что и говорить, и легендарное место.
Эти дома когда-то построил и этот сквер разбил здесь на месте гигантской общегородской северо-восточной московской свалки один из самых любопытных людей моего детства, мой сосед по подъезду, отец сестёр Сигалаевых, слесарь с Электрозавода Костя Сигалаев.
По рассказам Клавы Сигалаевой, Костя Сигалаев вернулся на Преображенку с гражданской войны не то чтобы сильно контуженным, а как бы слегка чокнутым, «вдаренным» из-за угла пыльным мешком.
К тому времени у них уже было двое детей – Тоня и Зина. И жили они все четверо вместе с семьёй отца Кости, старика Сигалаева, всё в том же Преображенском монастыре, в одной из его каменных двухэтажных построек (в которой потом будет открыто отделение милиции), в большой монашеской келье со сводчатым потолком и полукруглыми окнами на втором этаже.
В этой келье с выложенными большими белыми кирпичами крестами на всех четырёх стенах Костя родился, отсюда ушёл на гражданскую, сюда же и вернулся и теперь жил с семьёй в углу за ситцевой в красный горошек занавеской.
Никаких удобств в монастыре не было – ни канализации, ни водопровода (водоразборная колонка и всё остальное находилось во дворе). Удобств не было, а любовь была. Любовь между Костей Сигалаевым и Клавой была такая, что уже через год после возвращения мужа с войны Клава родила третью дочь, Аню, такую же рыжую и сероглазую, как и первые две.
За верность своей, сигалаевской рыжей масти старик Сигалаев простил Клаве рождение третьей дочери (со всеми тремя девчонками сидела, конечно, Костина мать; сама Клава уже через месяц после родов моталась по два раза в день с фабрики домой – кормить грудную Аню).
Но холостые Костины братаны рождения третьего ребёнка невестке простить, конечно, не могли: в келье вместе с новорождённым младенцем набиралось теперь уже девять живых душ – шестеро взрослых и трое детей.
И тогда Костя Сигалаев и продемонстрировал те новые качества своего характера, с которыми он вернулся на Преображенку с гражданской войны и которые поначалу были восприняты всеми как контузия.
Костя уже в первые дни после прихода с польского фронта начал вести в семейном кругу какие-то туманные и странные разговоры о недовольстве своей профессией. Все три брата Сигалаевы были потомственными ткачами – в отца. Подрастал очередной «сигалёнок» – старик брал его за руку и отводил с монастырского двора к себе на фабрику.
Так вот, вернувшись с гражданки (а до неё он успел прихватить пару лет ещё и на царской войне, на германском фронте), Костя Сигалаев, выпив иногда в воскресенье с отцом и братьями, выходил во двор монастыря, садился на лавку напротив старообрядческой церкви, закуривал и подолгу смотрел на мелькание свечей в тёмных окнах храма, на подходивших к церкви и уходивших староверов, похожих на темноликих великомучеников и постников со своих древних икон, прислушивался вполуха к заунывному пению и старославянскому бормотанию молившихся.
Он сидел так когда час, когда два, улыбался, вздыхал, качал головой, что-то шептал самому себе, словно разговаривал сам с собой. И наблюдавшие за ним в эти минуты соседи не могли, безусловно, не сойтись во всеобщем мнении, что паренёк-то наш, видать, пришёл с войны немного того…
Вернувшись домой, в келью, Костя садился ужинать и говорил сидевшим рядом за столом отцу и братьям, кивая на окно, в сторону старообрядческой церкви, примерно такие слова:
– На фронтах воевали за новую жизнь, а здесь, под боком, чего делается? Пещера, а в ней дикари какие-то бродят ископаемые. Поют, как медведи, с допотопным богом своим целуются, мохнатой лапой с двумя перстами крестятся. Какая же это новая жизнь? Одна срамота, да и только.
– Ты бога не трожь, – примиряюще говорил старик Сигалаев, – у каждого свой бог, кому какой нравится. Советская власть каждому разрешает своему богу молиться.
Выпив полстакана (братья собирались за одним столом редко, только по выходным), Костя показывал на каменные кресты на стенах кельи и продолжал говорить горячо и взволнованно:
– А мы разве не в пещере живём? Тоже, как медведи, в одной берлоге толчёмся, друг в друга тыкаемся. Какая же это новая жизнь, если у тебя над головой крест даже ночью висит? Куда ни посмотришь, на все четыре стороны кресты висят. Сковырнуть бы их надо к чёртовой бабушке!
– Ты подожди ковырять, – успокаивал сына старик, – от ковырянья дырки в стенах бывают… Я эту пещеру своими руками захватил, вы здесь под каменным потолком нарождались, за каменными стенами, а не в деревянном бараке на нарах да на досках… А прежде чем монахов упрекать, которые эти хоромы построили, ты бы у начальства нашего квартирку попросил – зря, что ли, по фронтам трепался? Или не заслужил себе квартиру, красный герой, а?.. Монахи эти кельи с крестами строили, мы их вместе с крестами у них отняли, а что же вы, молодые, себе жилья без крестов нажить не умеете? Или за отцовской спиной, под отцовской крышей спокойнее живётся? Залез себе за занавеску и сопи в две дырки. Нам-то со старухой здесь, видно, помирать придётся, а вот вы-то квартирки себе хлопочите, добивайтесь их у начальства. А когда получишь новое жильё, вот тебе и будет новая жизнь, без крестов и пещеров!
Братья Кости, Клава и свекровь во время этих разговоров молчали. Старуха и Клава понимали, что с выпившими мужиками разговаривать бесполезно, да и небезопасно. Братья же Сигалаевы молчали потому, что им, пока ещё холостым, под отцовской крышей действительно жилось и легче и проще.
Но когда у Клавы родилась третья дочь, братьев словно прорвало. Разговоры о том, чтобы Костя немедленно требовал у начальства квартиру, происходили теперь каждый день. Клава плакала по ночам, прижимая к себе грудную Анютку, чтобы не дай бог не разбудила братанов. Костя лежал рядом, скрипел зубами, а на нападки братьев отреагировал вдруг совершенно неожиданно.
– Ну, вот что! – стукнул он однажды кулаком по крепкому монашескому столу после очередного громкого семейного разговора. – С фабрики вашей я ухожу! Хватит, помотал ниточки, покрутил шпульки, повертел веретена… Бабья это работа, а не мущинская!
Старик и братья, не ожидавшие такого поворота, с удивлением смотрели на «чокнутого».
– Бабья, говоришь? – прищурился старший Сигалаев. – А мы кто же, по-твоему, бабы?
– А кто же ещё? – сверкал глазами Костя. – Кто же вы ещё есть, если с тремя детьми на улицу гоните?
– Никто тебя не гонит, – сказал один из братьев. – Тебе одно говорят – проси квартиру, вырывай из зубов, ежели троих детей имеешь. Неужто сам не понимаешь, что всем вместе нам теперь невмоготу жить?
– Просил я квартиру, – процедил сквозь зубы Костя, не глядя на братьев, – не один раз просил.
– Ещё раз проси, настаивай!
– Раньше не давали – двое было, а теперь трое. Кому же ещё давать, как не тебе?
– Так, так, – стучал пальцами по столу старик. – Значит, бабья, говоришь? Значит, я, по-твоему, больше пятидесяти годов на бабьей работе отстоял? Ну, спасибо, сынок, на добром слове, уважил… А вот скажи-ка мне, дорогой сынок, куда сам-то с нашей бабьей работы уходить собрался? Какую такую настоящую мущинскую работу нашёл, а?
– На ламповый завод ухожу, – хмуро сказал Костя.
– Кем же? Уж не директором ли?
– Учеником слесаря, – строго сказал Костя.
– Учеником?! – ахнул старик и от волнения начал даже неправильно произносить слова. – С троим детям в ученики? Да чем же ты их кормить-то будешь?
– Ничего, прокормим, – уверенно сказал Костя, – с голоду не умрут.
– Слышь, – спросил у Кости второй брат, – а почему всё-таки с фабрики решил уйти? Ведь ты же ткач высокого разряда. Сколько тебе на ламповом из учеников до такой зарплаты расти, которую ты у нас имеешь?
– Долго объяснять, – махнул Костя рукой, – не поймёте.
– А ты объясни, объясни, – усмехнулся старший Сигалаев, – мы люди понятливые.
– Сейчас к электричеству надо прибиваться, – нехотя сказал Костя, – с электричеством профессию на руках иметь.
– С электричеством? – не унимался старик. – Это почему же такое?
– А вы нешто газет не читаете?
– Читаем не хуже тебя. Ну и что там такое особенное про электричество пишут?
– Электричество теперь везде будет, – твёрдо сказал Костя, – по всей России.
– А ежели током тебя по кумполу вдарит? – засмеялся старший Сигалаев. – Совсем чокнешься.
– Ну, ладно, будет, – встал Костя из-за стола. – Поговорили. Мы, дураки, на новую специальность учиться будем, а вы, умные, валяйте дальше узелки свои вяжите.
Вот так он и ушёл навсегда из монастыря с Клавой и тремя дочерями. Нанял клетушку в бараках за Преображенским рынком на спуске к Хапиловке. Уволился с ткацкой фабрики. И поступил учеником слесаря на Электрозавод.
Говоря братьям, что не один раз просил квартиру для себя и семьи у директора ткацкой фабрики, Костя говорил не то чтобы неправду, но не всю правду. Он просил квартиру всего один раз и больше своей просьбы повторять не стал.
У Кости Сигалаева была мечта…
На польском фронте в одном из занятых городов он нашёл в офицерском казино на полу странную, удивительную картинку, надолго поразившую его воображение. На вырванной из журнала странице были изображены на большой, во всю страницу фотографии несколько абсолютно незнакомых для глаза и абсолютно одинаковых белых десятиэтажных жилых домов, прямых и стройных, как березняк, как-то необычно стоявших друг около друга – не близко и не далеко, а как-то вольно, независимо, с какой-то непривычной свободой и не прямой подчинённостью друг другу, объединённые единой, общей идеей, составляющие одновременно и произвольный, и в то же время непроизвольный ансамбль.
А рядом с домами стояла чудесная, молодая, искусственно посаженная светлая роща – юные и редкие между собой деревца, похожие на девушек-подростков, едва доставали своими как бы застенчивыми и стыдливыми кронами окон первого этажа, словно смущаясь или стесняясь заглянуть в окна.