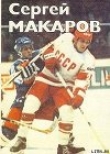Текст книги "Вечное невозвращение"
Автор книги: Валерий Губин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Извините, – сказал кто-то рядом.
Джуди повернула голову и увидела юношу, высокого, красивого и приветливо улыбающегося. У нее мурашки побежали по спине: мальчик был ужасно похож на кого-то из ее знакомых, очень близко знакомых.
– Вы Джудит Лоуренс? Боже, как долго я искал вас!
– Зачем вы меня искали?
– Не знаю: вы будете смеяться, я сам не верю в эту ерунду, но не осмеливаюсь нарушить волю отца.
– Правильно, не нарушайте.
– Только не смейтесь, если все это окажется чепухой. В нашей семье живет предание, Бог знает с каких времен, что в пятьдесят первом году двадцать первого века тот из потомков, кто будет жить, должен найти в одном из трех названных в предании городов девушку, которую зовут Джудит Лоуренс, и передать ей…
– Что передать? Что?
– Передать вот это письмо со стихами. Оно написано на пергаменте, и поэтому слова еще можно разобрать.
Джуди выхватила сверток, быстро развернула его.
– Ничего не понимаю. Разве это по-английски? И буквы почти стерлись.
– Как и все мои предки, я знаю письмо наизусть. Вот смотрите, тут написано в первой строчке: «Не правда ли, странно? Болит моя рана…». Что с вами, вам плохо? Это письмо действительно вам? Как здорово, что я нашел вас в первом же городке из трех. Хотя и здесь я искал почти неделю, пока мне не показали на ваш вагончик в поле.
– Как тебя зовут, мальчик?
– Карл Бернам. Но вам ведь не кажется, что все это какой-то странный розыгрыш? Правда не кажется?
Часть II
Глава первая
Я часами смотрю в окно, выходящее на веранду. Через него видно мокрое шоссе, дальше лес, за ним лысая заснеженная гора. Все вокруг черно-белое, и никакого другого цвета нет. И небо не серое, а смесь черно-белого. Там, за окном ничего не меняется: редко проедет машина, всегда почему-то в одну сторону, и каждый раз кажется, что она заблудилась и скоро поедет назад; иногда порыв ветра сдует ком снега с ветки и тогда черного становится больше, но ненадолго, потому что мокрый снег снова на нее налипает. Потом появляются несколько синиц, быстро пробегают по перилам, затем испуганно срываются и улетают. И так изо дня в день уже две недели.
Время от времени подходит медсестра и спрашивает, не пора ли ложиться. Но я отвечаю, что чувствую себя хорошо и хотел бы еще посидеть. Она, пожав плечами, уходит. На самом деле я чувствую себя плохо, но там, в палате, мне будет еще хуже. В один из дней, ничем не отличимый от других, я, поддавшись уговорам сестры, поднимаюсь, чтобы пойти лечь, и вдруг замечаю за окном что-то новое: на крыльцо взбирается по ступенькам ворона и, волоча подбитое или сломанное крыло, неуклюже проходит в угол веранды и там в углу затаивается. Она сидит неподвижно, закрывшись подбитым крылом, как в коконе, только глаза ее, как мне кажется, все время двигаются.
Я иду в столовую, беру со стола чей-то недоеденный кусок хлеба. Вернувшись, открываю форточку и бросаю его на веранду. Ворона от испуга подскакивает на месте и долго смотрит на меня, не обращая внимания на кусок. Я отхожу от окна, потом осторожно выглядываю из-за занавески. Ворона ковыляет к куску, хватает его и возвращается на прежнее место.
За день я несколько раз бросаю ей хлеб, и каждый раз она испуганно подпрыгивает на месте. На следующий день после завтрака я спешу к окну, и ворона сразу поднимает голову, словно давно ждет меня. На этот раз она не пугается, а сразу идет к куску и даже на обратном пути к своему углу поворачивается и смотрит на меня, словно благодаря. Я сижу и смотрю, как она долго и обстоятельно расклевывает хлеб, затем затихает в своем углу, время от времени поглядывая на меня. Так мы и переглядываемся до самого обеда.
С вороной не так одиноко. Мне нравится переглядываться с ней. Иногда, правда, она смотрит на меня долго и пристально и мне становится немного неуютно от ее взгляда. Она часто дремлет; я же терпеливо жду, потому что, открывая глаза, она сразу поворачивает голову ко мне.
Однажды утром я обнаруживаю, что вороны нет. Жду ее до обеда, но она так и не появляется. Нет ее и на следующий день. Еще через два дня мне разрешают погулять. Иду медленно, прислушиваясь к сердцу, и стараюсь ровно дышать. Через некоторое время слышу какой-то звук сзади. За мной метров в пяти идет моя ворона. Увидев, что я повернулся, она отпрыгивает. Я иду дальше, а она за мной, причем иногда уже не шагает, а прыгает, как положено птице. Но видно, что крыло еще не совсем зажило и немного отстает в сторону. Ворона провожает меня до самых дверей, и я в награду выношу ей кусок хлеба. Она благодарно каркает, хватает его и скачет за дом.
Так продолжалось несколько дней. Но вот, возвращаясь после ужина в палату, вижу широко раскрытую форточку в коридоре, ту, через которую я кормлю ворону.
– Весна уже, – объясняет сестра. – Топят сильно, так что не простудитесь. А воздух здесь замечательный, лесной.
Ночью мне приснилось, что я умираю, проваливаюсь в какую-то темную, бездонную яму. Страшным усилием воли вырываюсь из сна и вижу в свете ночника, что ворона сидит на спинке кровати и смотрит на меня. Мне становится жутко.
«Хоронить меня прилетела». – Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть страшной вороны, которая кажется огромной в полумраке, и снова забываюсь в вязком, неприятном сне.
Когда снова открываю глаза, в палате уже почти светло. Ворона сидит на том же месте и спит, нахохлившись и спрятав клюв в перья. Я стараюсь не шевелиться, чтобы не разбудить птицу. Кажется, я даже слышу, как она громко сопит.
«Возможно, в прошлой жизни она была женщиной, – думаю я. И вот в ней проснулась родовая память и она меня полюбила. Тем более, что я спас ее от голодной смерти».
Но никакой радости от этой неожиданной любви не испытываю, она меня неприятно будоражит, пугает. Если лягушка у Ивана-царевича обернулась прекрасной девушкой, то моя ворона, как я вдруг почувствовал, может обернуться каким-нибудь чудовищем в человеческом облике.
Я опять, на этот раз по-настоящему, проваливаюсь в глубокий сон, и там мне снится очаровательная девушка. Мы идем с ней по какому-то парку вдоль реки, смеёмся, едим мороженое, которое все время падает с палочки. Я обнимаю ее за плечи и спрашиваю: почему мы так давно не встречались, так давно, что я даже имя твое забыл? А она, не переставая смеяться, говорит, что ее имя я должен сам вспомнить, а фамилию она мне напомнит, вряд ли я ее забыл, потому что фамилия у нее очень смешная – Ворона.
Я просыпаюсь от криков медсестры, которая шваброй гоняет ворону по палате, пытаясь выгнать ее в двери. Та громко каркает, описывая круги над кроватями, и с испугу никак не может понять – куда ей деваться от грозной швабры. Наконец она вылетает в дверь, и я слышу, как грохает в коридоре форточка. Сестра долго охает, возмущаясь и что-то бормоча, а я вспоминаю вдруг, что много лет назад, когда я молодым ассистентом пришел на кафедру, там действительно была молодая аспирантка из Киева по фамилии Ворона. Она очень стеснялась своей фамилии и всегда первая смеялась, когда называла ее. Я чувствую, что у меня холодок бежит по спине от такого неожиданного и почему-то очень неприятного мне совпадения. Аспирантка эта мне не нравилась. Не из-за фамилии, конечно, а потому, что она вечно принимала участие в каких-то интригах и мелких дрязгах на кафедре. Меня она тоже недолюбливала.
Может быть, она умерла и, превратившись в настоящую ворону, действительно прилетала по мою душу? Теперь я свою ворону воспринимаю уже по-другому. Ворона – олицетворение зла, дьявольское отродье, проводник в царство мертвых. Дьявольщина активно присутствовала в моей жизни до больницы – и в матерщине шпаны у нас под окном, и в вони загаженной лестнице, и в воплях соседа-алкоголика из-за стенки. Теперь она достала меня здесь. Сидит и ждет, когда я умру, прямо у меня на кровати. Или ходит за мной по аллее.
Дьявол, думается мне, существует для того, чтобы вытянуть из души все гнусное и пакостное, что человек скрывает и прячет от окружающих, вытянуть и показать всем: вот он, ваш homo sapiens! Ничуть он не лучше меня, только притворяется, прячется за своими нравственными убеждениями!
Действительно, ворона словно вытащила из моей души всю мерзость, я не сплю и день и ночь, вспоминая мелкие предательства и крупные пакости, которые я за свою жизнь причинил многим людям. Снова и снова переживаю стыд, уже пережитый, когда приходилось делать какие-нибудь гадости или говорить оскорбительные глупости. А этих глупостей или гадостей набирается изрядное количество, при том вспоминаются все новые и новые. Кончается тем, что утром следующего дня я прошу у сестры сильное снотворное и сплю почти сутки, заглушив все муки совести.
Через два дня меня вдруг выписывают. На мое недоуменный вопрос врач отвечает, что ничего страшного уже нет, период реабилитации закончен, а плохое самочувствие – результат общего ослабления организма.
Я уезжаю в город и погружаюсь в суету повседневной жизни. Сердце все еще побаливает, но с каждым днем чувствую, как прибавляются силы и возвращается желание жить. Однако забыть о вороне я больше не могу. Даже не о самой вороне, а о том жутком послеинфарктном состоянии, когда весь мир являлся черно-белым. С тех пор он мне таким и видится: какие бы яркие краски ни бушевали вокруг весной или ранней осенью, в лесу или на берегу моря, вдруг сквозь эту яркость резанет черно-белое и начинаешь понимать, что мир по сути своей такой и есть, а все остальное – мираж, сентиментальная иллюзия.
Профессор опаздывал постоянно, опаздывал немного, на пять – семь минут, но это почему-то сильно раздражало Круглова. Аудитория оживленно гудела. Круглов поискал Лену, но ее нигде не было видно, и от этого его раздражение только усилилось. Так почему-то всегда происходило с ним перед лекцией этого странного типа, человека явно заурядного, неглубокого. У него даже кличка была какая-то усредненная, просто проф. Больше его никто и никак не называл. Кличка удобная, потому что он действительно был профом. И в то же время, при всей его банальности и заурядности, этот профессор чем-то Круглова задевал. Было в нем нечто печальное, даже трагическое, казалось, что он специально прячет свое истинное лицо за внешней банальностью. Лекции малоинтересны, многое из того, что профессор говорил, Круглов уже читал или слышал. Иногда, правда, проф загорался, словно вспыхивал, говорил что-нибудь значительное, в словах чувствовались его собственные переживания, и курс затихал, внимательно слушал. Но это продолжалось недолго – профессор опять сворачивал на привычные рельсы и начинал говорить о том, о чем вообще можно было и не говорить. Несколько раз за этот семестр, слушая или пытаясь его слушать, Круглов пережил странное состояние. Он вдруг погружался в какое-то оцепенение, и ему начинало казаться, что он в чистом поле, кругом только снег, черные деревья на опушке и черное небо над головой.
Профессор наконец появился, и раздражение Круглова усилилось. Сначала он думал, что его раздражает странное лицо – лицо действительно необычное: что-то в нем было и отталкивающее и притягивающее одновременно. Разные глаза, нездоровый свет кожи, но иногда оно казалось даже красивым. Сегодня же Круглов вдруг решил, что раздражение вызывает профессорская судьба, которая, как почему-то показалось Круглову, ждет и его. Большие надежды в молодости и заурядная, в целом скучная жизнь, полная необязательной работы и редких удовольствий. А черно-белое поле, которое возникало в его видениях, – это, как он сейчас понял, просто кладбище, на котором он рано или поздно успокоится. Сначала профессор, а потом и он.
Наконец он увидел Лену. Она сидела в самом низу, на первом ряду, примостившись с краю, и непрерывно писала. Это тоже раздражало: зачем писать все подряд, всю эту воду? Круглов послал ей записку: «Давай с тобой дружить!». Она прочитала листок и бросила его в стол, даже не обернувшись.
«Сердится за вчерашнее», – решил Круглов. Вчера они поругались из-за какого-то пустяка и Круглов ушел, даже не попрощавшись.
Профессор все говорил и говорил, но Круглов и не пытался вслушиваться, настроившись на меланхолический лад. Последнее время такое настроение все чаще посещало его. Он скоро заканчивает факультет, но никакого желания работать по специальности нет, да и хорошего места в Москве не найти, все места на кафедрах заняты вот такими профессорами. Будущее выглядело туманным и совершенно неопределенным. Все, что ему предлагали друзья и родственники, все, что он сам находил, казалось мелким и ничтожным. Он вовсе не готовил себя к какой-то великой судьбе, но начинать с должности лаборанта или помощника депутата тоже не хотелось. И аспирантура не светила – за четыре года он ничем себя в научном плане не проявил.
«Может быть, с дипломом что-нибудь получится незаурядное». Но Круглов понимал, что сам себя утешает. Необходимость писать огромный диплом вызывала у него уныние.
В перерыве он нашел Лену на боковой лестнице. Она курила, задумчиво рассматривая цветной витраж на окне.
– После того, что между нами произошло, – сказал он подходя, – я обязан на тебе жениться.
Она улыбнулась.
– Очень мне нужен такой муж – нищий студент. Мне вчера Богатырев предложение сделал.
Богатырев имел высокопоставленного папу и приезжал в университет на огромной белой «Ауди».
– Я сегодня же вызову его на дуэль!
– Давай завтра. Сегодня последний день побудем вместе, мы же собирались в Нескучный. Будем бродить, взявшись за руки.
– Почему последний?
– Потому что завтра Богатырев убьет тебя.
– Ты так уверена? А может быть, я – его.
– Не надо. Как же я буду жить с убийцей?
Через полчаса они уже были в парке. Шли большой компанией, орали, пели и искали свободную скамейку. Было холодно, вся земля, дорожки и берег засыпаны красными листьями.
«Может, все дело не в профессоре и не в моей будущей неустроенности, – думал Круглов. – Просто осень в самом разгаре, скоро слякоть, сырость, снег. Начинается моя предзимняя хандра».
Найдя скамейку, долго ждали Славика с пивом. Наконец он появился, победно поднимая над головой сумку с бутылками:
– Семь карликов-онанистов! Семь! Одна балерина на лошади! Одна!
Еще два раза ходили за пивом, потом кончились сигареты, начинало смеркаться. Но расходиться не хотелось. Они о чем-то яростно спорили. Круглов не вникал, любуясь разгоряченным, взволнованным лицом Лены, затем закрыл глаза и долго сидел так. Голоса долетали до него, как шум далекого прибоя. Иногда сквозь этот шум ему казалось, что он слышит, как рядом со скамейкой падают листья, большие крупные листья, которые долго выбирают себе место, перелетая по нескольку раз, чтобы наконец окончательно улечься.
А когда открыл глаза, то увидел профессора. Тот медленно шел по дорожке, держа руки с портфелем за спиной, потом остановился у обрыва и стал смотреть вниз, на реку.
«Такой огромный парк, а ему именно здесь надо гулять». Круглов почему-то подумал, что, возможно, профессор не просто гуляет, а ищет свою молодость, ищет ту женщину, с которой когда-то здесь ходил, держа ее за руку. «Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду». И он, Круглов, став старым, тоже будет здесь гулять и искать исчезнувшие следы тех дней, когда он был молод и счастлив.
Ребята продолжали спорить. Славик опять кричал про карликов-онанистов, ничего не смыслящих в современном кино. Круглов не сказал им о профессоре, который явно мог их слышать. Тот еще немного постоял, потом повернулся и ушел.
– Пойдем, – сказал Круглов Лене вставая.
– Эй, ребята, вы куда? Сейчас еще по пиву, а потом поедем ко мне!
– Нет, у нас дела! – отрезал Круглов.
– Ты что, так вдруг? – спросила Лена, когда они отошли и скамейка с ребятами скрылась за поворотом.
– У меня к тебе большая просьба. Я ведь проживу еще сорок лет?
– Я надеюсь.
– И ты проживешь, я в этом уверен. Не могла бы ты мне обещать: что бы с нами ни случилось, будем мы вместе или врозь, давай ровно через сорок лет, двадцатого сентября, встретимся на этом месте.
– Хорошо, – согласилась Лена, словно он предлагал ей встретиться завтра.
– Что бы ни случилось, какими бы чужими мы ни стали. Ведь эта осень и эти дни навсегда останутся с нами, разве нет? Поэтому прошу тебя, не забудь, давай обязательно встретимся.
– Хорошо, хорошо, я ведь сказала. Какой-то ты странный сегодня. И вообще все это странно – загадывать на сорок лет вперед.
– Дело в том, что я сейчас себя видел – таким, каким я буду тогда.
– А меня не видел?
– Нет, не видел, поэтому и прошу тебя встретиться.
Дальше, до самого метро, они не сказали друг другу ни слова. Молча шли и держались за руки.
– Как можно прожить, продавая пемзу? Кому на фиг нужна эта твоя пемза?
– Нужна, нужна, старушки берут, недавно одна штук десять взяла, сковородки оттирать.
– Особенно тефлоновые хорошо оттирать, – засмеялся Константин.
– Ну не у всех ведь тефлоновые. Многие по старинке живут.
– Ну ладно, черт с тобой, бабка, торгуй. Пользуйся моей добротой. Деньги с нее не брать, – обернулся он к ребятам, – пусть богатеет.
– Как скажешь, шеф, – отозвался мордатый Вадик.
– Спасибо тебе, сынок, спасибо.
– Иди, иди, бабка!
Старуха была чем-то неприятна ему: нос красный, видимо, выпивоха, глазки бегают – и одновременно что-то жалостливо знакомое в ее голосе.
Они вышли из палатки и через торговые ряды двинулись к машинам. Продавцы отворачивались, стараясь не встречаться с ним взглядами.
«Боятся, суки», – удовлетворенно подумал Константин.
Один азербайджанец выбежал навстречук нему и сунул ему в руки огромный пакет.
– Это что?
– Гранаты, очень свежие! Кушай на здоровье, Костя!
– Не взорвутся? – спросил Константин, и братва дружно загоготала.
«Большой сбор», как его назвал Константин, они отмечали в одном и том же ресторане в Кузьминках. Все быстро напились, непрерывно провозглашая тосты в честь Кости. Наконец, досадливо морщась, он это запретил.
– Давайте дальше пить каждый за свое, не чокаясь и не базлая. За свою мечту, за свои страхи, за свои воспоминания. Ну?
– Как скажешь, шеф, – отозвался Петюня. – Лично я – за воспоминания. У меня в прошлом месяце была такая любовь!
– Вот и пей за свою любовь!
Что-то свербило на душе у Константина. Неприятное ощущение, возникшее неизвестно отчего, просилось наружу, но никак не всплывало.
«Эта старуха, которая продавала пемзу… Кого же она мне напоминает, старая грымза?»
Константин решил, что напоминает она того, кого, видимо, вспоминать не хочется – слишком много неприятного с этим связано. Больше он решил не напрягаться. Окинул взглядом стол и поморщился: собутыльники его почти все дошли до кондиции: кто мордой в тарелку, кто громко сопит во сне, сползая со стула, один все время пытается что-то запеть, но ему мешает сильная икота.
«Друзей у меня нет, настоящих товарищей. А эта шушера только способна приказы выполнять, да и то бестолково. Один Петюня приличный человек, и он куда-то пропал».
Константин направился в туалет. Петюня стоял там, уткнувшись лицом в стене, и рыдал во весь голос.
– Что ты, старичок – перепил?
– Бросила она меня, понимаешь? Бросила! Больше у меня такой бабы никогда не будет. – Петюня повернулся к нему, размазывая пьяные слезы.
– Ну, это ты брось. Найдем тебе другую, и гораздо лучше. – Константин обнял его за плечи. – Брось, это ты спьяну. Пойдем за стол. Возьмем шампанского – от газировки протрезвеешь.
– Она сказала, что я бандит, представляешь? – продолжал рыдать Петюня.
– Представляю. Ты и есть бандит. Кто же ты еще, профессор, что ли?
– Я ее с седьмого класса люблю.
– А! Ну, это дело серьезное! Тут надо обязательно крепко выпить, чтоб до беспамятства, а потом выбросить ее из головы.
Константин с трудом затащил бесчувственного Петюню на третий этаж, посадил на пол к дверям и позвонил. Дверь открыла худенькая белобрысая девочка в халатике. Личико остренькое, зубы мелкие. «Натурально мышь белая», – подумал про себя Константин.
– Вот, забирай своего возлюбленного.
Девочка посмотрела и всплеснула руками.
– Да вы что? Он же пьяный! У меня родители. И не нужен мне он вовсе.
– Я тебе дам – не нужен, мышь белая. А ну пропусти!
– Не пущу. Он же пьяный! И вы тоже.
– Я не в счет. А его специально напоил, он все покончить с собой порывался. О тебе вспоминал. Больше, говорит, для меня жизни нет на этом свете.
– Что же я буду с ним делать? Его с места не сдвинешь.
– Я помогу.
Вдвоем они втащили Петюню в кухню и прислонили к тумбе под раковиной.
– И что дальше?
– Проспится к утру, а там сама решай. Родители где?
– Они завтра приезжают. А что, он правда хотел руки на себя наложить?
– Правда. Наложу, говорит, и баста. Или с ней, или смерть. Давай выпьем, – он достал из кармана бутылку коньяку.
– Вот еще! С какой стати? Ввалились пьяные, один вообще без чувств, и еще пить с ними предлагают. Ну-ка убирайтесь!
– Сейчас возьму ремень и выпорю!
– Вы это серьезно? – Она растерянно заморгала редкими ресницами.
– Еще как. Неси стаканы! – рявкнул Константин. – Выпьем за спасение божьей души.
Через полчаса они сидели, обнявшись, и пели: она тоненьким голоском, а Константин в унисон басом.
– Эх ты, мышь белая! Не понимаешь своего счастья, – говорил он ей в ухо.
– Никакая я не мышь. Да и что за счастье – то ли бандит, то ли жулик.
– Это я бандит. А он божья душа. Ты его любишь?
– Любила, а сейчас не знаю.
– Не зна-а-а-ю. Давай еще выпьем и споем.
И они опять затянули про то, как кругом степь и нет в ней ни одного близкого человека.
– Эльвира Петровна! Я надеюсь, на этот раз вы не забудете, что ко вторнику надо сдать отчет в чистовом варианте? – Директриса улыбалась сладко-сладко, отчего лицо у нее собралось в складки, как у мастиффа. – Иначе вы просто не получите зарплату. И не забывайте, у вас испытательный срок еще не закончился.
«Сука! Сука! Как ты меня достала!» – подумала Эльвира Петровна, а вслух сказала:
– Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство! Все будет готово к назначенному сроку.
– Мне бы хотелось, чтобы вы обращались ко мне по имени-отчеству и без дурацких шуток.
Эльвира вышла, нарочно громко хлопнув дверью. Кипя от возмущения, шла по коридору, когда ее окликнули.
– Эльвира! – Маша, программистка из отдела сбыта, догнала ее. – Ты должна мне помочь.
– Становись в очередь.
– Я серьезно. Хочу, чтобы ты посмотрела его.
– Кого еще?
– Моего жениха. – Маша покраснела.
– Его по телику будут показывать?
– Нет. Он придет сегодня в гости со своим другом. Я хочу, чтобы ты тоже была. Как он тебе покажется, так и будет.
– Что будет?
– Или пойду замуж, или пошлю его ко всем чертям.
– А без меня не можешь решить?
– Нет. Без тебя не могу. Он мне то нравится, то я его видеть не хочу. Совсем замучилась.
– Тогда, может, послать его и не мучиться?
– Наверное, пошлю. Но ты все-таки приди сегодня! – Маша стояла перед нею взволнованная, красная и сильно напоминала ученицу старших классов.
«Да она в самом деле такая, совсем еще девочка», – подумала Эльвира.
Вечеринка получилась веселая. Жених, выпив, вскоре забыл про Машу и вовсю волочился за Эльвирой, порывался утащить ее на кухню, чтобы побыть наедине. Эльвира резвилась от души, Маша сидела грустная, а друг жениха пытался ее утешить и несколько раз предлагал сыграть в шахматы. Потом они стали танцевать – Маша и друг ее жениха. Танцевали долго, с каким-то остервенением, больше часа. За это время Эльвира крупно поговорила в коридоре с женихом, потом вытолкала его за двери и бросила ему плащ и фуражку. Когда она вернулась, они всё еще танцевали. Потом друг остановился.
– По-моему, Вадим кричит с улицы.
Вышли на балкон. Жених стоял внизу, сильно качался и, сложив руки рупором, кричал:
– Отдайте шарф, заразы!
– Он же весь дом разбудит! – Маша испугалась и бросилась искать шарф, но ничего не нашла.
– По-моему, у него не было шарфа, – сказал друг.
Эльвира обнаружила под вешалкой валенки и вернулась на балкон. От первого валенка жених, не перестававший орать, увернулся, но второй попал ему точно в голову. Он выматерился, забрал валенки и ушел. Эльвира и Маша смеялись до слез. Потом положили друга жениха в кухне на раскладушку, а сами легли на диване. Уже начинало светать.
– Так, значит, послать его подальше?
– Нет, теперь ты должна выйти за него, иначе он валенки не отдаст.
– Ты ведь была замужем?
– Была.
– И каково это – быть замужем?
– Быть замужем хорошо. Мне понравилось.
– Из-за чего же вы разошлись?
– Из-за смерти.
– Ой, прости, я не знала.
– Ничего. Мы почти разошлись, перед самой его смертью.
– Отчего он умер?
– Не знаю. Никто не знает. Его нашли на второй день в лесу. В середине апреля выпал снег. Он лежал в снегу под деревом. Кругом тучи ворон, но его почему-то не тронули.
– Как жутко!
– Давай спать. Завтра тяжелый день.
У меня лекция только в понедельник, в одиннадцать, и я всегда опаздываю, потому что в это время на моем шоссе страшные пробки. Но кажется, что студенты только рады моим опозданиям. У них с этой пары начинается день, они не видели друг друга двое суток, и им есть что обсудить. В молодости двое суток – это огромный срок, за который чего только ни случается. А со мной за последний месяц не случилось ровно ничего, ничто не испугало и не взволновало, не затронуло душу. Я пытаюсь вспомнить предпоследний месяц и тоже ничего особенного припомнить не могу. Поскольку ничего не происходит, то мое время течет медленно, как мед из кувшина, хотя дни проносятся стремительно, а у них, молодых, время бьет, как вода из брандспойта.
Войдя в аудиторию, я сразу вижу парня, лицо которого мне кажется знакомым. Он смотрит на меня исподлобья, неприветливо и строго. Начиная лекцию, я все пытаюсь вспомнить, где видел его. Потом вспоминаю: так же хмуро и настороженно он смотрел на меня в парке, когда я чуть не натолкнулся на их компанию. Я заметил тогда, что он не обратил внимание своих друзей на меня, они продолжали радостно кричать что-то непристойное, ничего не замечая вокруг, а он словно подсматривал, и это было неприятно. Я стоял на том месте, где мы в последний раз много лет назад прощались с Леной. Стоял, вспоминал ее лицо и уже начинал слышать ее голос, когда вдруг наткнулся на этот недружелюбный взгляд. От досады все очарование воспоминания рассеялось, ее голос замолк и лицо расплылось, как туман. Каждый год в это время я бываю здесь, хожу по тем же тропинкам и разговариваю с ней. Хотя можно было бы позвонить и даже встретиться. Но мне этого не хочется, потому что знаю – придет совершенно другая женщина, с другим голосом и с другим лицом. Та, из моей юности, навсегда исчезла, она живет только в моих воспоминаниях. Там она бессмертна, там она удивительно прекрасна. «О дни весны моей, вы быстро протекли, теките ж медленней в моих воспоминаньях!»
Звенит звонок, и я вдруг пугаюсь, поскольку совершенно не могу вспомнить, что им сейчас говорил и на чем остановился. Но, посмотрев на аудиторию, успокаиваюсь: кто-то дописывает то, что я только что сказал, кто-то собирает сумку, только этот странный парень, один из всего потока, так же угрюмо и настороженно смотрит на меня.
После инфаркта я хожу, словно ношу на голове кувшин с водой, боясь расплескать. Так я и выплываю в коридор, стараясь идти по стенке, чтобы меня не сбил какой-нибудь проносящийся мимо оболтус. Сегодня опять мучит мысль, что я обманываю своих студентов. Они хотят чему-то научиться, что-то понять – то, что им было раньше неизвестно, недоступно. И я делаю вид, что учу их. Потом, став взрослыми, они узнают, если повезет, что понимать нечего, никаких заранее заложенных смыслов в мире нет. Все можно лишь создать своим оригинальным, неповторимым опытом, в своей уединенности, в своем одиночестве, в своей темноте, из которой только и можно что-нибудь сделать. Ничего вообще нельзя понять, если не создашь сам, если сам не переживешь. А те знания, которые я им сообщаю, они могут прочесть и в учебнике.
Раньше, до болезни, я никогда этим не мучился и работал всерьез только со своими учениками – теми, кто писал у меня курсовые или дипломные работы. Все остальные были для меня более-менее однородной массой. Но болезнь поставила меня на другую сторону, почти на самый край бытия, откуда легко соскользнуть вниз, и теперь я смотрю на всех со стороны и начинаю различать в этой массе отдельные лица: красивые, неприятные, дерзкие или туповатые – но они все мне нравятся, жаль, что я вынужден их обманывать.
Иногда думаю: почему я не стал химиком? От химии у меня остались кошмарные воспоминания о бесконечных цепочках формул. Сейчас испещрил бы ими всю доску, студенты переписали бы – и можно с чистой совестью идти домой.
– Сергей Иванович! – кто-то осторожно трогает меня за плечо.
Я оборачиваюсь: опять этот хмурый, насупленный парень.
– Извините, я хотел бы попросить: не мог бы я писать у вас диплом по Платону?
– Я не специалист по античности. Вам надо бы обратиться к доценту Зернову.
– Я его, к сожалению, не знаю, и меня собственно античность не интересует. Я хотел бы проследить, как концепция платонической любви трансформируется в христианстве в любовь к Богу и как отсюда вытекает весь трагизм, невозможность любви в европейской философии и литературе.
– Это, наверное, интересно проследить. Только нужно хорошо знать все оттенки рассуждений Платона о любви.
– Ну в этой части, если возникнут трудности, я обращусь к Зернову.
– Хорошо, я согласен. Интересно все же узнать, почему вы обратились ко мне? На лекциях моих вы сидите с таким недовольным видом, словно я жабу перед вами препарирую. Иногда у вас просто отвращение на лице.
– Что вы! – студент краснеет. – Вам показалось, просто у меня лицо такое. И последнее время часто зубы болят.
– Холодное пиво очень вредно для зубов. В общем, подумайте еще и приходите на следующей неделе. – Я поворачиваюсь и ухожу, стараясь не расплескать кувшин, и физически чувствую, что он все еще стоит и тяжелым взглядом упирается мне в спину.
– Все-таки странное ты мне сделал в пятницу предложение.
– Я еще не делал тебе никакого предложения.
– Делал. Ты предложил мне встретиться через сорок лет в Нескучном саду.
– Да. Это предложение остается в силе. Ты только, пожалуйста, не забудь.
– Я постараюсь. А ты мне иногда напоминай.
– Само собой. Если мы будем вместе.
– А если не будем, то ты меня через сорок лет и не узнаешь. Я буду старая и страшная. У меня не будет переднего зуба и я буду свистеть, пытаясь выговорить букву «щ».
– Хорошо что сказала. Я тебя узнаю по этому свисту.
– Сегодня ты не в таком мрачном настроении, как в пятницу. Что-нибудь случилось?
– Да. Проф согласился руководить моим дипломом.
– Ну… – разочарованно протянула Лена. – Чем этот зануда сможет тебе помочь?