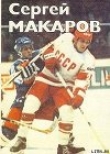Текст книги "Вечное невозвращение"
Автор книги: Валерий Губин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Тут он увидел в окне Настю и выбежал ей навстречу.
– Ты что такая серьезная?
– Нам надо срочно уехать.
– Куда?
– В Москву. Я чувствую, что надо обязательно уехать, не спорь со мной. Если мы останемся – случится что-то непоправимое. Пошли собираться.
На вокзале было так много народу, что Иннокентий растерялся. Битком был забит зал ожидания, К кассам не пробраться, люди стояли или сидели на чемоданах прямо на перроне. Иннокентий схватил за рукав проходившего мимо дежурного в красной фуражке.
– Авария была позавчера под Вязьмой. Третий день нет ни одного поезда.
Они вышли на привокзальную площадь, сели на поребрик, так как все скамейки были заняты и Настя достала из сумки бутерброды, бутылку воды.
– Поешь, ты же не завтракал.
– Объясни, почему мы должны уезжать? Мне было так хорошо здесь. И что будем делать в Москве? Ходить на мою могилу?
– С могилой как-нибудь разберемся. Мне знакомый врач по секрету сказал, что в городе эпидемия. Все больницы еще вчера вечером были переполнены. Такого с прошлого века не случалось. Официально ничего не объявляют, но многие знают.
– Чума, что ли?
– Что-то похожее на холеру, но совершенно новый вибрион. Лекарства не действуют.
– Но я не хочу уезжать из-за какой-то хреновой холеры. Авось обойдется. Спрячемся в доме, переждем неделю.
– Нет, не обойдется.
Тут Иннокентий вспомнил пустынные улицы из своего сна.
– Может быть, ты и права. Только как уехать?
Послышался шум прибывающего поезда. Все с площади бросились на перрон. Дальнейшее было, как во сне. Людской поток чудом вынес их к открытым вагонным дверям, но там в тамбуре и даже на ступеньках стояли люди. Иннокентию удалось затолкнуть Настю, встать рядом и поезд тронулся. Когда они выехали на платформу, началась сумятица в тамбуре. Они с Настей оказались на самой последней ступеньке, а из тамбура все давили и давили. Иннокентий орал, пытаясь грудью вдавить толпу, что стояла выше. И тут Настя спрыгнула.
– Я больше не могу! – кричала она. – Я не выдержу!
– Подожди, я тоже прыгаю!
– Нет, нет, тебе нельзя! Ты должен ехать! Я завтра приеду. Обязательно приеду. Только не прыгай сейчас!
Она бежала, все больше и больше отставая.
– Не забудь….
– Что? Что не забыть? – закричал он, перекрывая грохот колес.
– Не забудь про Бангладеш! – донеслось до него.
Он увидел, что она улыбается и машет рукой. Потом поезд повернул и, набирая скорость, понесся громыхая. Иннокентию удалось втиснуться поглубже. Он обернулся и увидел вдалеке дорогу, по которой, как ему показалось, скакал конь с мальчиком.
Тут какой-то мужик повернулся, схватил его за плечо и стал трясти.
– Куда ж ты лезешь? Куда? Ты же мне все ноги отдавил!
– Убери руки! – хотел крикнуть Иннокентий, но не смог – почему-то пропал голос.
А мужик тряс его все сильнее и сильнее. Иннокентий собрал силы, вскрикнул… И открыл глаза. Он сидел на остановке, перед ним стоял трамвай с раскрытыми дверями, а вожатый – молодой парень в расстегнутой форменной куртке – тряс его за плечо.
– Ну что, поедешь или дальше будешь спать?
Иннокентий вскочил, и как сомнамбула, пошел к открытой двери.
“Мне это все приснилось. Какой ужас! Разве бывают такие сны?” Слева поплыл кладбищенский забор, за ним замелькали кресты.
“И это приснилось. Я живой и никогда не умирал”.
Через час он добрался до дому. Не обращая внимания на ворчание тещи, рухнул на диван в большой комнате, и забылся в тяжелом похмельном сне.
Разбудил телефон. Он все звонил и звонил, а Иннокентий никак не мог оторвать голову от подушки.
“Неужели никто не возьмет трубку? Звонок междугородний”.
Но никто не появился, и пришлось вставать самому.
Это звонил Юра из Смоленска.
– Привет! Как живешь?
– Почему звонишь в такую рань?
– Уже не рано. И потом тариф еще льготный. Что у вас нового? Когда приедешь?
– Не знаю. Если отпустят летом в отпуск, то скоро. Послушай, ты мне говорил, что где-то рядом с тобой Настя Евстигнеева живет. Как она там? Ты ее видишь?
– Настя умерла уже месяца полтора назад. Разве я тебе не звонил?
– Нет, не звонил. Отчего она умерла? – закричал Иннокентий.
– Что-то с сердцем случилось.
Юра что-то еще говорил, но смысл слов не доходил до Иннокентия. Он положил трубку и пошел в кухню. Там сел на табуретку и заплакал.
– Она не умерла. Она не успела вырваться. Я успел, а она не успела. Мне надо было спрыгнуть! Мы бы вдвоем спаслись.
Потом он немного успокоился и тупо уставился на дверную филенку со вздувшейся краской.
“Смерть – это действительно ребенок, играющий в шашки”, – подумалось ему.
Он встал и начал отдирать краску, которая тут же стала отваливаться целыми кусками.
– Пора делать ремонт. Десять лет уже прошло, как красили в последний раз.
Печаль разума
Орел сидел на краю толстой ветки, а он уже несколько часов никак не мог пробиться туда. Ветка оказалась сухой, только несколько крошечных волокон внутри еще были живы, и он пытался пройти сквозь них, но это плохо удавалось: все было мертвым, все цеплялось и задерживало. Он радовался тому, что орел до сих пор не улетел, иначе все труды были бы напрасны, второго такого случая могло не представиться много лет. Наконец он сквозь кору почувствовал орлиные лапы, покрытые древней толстой роговицей, местами стершейся до мяса, местами потрескавшейся, почувствовал острые когти, которыми орел обнимал ветку: – одни были обломаны, другие измазаны остро пахнвшей землей, перемешанной с кровью. Орел вздрогнул всем своим огромным телом и с возмущенным клекотом сорвался с ветки.
И вот он уже летит над широкой горной впадиной, с огромной высоты оглядывая лежащий внизу плотным ковром лес. Радость переполняет его – радость свободы, высоты, спокойного и величавого полета. Складывает крылья, бросается вниз, у самых деревьев снова расправляет их и летит вверх, что-то крича изо всей силы. Но тут же страшная боль пронзает грудь. Он теряет равновесие, начинает снова падать, еле успевая зацепиться за ветку и вскарабкаться на нее. Еще секунда – он провалился бы вниз, запутался в ветвях и если бы не сломал крылья, то все равно не смог бы выбраться из чащи.
“Вот почему орел так долго не улетал: он старый и полумертвый, в нем сидит болезнь, он, возможно, живет последние дни”.
Несколько часов он приходил в себя, потом неслышно снялся и поплыл огромной черной тенью туда, откуда давно доносились запахи дыма, пищи и чего-то еще – пугающего и притягивающего одновременно.
Мальчик уже подходил к дому, размахивая ведерком, в котором плескались три карася, как вдруг на помойке увидел странную тень на радиаторе заржавевшей автомобильной коробки. Он подошел ближе и вздрогнул: это был орел, старый, облезлый, с голой шеей. Орел сидел нахохлившись и смотрел на мальчика. Тому стало страшно, в наступающих сумерках орел выглядел ожившим привидением, но он пересилил себя и подошел поближе. Орел чуть дернулся, однако остался сидеть, по-прежнему не сводя с мальчика больших и, как тому показалось, печальных глаз. Мальчик вынул рыбу и бросил орлу. Тот опять дернулся испуганно, потом посмотрел вниз, на рыбу, и снова уставился на человека.
“Боится, – решил мальчик. – Я уйду, тогда он слезет”.
Он смотрел вслед уходившему мальчику и чувствовал, как силы оставляют его – гораздо быстрее, чем он рассчитывал. Если он слезет за рыбой, то взобраться назад не сможет и станет легкой добычей собак.
“Да и что мне рыба, мне надо мяса, кровавого, дымящегося, чтобы погрузиться в него по самые ноздри, чтобы рвать его кусками, глотать, давясь и чувствуя, как тепло разливается по телу”.
Утром он упал с капота, попытался взлететь наверх, не смог и поковылял, цепляясь за землю крыльями, в ту сторону, куда ушел мальчик. Он был уверен, что маленький человек пожалеет его и вернется. Тот действительно вскоре появился, обрадовано улыбнулся орлу и кинул ему кусочек какой-то еды. Орел схватил его – это было что-то невкусное, жилистое и неприятно пахнущее. Он понял, что не сможет проглотить, кусок застрял в горле, перехватил дыхание, и он ткнулся головой в землю.
– Папа, папа! Иди скорей сюда! – закричал мальчик и схватил орла за крыло, пытаясь приподнять его голову над землей. Орел почувствовал тонкую кожу детских пальцев, пульсирующую под нею горячую кровь – такую тонкую кожу пронзить у него еще хватит сил.
– Ай! – закричал в испуге мальчик и бросил крыло.
– Что случилось, Роберт? – Крепкие мужские руки схватили мальчика за плечи.
– Он меня током ударил, – чуть не плакал Роберт.
– Кто? Эта дохлая птица? – мужчина пнул орла ногой, отчего орлиная голова на длинной сморщенной шее мотнулась в сторону.
– Давай его похороним.
– Зачем, бросим на помойку! Собаки сожрут.
– Нет, давай похороним. Я тебя прошу.
– Ну, хорошо, пойду за лопатой.
Роберт почти каждый день провожал учителя домой – тот жил за лесом, в домике у развалин старой крепости. По мере того как они подходили к лесу, углублялись в его тень, становилось все темнее, и когда вошли под сень деревьев, казалось, что солнце уже зашло, и наступил вечер. Густые ели с обеих сторон тропинки выглядели заколдованными великанами. Мальчик, когда шел назад, боялся их и старался без надобности не смотреть по сторонам, но сейчас, с учителем, ему было совсем не страшно, он даже увидел кривой изогнутый ствол одного особенно высокого дерева и решил, что это не великан, а его старуха-мать.
– Ты очень изменился, Роберт, за последние два месяца. Все время молчишь. Что-нибудь случилось дома?
– Нет, все в порядке.
Роберт искоса посмотрел на учителя. Тот опять небрит, редкие рыжие волосы торчат на подбородке. К тому же пьет и хоть постоянно сосет валидол, но Роберт чувствует запах алкоголя. Отец рассказывал, что он приехал сюда из столицы много лет назад с молодой женой, потом она умерла, а он так и остался здесь, забросил свою диссертацию, которой мечтал удивить мир, и, видимо, живет уже по инерции, ничем не интересуясь, кроме школы. Да и в школе он замечал одного Роберта, а к остальным был вежливо равнодушен.
– О чем же ты все время думаешь? Я сегодня на уроке заметил, что ты не слушаешь моих объяснений.
– Я о многом думаю. Последнее время чувствую себя как-то неуютно. Мне, например, странно, что я такой маленький. Как будто бы тесно в собственном теле.
– Ты растешь. И в эти годы особенно быстро, – улыбнулся учитель.
– Может быть, – согласился мальчик, – но мне постоянно грустно, даже тоскливо. Кажется, что я все знаю про свою будущую жизнь и не вижу в ней ничего интересного. Поеду после школы в город, закончу университет, вернусь сюда учительствовать или найду работу в городе, женюсь, состарюсь в непрерывных трудах и умру.
– Какой ты забавный, – засмеялся учитель, – рассуждаешь, как старик. Если смотреть на жизнь со стороны, она действительно кажется банальной, коли ты не великий полководец или политик. Но ты же будешь жить каждым моментом, внутри любой жизни много радостей, много счастья…
– И много печали, – прервал его мальчик.
– Что ты знаешь о печали, ребенок?
– Печаль все время стоит в ваших глазах. Как вода в заброшенном лесном колодце. Это после смерти вашей жены?
Учитель ничего не ответил.
Лес кончился, снова стало светло. Они шли мимо развалин, и вдали под горкой уже показался учительский дом.
– Вы столько знаете, столько читали, а печаль оказалась сильнее вас. Никакое знание и никакой разум не спасает от нее. Разве это справедливо?
– Во многие знания многие печали.
– Зачем тогда знания, разум, если от него только хуже? Как глупо устроена жизнь.
– Но, может быть, твоя жизнь сложится легко и радостно, не будет в ней ни горя, ни сильных разочарований.
– Не похоже, чтобы я был счастливым исключением.
– Ну ладно, что это мы все о грустном. Ты ведь хотел мне сказать что-то важное?
– Я хотел попросить у вас денег, в долг. Мне нужно съездить в город.
– Зачем?
– Я и сам не знаю. Словно какая-то сила во мне требует этого. И мне еще кажется, после поездки моя жизнь переменится.
Приехав в город, уже на автобусной станции он увидел высокого красивого мужчину и больше не отрывал от него глаз. Тот встречал девушку. Она вышла из автобуса – мужчина схватил ее на руки и понес к своей машине, смеясь и не обращая внимания на ее протесты.
– Сиди здесь, я сбегаю за мороженым.
– Сэм! Ты помнишь, я люблю клубничное!
Роберт забежал вперед и, поскользнувшись, упал прямо перед мужчиной.
– Ну, ты что тут разлегся! Давай руку!
– Извините, сэр, мне очень неприятно! – Роберт встал, поддержанный мужчиной, который тут же отдернул руку.
– Ты как трансформаторная будка! Вредно синтетику носить. Куда спешишь?
– Я никуда не спешу. Я живу в Дорнхилле.
– А зачем сюда приехал?
Мальчик молчал, растерянно моргая.
– Ну, что молчишь?
– Я не знаю, сэр, – ответил Роберт и заплакал – Я как будто бы все забыл.
– Не плачь, пойдем, я провожу тебя на автобус. Нога в порядке?
– Да, да, все в порядке, спасибо вам.
Сэм посадил мальчика в автобус, уговорил взять немного денег и долго смотрел вслед, пока автобус не скрылся за поворотом.
Утром он проснулся, тихонько встал с кровати, чтобы не будить лежавшую рядом девушку, подошел к окну и распахнул шторы. Город раскинулся перед ним в утренней сиреневой дымке, такой красивый, бесконечный, полный будущих радостей и удовольствий. Сэм потянулся, ощутив каждую мышцу своего молодого, сильного тела. и засмеялся от удовольствия.
– Я завоюю тебя, мир! Ты узнаешь и полюбишь меня!
– Ты с кем там разговариваешь, Сэмми? – послышалось с кровати.
– Сам с собой! – Сэм разбежался и прыгнул к вскрикнувшей от неожиданности девушке.
– Ты очень изменился после нашей разлуки, – говорила она, обнимая его, – я тебя не узнаю. Ты никогда не был таким в постели, что за удивительная ночь! И никогда сам с собой не разговаривал.
– Я таким тебе больше нравлюсь?
– Еще бы!
Сэм шел по улице, и его по-прежнему не оставляло волшебное чувство, пришедшее к нему утром, – чувство легкости, силы и какой-то небывалой одухотворенности. Он не шел, а почти летел по улице, огибая многочисленных прохожих и никого не касаясь. Он снова стал думать о своем проекте, снова дошел мысленно до этого проклятого узла, который никак не хотел развязываться и уже год тормозил все дело, и вдруг охнул. Решение пришло неожиданно, оно было таким простым и красивым, что у Сэма закружилась голова. Когда он очнулся, то увидел себя сидящим на ступеньках у входа в церковь. Кончилась служба, из храма выходили люди. Сэму вдруг стало грустно оттого, что самое трудное позади, что работа в принципе уже окончена, остались лишь пустяковые доводки. Он вдруг вспомнил свою мать, умершую два года назад, и остро пожалел, что она не дожила до его победы и не сможет порадоваться вместе с ним. Эта мысль несколько отравила его радость, ему даже показалось, что и радости особой нет, не должно быть, если нет матери. И он вспомнил, что еще совсем недавно видел ее во сне, и она жаловалась на сердце.
Он поднял глаза, увидел старика, сидевшего невдалеке. Тот просил милостыню. Что-то показалось знакомым в его лице. Он вгляделся и с удивлением узнал своего бывшего учителя гимназии. Это так поразило Сэма, что он присел рядом со стариком.
– Извините, сэр, что вы здесь делаете?
Старик недоуменно посмотрел на него.
– Вы же профессор Кестлер из городской гимназии!
– Бывший профессор. Если вы хотите мне помочь, то дайте денег, если нет – оставьте в покое, – старик, конечно, не узнал его.
– Сколько же вам дать?
– Сколько хотите.
– Но я могу дать много, у вас не будет больше причин здесь сидеть.
– Я скоро умру, а умирать надо в бедности. Сижу я здесь потому, что не вижу другого, более осмысленного занятия. Все остальное суета. А я даю возможность людям проявить доброту: они мне подадут, а потом у них целый день будет хорошее настроение.
– Интересное оправдание нищенства.
– Я не оправдываюсь. Вы думаете – я чем-то хуже вас? Смысл ведь не в том, чтобы что-то делать или что-то знать. Когда Одиссей умер и предстал перед богами, его спросили, какую жизнь он выбрал бы, если бы снова вернулся на землю. Он ответил, что стал бы нищим на паперти. Помогите встать, мне пора в церковь.
Сэм взял его за руку и помог встать. Что-то испугало старика, он заглянул в глаза Сэму и спросил взволнованно:
– Ты кто?
– Я ваш ученик, Самуэль Гарнер. Вы математику преподавали в последних классах.
Старик долго молчал, не отрывая глаза от лица Сэма, потом выдавил из себя, словно ему было трудно говорить:
– Нет, ты не Самуэль Гарнер. – И, повернувшись, пошел по лестнице к дверям.
Сэм стоял в сильной растерянности. Ему показалось, что вместе со старым профессором из его жизни необратимо уходит что-то очень важное. Он хотел крикнуть, остановить его, но так и не решился. Да и что он скажет, если профессор остановится?
Старик вошел в церковь, сел в углу и долго оставался неподвижным, глядя перед собой. Потом вдруг почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо. Он вздрогнул и, обернувшись, увидел отца Николая.
– Я напугал вас?
– Я не слышал шагов и решил, что уже пора.
– Что пора?
– Умирать.
– Когда же вы ляжете наконец в больницу, Гарри? Вы так окончательно себя угробите.
– Уже поздно. Сегодня за мной приходили, когда я сидел на паперти и оставили мне черную метку.
– Какую еще метку, где она?
– Она у меня в сердце, я ее чувствую.
– Так говорить грех. И отчаиваться – еще больший грех. Вы сами это знаете.
– Я не отчаиваюсь. Я спокоен и готов.
– Вы поражаете меня безнадежной уверенностью. Все дело в психике, которую вы настраиваете на худшее. Постарайтесь переломить себя.
– Мне незачем стараться. Я умираю не от болезни, болезнь – это вторичное. Я долго и много работал, написал несколько книг, но понял только одно: этот мир устроен очень странно. Люди в массе глупы и неразвиты, они не хотят ничего о себе знать, и в то же время каждый здесь живет так, как будто хранит в себе тайну своего предназначения. Но эту тайну они знать не хотят, как если бы разум был им в тягость.
– Люди живут верой, а разум перед ней жалок!
– Разум жалок? Это вы мне говорите? Вера тоже порождение разума, только очень странное порождение. Вера нужна для того, чтобы заглушить печаль разума. Я умираю от печали, отец.
– Это болезнь путает ваше сознание. Бог вас простит.
Старик сидел до первых сумерек, потом вышел через боковые двери и углубился в парк. Парк этот давно слился с лесом и почти ничем от него не отличался. Монахи местного монастыря долго боролись, пилили дикие деревья, ухаживали за породистыми грабами и каштанами, но лес брал свое, и люди отступились.
Он шел вглубь, ступая с трудом, с каждой минутой чувствуя себя все хуже: подкашивались ноги, свинцом наливалась голова, тошнило. Наконец рухнул на колени и пополз к ближайшему дереву. Это оказался огромный раскидистый дуб. Он, насколько мог, обхватил его руками, прижался лицом, почувствовал тонкий запах тлена отмирающей на зиму коры, услышал мощное течение соков внутри. Дерево еле слышно вибрировало, и его сердце тоже начало биться в такт этой вибрации, все громче и громче – звуки постепенно слились в один мерный, внятный и гулкий голос, словно звук колокола летел над темным уснувшим городом.
В такой позе его и нашли на второй день. Дерево, несмотря на то, что был еще конец сентября, почему-то сбросило все листья и укрыло его теплым шуршащим одеялом.
Божьи слезы
Они возвращались домой уже затемно. Все окна в электричке были покрыты белым мхом, репродуктор молчал, и им казалось, что они едут по неизвестной стране и в неизвестном направлении. Николай считал остановки, чтобы не проехать свою. Потом они с трудом отдирали примерзшую за день дверь дома, вместе бросались к печке, которая была еще чуть-чуть теплая, грели руки, разжигали заранее заготовленную растопку, кипятили чай и долго сидели, глядя в ревущее пламя за узорчатой решеткой.
– Когда же у нас будет своя теплая квартира, где можно ходить в одной рубашке и мыть посуду прямо под краном? – спрашивала Женя.
– Когда у нас все это будет, ты станешь скучать по дому, по тишине и одиночеству, по сугробам во дворе и по заячьим следам у крыльца.
– Вот еще! Мы будем приезжать сюда на Новый год, на твой день рождения.
Потом они забивались под одеяло и она обжигала его своими ледяными ногами. Он притворно возмущался, а она смеялась. Потом вдруг начинала тихо и ровно сопеть. Он еще долго лежал, боясь пошевелиться, и медленно погружался в сон, словно спускался в колодец, который все больше и больше расширялся, – и когда Николай достигал дна, звенел будильник. Приходилось вскакивать и опять топить печку, включать плитку, чтобы она за полчаса, к подъему Жени, достаточно раскочегарилась.
И по-прежнему в темноте они шли обратно к станции по узкой тропинке между высоких сугробов. Постепенно светало, снег становился голубым и уже не горел под фонарями отдельными искорками, а весь переливался, словно мех драгоценного зверя. Метров за сто до платформы они начинали бежать, потому что слышали шум подходившей электрички, и врывались в вагон румяные, разгоряченные и счастливые.
Вскоре кончились морозы, начались оттепели. Однажды они лежали перед сном и слушали мерный стук капели по подоконнику.
– Как будто кто-то плачет, – сказала Женя.
– Это слезы Бога. Там, где падает такая слеза, – теплеет земля, вырастает цветок, рождается любовь.
– Я уже чувствую, как все вокруг согревается. Скоро будет весна.
Но когда пришел апрель, стаял последний снег и появились маленькие цветки, кучками росшие вдоль забора, Женя тяжело заболела. Вроде бы ничего существенного не было – ни температуры, ни насморка, анализы в норме, однако она с каждым днем слабела: руки и ноги налились тяжестью, даже одеяло стало казаться чугунной плитой, придавившей к кровати. Врач говорил, что надо ложиться в больницу, но Женя медлила, все чего-то ждала – ей казалось, что завтра начнется улучшение, а назавтра становилось только хуже.
Соседка, у которой они покупали иногда молоко, посоветовала Николаю сходить за старухой-ворожеей. Она жила в самом конце поселка у заболоченного пруда, знала разные секреты, травяные настойки. Раньше ее услугами пользовались многие, но потом про старуху забыли, к тому же она была препротивная, страшная на лицо и злая на язык.
– Сходи, вдруг согласится и чем-нибудь поможет. Правда, я очень давно ее не видела, может, померла уже бабка.
Николай долго колотил в дверь, хотел было уходить, когда послышались шаркающие шаги. Бабка, не открывая дверь, стала его расспрашивать. Слышала она плохо: Николай снова и снова объяснял ей – она опять переспрашивала. Он уже потерял надежду, хотел плюнуть, но, наконец, старуха сказала, что придет к вечеру.
Она пришла с полотняным мешочком в руках, села у кровати, положила руку Жене на лоб, долго держала, потом попросила водки.
– Что, растирать будете?
– Зачем растирать, вовнутрь.
– Да она не сможет.
– Дурак ты, парень! Мне надо водки, а не ей.
Она выпила полстакана, опять положила руку на лоб Жене и застыла; потом словно очнулась, допила водку, встала и пошла.
– Вы куда? Уже уходите?
– Ухожу. На кухню. Отвар варить.
Она поила Женю отваром до самого утра, через каждый час, и все время что-то бормотала и бормотала себе под нос. Николай бегал на кухню разогревать питье, а потом сидел в углу и смотрел на Женино красное, горящее лицо. И жалость, и страх, и любовь одновременно переполняли его душу. Иногда он под бормотанье старухи проваливался в сон, но тут же пересиливал себя и старался вновь сидеть прямо и смотреть на Женю. Ему казалось, что если он уснет и не будет смотреть, не будет про себя непрерывно молиться Богу о ее спасении, то одних старухиных отваров и заговоров не хватит, Женя умрет.
Под утро он все-таки заснул и проснулся от тычка в бок. Старуха стояла перед ним.
– Еще водка есть?
Она шумно высосала полный стакан, запила холодной водой и пошла к дверям.
– Вы думаете – поможет? – робко спросил Николай.
– Уже помогло. Спать будет сутки. Не буди, – сказала старуха и ушла, громко хлопнув сначала дверью, а потом калиткой.
Николай попробовал улечься на трех стульях, подстелив пальто, промучался целый час, но не заснул. Тогда он лег поперек кровати, в ноги Жене, и начал проваливаться в липкую темноту. Но, проваливаясь, все время огромным усилием воли он открывал глаза и всматривался в ее лицо, все еще красное, но уже не горевшее, как прежде.
Спал он, видимо, очень долго, потому что, открыв глаза, увидел, что за окном опять темно. Женя была бледна, но дышала ровно и спокойно. Он укрыл ее своим пальто и вышел покурить на улицу…
…Через несколько лет они получили квартиру в городе, в доме жили только летом, да и то недолго. Но обязательно приезжали на Новый год и сидели всю ночь вдвоем, прислушиваясь к тишине за окном, которую временами нарушали только ветер и звук далекой электрички.
Однажды Женя пришла с работы, долго разглядывала себя в зеркало, потом подошла к Николаю. Тот сидел за столом, что-то печатая, она втиснулась ему на колени, погладила по голове:
– Ты весь уже седой! Как время летит!
– Брюнеты вообще рано седеют, а мне, позвольте вам напомнить, уже за сорок.
– Мне, между прочим, тоже. Но у меня ни одного седого волоса, ни на голове, ни в душе.
– Тебе повезло. Ты у меня будешь вечно молодая.
Она вздрогнула, обняла его за шею и прошептала в ухо:
– Я уже восемь лет ничем не болела.
– Ну, и слава Богу!
– Подозрительно. Я думаю, это старуха с ее странным отваром. Мне кажется, что с тех пор мое тело изменилось. Последнее время я это очень остро чувствую.
– При чем здесь старуха?
– А вдруг это был эликсир бессмертия?
Николай захохотал:
– Но это же здорово – иметь вечную жену!
– У вечных жен и мужья должны быть вечные.
– Необязательно. У них обычно много мужей.
– Накаркаешь.
Еще через несколько лет Николай понял, что Женя была права. Она ничуть не менялась. Это было загадочно, и радостно и грустно одновременно, потому что Николай старел, все чаще болел и чувствовал, как можно чувствовать очень близкого человека, что Женя иногда тяготится им. Она все чаще раздражалась, подолгу молчала вечерами в его присутствии. Они почти не ходили вдвоем в гости, избегали всех знакомых – уж слишком явной становилась разница между ними, слишком ярким был контраст между пожилым сутулым мужчиной и ослепительной молодой красавицей, которую чаще принимали за его дочь.
Через пять лет они расстались. Николай сам настоял на этом, а Женя не очень противилась, хотя и плакала несколько ночей подряд. Николай знал, что она кем-то сильно увлечена, мучается, не решаясь заговорить об этом, и решил ей помочь. Решил, что нужно уходить. Он переехал в их загородный дом, так же топил печь вечером и утром, так же ездил по утрам в город, пока не вышел на пенсию. А выйдя, много гулял в лесу и много работал над своей очередной книгой. Женя иногда приезжала, привозила вкусной еды, кормила Николая, несмотря на его протесты, прибирала в доме, а к вечеру он провожал ее до станции. Она была по-прежнему молода, красива, даже, кажется, стала еще красивей с той поры, как они расстались. На перроне она целовала его в губы и быстро, отворачивая лицо, скрывалась в вагоне.
Как-то Николай пошел к старухе. Он стучал в дверь, ждал, снова стучал, но никто не ответил. Ближайшие соседи говорили разное: одни – что умерла, другие – что уехала в город к сыну. Однажды старухин дом сгорел: видимо, забрались бомжи и спьяну подожгли. Последнее время в поселке часто случались пожары.
Иногда он ходил на почту и звонил ей. Слышно было плохо: он кричал, а до нее доносился слабый, будто с другой планеты, голос. Это ее раздражало, она отвечала коротко, односложно, и он в последнее время ни о чем, кроме здоровья, не спрашивал. А спросив, замолкал и молчал, пока она не вешала трубку.
В очередной приезд Женя, неловко посмеиваясь, рассказала, что один очень милый капитан милиции сделал ей новый паспорт.
– Теперь мне официально тридцать два года! Не могу же я с такой внешностью пенсию оформлять. Пришлось, правда, уйти на другую работу.
– Ты выглядишь моложе!
– Спасибо тебе, – она поцеловала его и заплакала.
– Почему ты плачешь?
– Это не я плачу. Это Бог плачет по нашей любви. Помнишь, ты говорил, что любовь – это слезы Бога.
– Не помню.
Потом она получила известие, что Николай погиб – сгорел вместе с домом. Как показало следствие, он, прикрыл трубу, видимо, неплотно закрыл дверцу печки, угорел и не смог выбраться, когда начался пожар. Его уже похоронили, а ей никто не сообщил – не знали, куда сообщать. Женя не ожидала, что его смерть может так на нее подействовать. Она задернула темные шторы и целый день просидела в темноте, раскачиваясь на стуле и воя от горя. Уже ночью вдруг увидела, как будто в кино, как он в горящей одежде пытается встать и неловко, страшно медленно идет через пламя к дверям. К утру Женя забылась и во сне услышала, как звонят в дверь. Звонили долго, а она никак не могла выкарабкаться из вязкой трясины своего забытья. Подруга, которой Женя открыла дверь, ахнула:
– Что с тобой? Ты больна?
– А что?
– Ты ужасно постарела. Выглядишь лет на шестьдесят.
– Мне и есть шестьдесят. Вчера исполнилось, – ответила Женя и ушла назад в темную комнату.
Подруга не решилась последовать за ней – так ее испугала эта внезапная перемена.
А Женя опять сидела в темной комнате и вспоминала ту страшную и прекрасную ночь, когда старуха поила ее своим эликсиром и, приоткрывая глаза, она видела лицо Николая, сидевшего в углу и отмаливавшего ее жизнь, ее молодость, ее красоту. Он ее тогда и спас. Даже потом, горящим факелом пытаясь добраться до двери, он молился за нее, и его молитва продолжала творить чудо.
Ведьма
Я думаю, что писать можно только из ничего – не из опыта жизни, не из собственных переживаний, а из ничего, из чистого воображения, из той сумятицы в голове, которая вдруг однажды выстраивается в последовательное повествование. Это писание и создает опыт жизни и глубину переживаний, а не наоборот. Писание – единственное, что упорядочивает жизнь. Жизнь организуется вокруг него и приобретает черты осмысленности. В жизни все разбавлено: грусть, радость, печаль, – разбавлено повседневными заботами, делами, длительностью времени. Только в писании возникает квинтэссенция жизни, когда все дано сразу, полностью, с ошеломляющей глубиной и откровенностью, которой никогда не бывает в прозе будней. Кажется, что только та, написанная жизнь и является истинной, потому что там все дано в полной мере, без провалов, ненужных подробностей, досадных ошибок и мелких глупостей.
Однажды, в первый и, наверное, последний раз в жизни, я прибыл в санаторий один: отдохнуть (хотя не сильно устал), подлечиться (хотя ничем сколько-нибудь серьезным не был болен) и вообще оторваться на две недели от суетливых будней. До сих пор не пойму, за каким чертом я поехал один, да еще в апреле – в Москве в день моего отъезда шел снег. Эта недоуменная досада навалилась на меня, как только я вышел из поезда в Евпатории, и лишь усилилась, пока я колесил на частнике, отыскивая этот пропащий санаторий, о котором даже местный житель не слыхал.