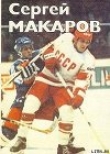Текст книги "Вечное невозвращение"
Автор книги: Валерий Губин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Пока они говорили, стемнело. Лена не включала свет. На стене над кроватью деда вдруг появилось багровое пятно – отблеск заходящего солнца. Круглов внезапно почувствовал, как они, маленькие и не значительные для истории люди, связаны одной цепью с прошлым, втянуты в единый круговорот, в котором ничего не исчезает окончательно и на любом витке может проявиться вновь.
Лена демонстративно гремела чашками, делала страшные глаза, намекая, что давно пора уходить, а Круглов все сидел, вглядываясь в тускнеющее пятно на стене, словно хотел что-то в нем угадать. Дед тоже молчал, погруженный в себя, и шевелил губами, неслышно разговаривая сам с собой.
Глава вторая
Петюня помог Косте выбраться из машины, донес до крыльца огромную сумку из багажника и, сказав, что приедет через пару дней, умчался.
– Ну и куда мы теперь? – спросила Антонина.
– Никуда. Уже прибыли. Это мой дом.
Дом был огромной, из черных бревен и покосившихся окон, избой. С правой стороны ее закрывали бесчисленные, уже увядающие, подсолнухи. Стукнула огородная калитка, и какая-то толстая, под стать избе тетка, громко причитая, устремилась к ним.
– Это моя бабушка. Будь с ней поприветливей и называй ее баба Шура, она женщина суровая и меня ко всем ревнует.
Баба Шура вначале и впрямь не замечала Антонину, словно той не было, но потом, когда увидела, как та смотрит на Костю, стараясь предугадать каждое его желание, как темнеет лицом, когда Костя кривится от боли, отмякла и даже разрешила ей вымыть посуду после обеда. И пошло, поехало: прополка, мытье полов, ужин – к вечеру Тоня еле стояла на ногах, зато Шура смотрела почти ласково и даже спросила, откуда у нее такой синяк на лице.
За ужином обнаружился еще один жилец – маленького роста плотный мужичок выполз из-за печки и пристроился с краю стола.
– Это бабушкин сын от второго брака, – пояснил Костя, – она два раза была замужем. Он глухой и вообще мало что соображает.
Тоня приветливо кивнула ему, а он покраснел, весь зацвел от счастья и радостно заулыбался. И весь вечер больше не сводил с Тони своих огромных, детских глаз, отчего она чувствовала себя не в своей тарелке. За ужином баба Шура все спрашивала, что с рукой, почему ободрано плечо, и недоверчиво слушала Костины рассказы о том, как они перевернулись в машине. Бабушкин сын тоже, казалось, внимательно слушал; потом, когда Костя замолчал, сказал, то ли одобрительно, то ли осуждающе:
– Иголк, иголк.
– Что он говорит?
– Да не обращай внимания, девушка. Бог его знает, что он мелет.
– Он и говорить не может?
– Может, когда на него найдет. И говорит нормально, но очень редко.
– Иголк, – сказал бабушкин сын, как бы подтверждая сказанное.
Баба Шура постелила им вместе в боковой комнате. Тоня застеснялась было, удобно ли им спать вдвоем, она ведь Косте не жена – что скажет бабушка?
– Ничего не скажет. Она знает, что ты моя невеста. Разве не так?
– Не так. У нас ведь не любовь, а дружба.
– Думаю, этих тонкостей баба Шура не поймет. Ложись и не трусь, я тебя не трону, да и не до этого мне сейчас, руку боюсь разбередить.
Тоня прилегла с краю и все время поправляла на Косте одеяло, подвигала подушку.
– Спи, спи, у меня все нормально, – успокаивал он ее.
Тут за стеной кто-то громко вздохнул и застонал. Тоня вздрогнула.
– Это бабушкин сын. Он за этой стенкой спит.
Тоня спала вполглаза, ей неудобно было лежать, тревожно за Костю, и все время казалось, что бабушкин сын видит ее сквозь стену своими огромными детскими глазами.
Утром опять началась каторга – бабка решила воспользоваться временной удачей и свалила на Тоню всю домашнюю работу. Тоня, несмотря на то что после недавних избиений у нее болело все тело и иногда кружилась голова, целый день носилась по дому, по огороду, бегала в сарай за дровами. Насыпать корму курам, принести воды, накормить Костю – так до самого вечера. И все время она чувствовала на себе взгляд идиота. Иногда замечала, как он подсматривает за ней из-за угла. Когда их взгляды встречались, Тоня хотела было погрозить, но его лицо озаряла такая счастливая улыбка, что Тоня только смеялась и, отмахнувшись, как от мухи, продолжала работать.
Ночью ей опять мерещилось, что бабушкин сын смотрит на нее сквозь стену. С этим чувством она и заснула. А проснулась от его взгляда. Он смотрел на нее сквозь стекло, с той стороны окна. Она испуганно охнула и села на кровати. Костя застонал и заворочался во сне.
Она успокоила его, погладив по голове. Снова посмотрела в окно. Идиот радостно улыбался и звал ее. Было в этом зове нечто такое, что она встала, набросила пальто бабы Шуры и вышла.
– Пойдем, пойдем! – идиот говорил так, словно у него сильно распух язык. Он тянул ее за рукав к лесу. – Я тебе такое покажу, ты еще никогда не видела.
Тоня послушно двинулась за ним. Они шли по лесу в кромешной темноте минут пятнадцать-двадцать. Постепенно в ней начал просыпаться страх, и она уже решила остановиться и заставить его повернуть к дому, как вдруг впереди забрезжил свет.
– Что это? – вскрикнула она.
Идиот приложил палец к губам и, крадучись, направился вперед. Они подошли к небольшой полянке и остановились среди деревьев. На поляне стоял большой шатер синего цвета. Тоня почему-то решила, что он шелковый. Перед шатром вокруг костра сидели люди странного вида: ни на что не похожая одежда, необычные волосы; язык, на котором они громко перекликались, был тоже необычен и непонятен. Недалеко в темноте угадывались пасущиеся кони. Люди то смеялись, то пытались петь что-то грустное. Тоня стояла, завороженная и шатром, и этими странными людьми и тем, что света вокруг было больше, чем мог дать костер. Поляна словно откуда-то еще подсвечивалась ярким зеленым светом.
Тут кто-то схватил ее железной рукой выше локтя, и она еле сдержалась, чтобы не закричать от страха.
– Ты что тут делаешь? – услышала она голос Константина. – С ума сошла?
– Меня бабушкин сын привел, – громко прошептала она. – Ты посмотри, мы словно в сказку попали.
– Вот я вам покажу сказку – по ночам шастать по лесу! Это что за мужики? Сейчас я выясню.
– У них оружие, – вдруг ясно и отчетливо сказал идиот. – Видишь, мечи воткнуты в землю, а вон арбалеты лежат возле каждого. Я думаю, к ним нельзя подходить.
– Да кто это такие, черт побери?
– Не знаю, вот уже месяц, как я на них наткнулся. Они каждую ночь возникают здесь, а потом исчезают. Я хожу смотреть и слушать их. И в эти часы чувствую, что моя болезнь проходит.
Несмотря на то, что странные воины сидели совсем рядом и до них можно было, сделав два шага, дотронуться рукой, а их удивительные гортанные голоса наполняли лес звуками, Тоню не оставляло чувство нереальности, будто это сон, очень яркий и подробный. Иногда казалось, что фигуры теряют очертания и начинают колебаться, словно сотканы из цветного тумана и не имеют устоявшихся форм.
– Черт, как будто кино смотрим, – пробормотал над ухом Константин. – Нет, это точно кино. Эй, мужики!
Те повернулись на крик и тут же стали тускнеть, расплываться; шатер превратился в тающее синее облако; один из коней протяжно и жалобно заржал – и через несколько секунд все исчезло.
– Ну и дела. Так ты уже не в первый раз это видишь? – спросил он бабушкиного сына.
– Иголк, – подтвердил тот.
Когда подходили к дому, Тоня вдруг заплакала.
– Ты что, Тонька?
Она уткнулась ему в грудь и зарыдала еще сильнее.
– Глупо как мы живем, – говорила она сквозь слезы. – Жалко мне тебя, с твоей беспутной жизнью, и себя жалко. Неужели у нас ничего не будет интересного и необычного? Только серые и унылые будни, как у миллионов других?
Костя разозлился, хотел заорать, послать ее подальше, но стоял и гладил по голове.
– Ладно, ладно тебе, успокойся. Все будет в нашей жизни: и интересное, и необычное, и волшебное.
– Ты правда в это веришь? – она подняла к нему лицо.
– Зуб даю.
Бабушкин сын стоял рядом и счастливо улыбался.
Я просыпаюсь и долго лежу, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить Элю. Потом, скосив глаза, вижу, что она не спит и рассматривает потолок.
– Ты что не спишь? Еще семь утра.
– Как можно спать в такой тишине? А потом посмотри, какие тени на потолке: забор, как клетка для жар-птицы, там вон подсолнух раскачивается, желает нам доброго утра. А перед этим кукушка куковала. Я несколько раз принималась считать и все сбивалась.
– Разве кукушку в сентябре слышно?
– Не знаю. Может быть, это по случаю моего приезда. Давай скорей встанем и пойдем в лес.
– В лесу еще сыро. Без сапог сразу ноги промочим.
– А у тебя нет сапог?
– Нет, у меня только валенки.
Я выхожу во двор и отправляюсь на кухню готовить завтрак. Эльвира еще долго не решается вылезти из-под теплого одеяла в ледяную, остывшую за ночь комнату. Потом мы с ней осматриваем участок, которым она остается очень довольна, особенно тем, что соседи только с одной стороны, слева, а справа начинается лес.
– Кто твои соседи?
– Старуха с сыном, он, по-моему, идиот. Иногда приезжает внук на «БМВ», очень крутой с виду парень, наверное бандит. Да вот и он.
К забору с той стороны подходит парень в джинсах и футболке. Правая рука висит на бинте, обмотанном вокруг шеи.
– Здорово, сосед! – кричит парень.
– Здорово. Что с рукой? – спрашиваю я.
– Да ерунда, милицейская пуля, – смеется он.
– Попал в засаду?
– Точно. Пришлось садами, огородами уходить к Буденному, к Котовскому…
Я знакомлю его с Эльвирой.
– А вы давно приехали? – спрашивает Костя.
– Нет, вчера вечером.
Костя с интересом, даже с некоторой наглостью рассматривает Элю. Сразу видно, что она произвела на него впечатление. Мне это не нравится и одновременно наполняет гордостью.
– И долго пробудете?
– Не знаем. А что?
– Да так, хотел вам одно любопытное явление показать в здешнем лесу. Вы ведь историк?
Я думаю целую секунду.
– В общем да.
– Может быть, это будет как раз по вашей специальности.
– А что будет-то?
– То, что увидим. Если увидим. А словами передать сложно. Да, может быть, и не было ничего, только померещилось. До вечера!
Он уходит, а мы возвращаемся в дом пить чай. Эльвира кажется необычно тихой и просветленной.
– Я так давно не выбиралась из города. Наверное, уже года два. Скажи, а что в вашем лесу может быть такого необычного? Мне этот милый бандит показался взволнованным.
– У нас же здесь немцы были. Некоторые до сих по лесу бегают. Видно, Костя наткнулся на шалаш какого-нибудь одичавшего ефрейтора или фельдфебеля.
– Я тоже хочу увидеть фельдфебеля. Жаль только, что у вас тут фельдмаршалы не водятся.
– Раньше водились, но их всех выловили еще в сороковых.
– Может, хоть один остался?
Эльвира садится на кровать, кутается в одеяло и вдруг начинает рассказывать о своем покойном муже. Он был художником, последние два года почти не бывал дома, постоянно ездил за город на этюды и рисовал одно и то же: заснеженное поле и голые деревья. Когда бы он ни ездил – летом или зимой – на этюдах было все то же. Он говорил, что ищет прафеномен живописи, некий первоцвет, особое сочетание белого и черного и, если он когда-нибудь сможет его выразить на полотне, он совершит переворот в живописи. По-моему, тогда он, говорит Эля, уже сошел с ума, хотя для творческого человека это, видимо, не патология, а норма. Но постоянно общаться с ним стало невыносимо. Она сочувствовала его поискам, даже верила в его правоту, но все неизбежно шло к разводу.
– Я до сих пор никому не рассказывала об этом. Просто некому было. Некому исповедаться. Потому что я виновата, не нашла в себе сил его поддержать.
– Как странно. Я думаю, что твой муж был прав в своих поисках. Еще совсем недавно, когда я болел, мне мерещилось, что мир действительно в основе своей черно-белый, а все цвета и краски – иллюзия. Я даже видел во всем окружающем эту черно-белую жуть.
– Теперь не видишь?
– Вместе с тобой опять начали появляться и другие цвета: красный, коричневый и желтый.
– Почему именно эти?
– В моем детстве в вафельный стакан мороженщик клал три таких шарика.
– У тебя было счастливое детство.
– Конечно. Правда, я только сейчас начал это понимать. В пожилом возрасте воспоминания о детстве перестают быть воспоминаниями. Они становятся почти реальными событиями, я вновь их переживаю так, как переживал тогда, пожалуй, даже сильнее, потому что моя душа стала тоньше за эти годы.
– И что ты чаще всего вспоминаешь?
– Колодец. Здесь, на краю деревни, когда-то был высохший колодец. Он казался нам бездонно-глубоким, и мы мечтали когда-нибудь достичь дна. Несколько раз опускались туда на веревке то с факелом, то с фонариком, но дна так и не достигли. Я, как сейчас, вижу большие гранитные булыжники, вмурованные в бетон, мокрые, осклизлые, поросшие белесым мхом. Мы тогда верили, что этот колодец уходит в середину земли. Я часто спускаюсь в него во сне, и последние годы вся моя жизнь представляется погружением в колодец. Может быть, колодец – это мое бессознательное, глубины памяти, где я должен отыскать, вспомнить что-то самое важное.
– Покажешь мне этот колодец времени?
– Как странно ты его назвала.
– Ну да, времени. Ты же по нему спускаешься в свое прошлое.
– По-моему, его давно засыпали.
Я сажусь к ней на кровать. Она укутывает меня своим одеялом, и мы сидим так до сумерек, молча глядя, как гаснет день за окном, слушая, как стихают все шумы и воцаряется густая, плотная тишина.
Когда совсем темнеет, в стекло стучат:
– Соседи! Это Константин. Идете на экскурсию?
Круглов и Лена ехали в электричке. Через два ряда сидела компания, оттуда все время звучала гитара, слышалось пение. Песни все старые: Высоцкий, Кукин, Клячкин. Сначала непрерывное пение раздражало Круглова, потом он попривык, и ему вновь начали нравиться давно забытые мелодии и так странно звучащие сегодня слова.
– Зря мы едем! – Лена показала на лиловые тучи, ползущие от горизонта. – К вечеру зарядит – и неизвестно на сколько дней.
– Ну и хорошо. Будем сидеть на диване обнявшись и гадать по старой книге.
– Там от деда осталась какая-то книга Мичурина, в самый раз для гаданья: привои, подвои, скрещивания. Но все-таки лучше вернуться домой.
– Что-то подсказывает мне, что домой мы больше не вернемся.
– А куда мы денемся?
– Будем жить в деревне, дышать свежим воздухом, вставать в шесть, в семь электричка.
– Здорово! Вечером с сумками назад, пешком через ночной лес…
– Ну и что? Зато все время будем вместе.
– Нет. Такая жизнь на износ меня не прельщает.
– Значит, ты меня не любишь. Иначе бы скромно потупила глаза и промолвила: «Как скажешь, Эйсебио».
– Какая еще Эйсебио?
– Эйсебио – это я.
– Почему это ты Эйсебио?
– Может быть и не Эйсебио. Это, кажется, футболист был такой. А ты должна промолвить: «Как скажешь, Марио».
– Марио – это ты?
– Ну конечно! Я понимаю, что жить в деревне, а работать в городе было бы невыносимо физически. Но так, как мы живем, невыносимо духовно. В городе я чувствую, что сам собой не распоряжаюсь, что я включен в какой-то механизм, и он меня крутит и обрабатывает, хочу я этого или нет. Лучше бы все бросить – и прежде всего университет. Устроиться учителем в сельскую школу, получать машину дров на зиму, выращивать картошку на выделенном участке.
– Ты будешь выращивать?
– Почему все я? Картошку – ты.
– Извечная мечта русского интеллигента: опроститься, уехать в деревню, нести просвещение в массы, через год запить, через два повеситься от скуки или сбежать в город.
– У тебя правда есть Мичурин?
– Весной еще был, я на чердаке среди старых журналов видела.
– Мичурин нам поможет преодолеть все трудности. Ты, кстати, знаешь, как он погиб?
– Знаю, знаю. Вставай, юный мичуринец, прибываем.
Они опять шли через лес – Лена впереди, Круглов с тяжелым рюкзаком сзади. Быстро темнело.
– Что ты там затих? – прокричала Лена.
– Я думаю о Мичурине. Его светлый гений будет озарять всю нашу дальнейшую жизнь.
– Дался тебе этот Мичурин, кричишь на весь лес. – Лена подождала, пока Круглов ее не нагонит. – А я, между прочим, видела здесь Профа. У него, оказывается дом в нашей деревне, а тетя Клава, которая умерла пять лет назад – его бабка. Представляешь, как тесен мир!
– Видишь, и Проф здесь живет!
– Да нет, мне сказали, что он почти не бывает. Просто приезжал на выходные.
– А я уж решил, что знаю, почему он постоянно опаздывает на лекции.
– Постоянно я не опаздываю, – вдруг сказал голос у него над ухом. Это было так неожиданно, что Круглов отпрыгнул в сторону.
– Сергей Иванович! Это вы? Так же инфаркт можно получить!
– Запросто, – согласился профессор.
– Что вы здесь делаете, поздним вечером в лесу?
– Ждал вас, чтобы поделиться некоторыми мыслями по поводу платонической любви.
Позади него прыснули. Из темноты показались еще несколько силуэтов.
– Да у вас тут целая делегация!
– Это не делегация, – выступила вперед женщина, – а кружок по изучению трудов Мичурина. Меня зовут Эльвира Борисовна. А это наши соседи – Костя, Тоня и…
– Иголк, – подсказали ей из темноты.
– Просто целая масонская ложа. Ничего не понимаю.
– Пойдем с нами, студент, – пригласил Костя. – Сейчас все поймешь.
– Хорошо, пойдемте. Лена, ты где?
– Я здесь. Давай рюкзак вместе понесем.
Они прошли еще метров сто в сторону от тропинки. Круглов открыл было рот, чтобы спросить о повестке заседания кружка, как вдруг увидел впереди зеленое сияние.
Где-то около сорока я решил, что проживу, постараюсь прожить лет семьдесят пять. С тех пор прошло более десяти, и я до сих пор не изменил своего решения. Однако недавний инфаркт сильно подорвал мою уверенность. Я стал думать, что моя жизнь – это движение по тонкому, хрупкому льду, а семьдесят пять – далекий, еле видный вдали берег. И добраться до него будет для меня чудом.
Основным злом моей жизни, с которым я всегда боролся, было равнодушие. Я равнодушно относился к своим родственникам, то есть, конечно, готов был им помочь и помогал, если возникали проблемы, но если проблем не было, я забывал об их существовании.
Я равнодушен к своим коллегам и никогда ни с кем из них не сходился близко. В моей жизни были лишь два друга, которых я по-настоящему любил, но они умерли, последний уже десять лет назад. Сейчас есть только приятели, с которыми мы не видимся по полгода. Я равнодушен к власти любого уровня, ко всем событиям и политическим проблемам, которые происходили или происходят в стране, потому что никогда не мог отделаться от чувства, что это все разыгрываемый спектакль для бедных.
Я равнодушен к богатству – конечно, его хорошо иметь, но только тогда, когда оно сваливается с потолка, как дар, как наследство вдруг объявившегося американского дядюшки. Но богатство, добытое собственным трудом, которое нужно к тому же сохранять, лелеять, исхищряться все время жить, имея в виду возможную выгоду, – вызывало у меня тоску.
И от этого равнодушия я страдал: мне так хотелось во что-нибудь поверить, кому-нибудь беззаветно служить, испытывать радость самоотдачи и счастье принесенной пользы. Но служить, делать добро или верить – все это искусство, искусство жизни, которым я не владел. И в этом плане я чувствовал себя обделенным. Во мне не было самого главного таланта – таланта жить.
Хотя я всю жизнь занимался философией жизни: изучал Шопенгауэра, Ницше, Бергсона, писал монографии, восхищался их мудростью – но никогда не пытался жить так, как они учили. В конце концов я даже пришел к выводу, что они учили вовсе не жизни, а смерти. Они учили тому, как не надо жить, чтобы оставаться человеком, и постепенно, может быть и не осознавая этого в полной мере, приходили к выводу о том, что жить никак не надо, ибо, живя, оставаться человеком невозможно. Поскольку человек – это болезнь, зло, страх, глупость, зависть, агрессия, стадный инстинкт. Если все это преодолеть, то ничего человеческого не останется. Может быть, будет что-то другое, но не человеческое. И это что-то другое человеку недоступно, так как преодолеть человеческое нельзя.
Поэтому и любимое дело – моя философия также культивировала во мне равнодушие, убивала во мне всякую страсть жить, заставляла на все смотреть, как на спектакль, к тому же из самого дальнего ряда.
Только любовь придавала моему призрачному существованию некоторую реальность. Я любил Лену, но она давно исчезла из моей жизни, когда я был еще молод, и воспоминания об этой любви до сих пор отдают светлой грустью. Я любил свою жену, собственно, я узнал, что люблю ее, лишь когда она умерла. До этого я полагал, что прекрасно можно прожить и без любви, которая несет с собой подозрения, ревность, избыточные переживания – достаточно взаимной терпимости и уважения. Когда она умерла, я долгое время барахтался в пустоте, как космонавт, выброшенный за борт, судорожно пытаясь за что-то уцепиться – за работу, за пьянство, за путешествия, но ничего не помогало. И я долго еще привыкал жить в мире, в котором ее уже не было, как инвалид привыкает ходить на протезе.
Теперь мне кажется, что я люблю Эльвиру, хотя, наверное, только кажется. На самом деле есть страх, что такого подарка судьба мне в этой жизни уже не сделает. Если что-то случится и мы расстанемся, я уже навсегда останусь один.
Они подошли к деревьям, за которыми начиналась поляна, и встали, замерев. Шатра не было, но пылал огромный костер, который хорошо освещал лица сидевших вокруг, и лошадей, пасшихся неподалеку.
– По-моему, это те же рыцари! Я их уже видел, – громко прошептал Круглов.
– Где ты их мог видеть, студент?
Круглов хотел ответить, но тут один из рыцарей заговорил, и они замолчали, вслушиваясь в очень странный, ни на что не похожий язык. Рыцарь говорил, как будто оправдываясь перед своими товарищами, жалуясь и убеждая их, а те согласно кивали головами, иногда прерывая его речь репликами.
– Интересно, о чем он так долго говорит?
– Тихо, – прервала их Эля, – я, кажется, понимаю.
Рыцарь встал и направился прямо к дереву, под которым они стояли. Он подошел почти вплотную. Эля отступила назад.
– Он нас не видит, – сказал идиот, – но может услышать.
Рыцарь, совсем молодой человек с небольшой бородой и усами, очень живописный и по лицу, и по одежде, опять стал говорить, глядя прямо на них. Казалось, что он им хочет что-то сообщить хотя, на самом деле он по-прежнему разговаривал со своими товарищами.
Стоять так, лицом к лицу, было неудобно, и Эля отступила еще дальше, увлекая за собой остальных. Один из рыцарей вскочил и, показывая на небо, стал громко кричать.
– Он говорит, что звезды в прошлый раз в это время были совсем не так расположены. И они все-таки попали не только не в то время, но и не в то место.
– Надо же! Они путешествуют во времени! Уже тогда могли путешествовать, имели машину времени, а мы сейчас не можем! – возмутился Круглов.
– Когда тогда? – спросил Костя.
– Ну, судя по их старофранцузскому, – ответила Эля, – это двенадцатый или тринадцатый век. И машины у них нет. Они говорили про какой-то колодец. Еще один день – и они, если не найдут того, кого искали, уйдут назад через него. Черт возьми, это же колодец времени! Сергей! Ты говорил, у вас есть такой в деревне.
– Это ты его так назвала! При чем здесь время?
– Есть у вас в деревне огромный высохший колодец? – спросила она идиота.
– Был. Рядом хотели рыть другой, уперлись в гранит, рванули, старый завалился. Потом земля просела, и сейчас там целый туннель.
– Ну вот, оттуда они и пришли.
– И мы туда пойдем, – сказал Костя.
– На экскурсию в Средневековье? – съязвил Круглов.
– Нет, не на экскурсию, насовсем уйдем! – тихо промолвил Сергей Иванович.
– Вы что? Оттуда можно не вернуться.
– И не стоит нам возвращаться, – поддержал Сергея Ивановича Костя.
– Ну хватит! Сначала надо вернуться в деревню, – потребовала Эля. – Вы так раскричались, что они уже начинают вглядываться в темень. Это может быть опасно.
– Ничего опасного. Вот я их сейчас шугану! – Костя сложил руки рупором и проревел:
– Господа офицеры! По натянутым нер-р-р-вам…
И, как в прошлый раз, все задрожало, начало рассыпаться и через несколько минут исчезло в сыром и холодном воздухе.
– Ну зачем ты опять все испортил? – голосок Тони дрожал от возмущения. – Они же завтра уйдут, и мы никогда их больше не увидим!
– Завтра мы их в любом случае увидим, – заверил Сергей Иванович.
Все пошли в дом к профессору. Костя забежал к бабке за бутылкой самогона. Пили его, потом чай, обсуждали увиденное, спорили. Эля еще раз пересказала все, что запомнила из разговора рыцарей.
– В этом есть нечто, – говорил захмелевший Круглов. – Вперед в Средневековье! Помните о новом Средневековье у Бердяева?
– Нет, Средневековье нам ни к чему, – говорил Костя. – Нам бы освоить этот переход, если он действительно существует. Чтобы можно было туда и сюда перемещаться. Мы бы наладили такой бизнес!
– Ты б туда запчасти для «БМВ» поставлял, – засмеялась Эля.
– Зачем запчасти? Оружие, например. Мы бы озолотились!
– Потом этим оружием они бы грохнули твоего прапрапрадеда и ты в ту же секунду исчез бы. В прошлое нельзя вмешиваться.
– Иголк! Иголк! – сердито произнес все время молчавший идиот.
– А что, если все это – только кино? Может быть, эти люди на самом деле не здесь, мы только видим какую-то виртуальную копию? Иначе почему они вдруг исчезают, как будто растворяются, как будто экран выключили? Как будто сказка обрывается.
– И мне, – вмешалась Тоня, – показалось, что они явились к нам прямо из сказки. Они необычные и красивые. Может, и живут в сказочной стране? Если бы можно было туда попасть, я бы отправилась не задумываясь.
– И меня бы бросила?
– Нет. Только с тобой. Куда ж мне без тебя!
– Ладно, давайте по домам, уже третий час ночи. А завтра сходим все вместе на то же место и посмотрим, что из всего этого получится.
Круглов, выходя, тихо спросил профессора, кто тот человек, что сидел рядом с Тоней и все время счастливо улыбался.
– Это доцент Зернов.
– Вы шутите?
– Нисколько. Все античники очень странные люди.
Когда они остались одни, Эля подошла к Сергею и положила ему руки на плечи.
– Вот уж не знала, что, отправляясь к тебе на дачу, можно попасть в Средневековье.
– Мы туда еще не попали. А если бы знала – не поехала?
– Обязательно бы поехала. Это почти по моей брошенной специальности. Я очень люблю все эти века, и мне кажется, что я бы чувствовала бы там себя как дома.
– Странно, что я тебя рассказывал недавно о рыцарях, а ты мне о том, что писала о рыцарской литературе диссертацию. Мы как будто вызвали давно исчезнувших людей, и появились призраки.
– Не удивлюсь, если завтра в лесу наткнемся на призрак Мичурина.
Утром они осмотрели тот лаз, что образовался на месте взорванного колодца. Дыра была такой огромной, что туда можно было въехать на лошади. Они прошли вниз несколько метров, скользя по мокрой глине, но дальше идти побоялись: вдруг рухнет свод? Только идиот смело ушел вперед и растворился в темноте. Они вышли наружу и долго ждали его. Наконец он появился, радостно улыбаясь.
– Там дальше кругом камень и идти очень удобно, – сказал он, с трудом ворочая языком и еле выговаривая слова.
– Что-то я сомневаюсь, что это дорога в прошлое! – Лена зябко куталась в плащ.
– Возможно, это просто бывший колодец. Сегодня вечером мы все узнаем.
Дул холодный сырой ветер. Они стояли сиротливой кучкой странников, словно самом краю земли, уже оторвавшись от своего мира и не зная, куда идти дальше, да и надо ли вообще куда-то идти.
«Какая странная компания! – думала Эля, оглядывая всех. – Профессор, бандит с подругой, студент и его возлюбленная, идиот и я, старая дура, собравшаяся сыграть в игру, которая ведется по не известным мне правилам. Да нет, мы все просто бесимся от неудовлетворенных желаний, от этой тяжелой и в общем-то пустой жизни, а потому дошли до коллективных галлюцинаций. Но сегодня это наваждение пройдет, рассеется как дым».
Мы еще только подходим к поляне, а зеленое сияние уже движется нам навстречу. Едва успеваем посторониться – рыцари проезжают мимо, совсем рядом с нами, и я готов поклясться, что чувствую запах лошадиного пота.
Едущий сзади огромного роста могучий всадник что-то кричит товарищам.
– Неприютная страна, – переводит Эля, – здесь почти нет людей. Хорошо, что мы ее покидаем.
Стараясь не шуметь и не высовываться, вся наша компания двигается за рыцарями.
«Непонятно, – думаю я, – кто из нас призраки, мы или они».
У колодца рыцари спешиваются и тянут заупрямившихся лошадей вниз, в огромную черную дыру. Я, как бы взявший на себя руководство, долго в нерешительности топчусь перед лазом, потом беру Элю за руку и начинаю спускаться. Остальные идут следом. Движемся мы так минут пятнадцать. Я освещаю путь крохотным фонариком, у которого уже почти сели батарейки. Потом он все-таки гаснет, и мы продолжаем идти, шаря руками по стенкам. Постепенно меня охватывает дикий, животный ужас, я чувствую, как дрожит Элина рука, но все-таки иду и иду вперед. Тоня сзади начинает плакать. Константин рявкает на нее, и она замолкает.
Я встряхиваю фонарь, он снова слабо загорается, и мы видим, что туннель раздваивается, перед нами две огромные, почти одинаковые дыры. Мы долго стоим в нерешительности, потом я шагаю вправо и все молча следуют за мной.
Наконец впереди появляется свет, он все больше и больше заливает туннель. Мы ускоряем шаги, почти бежим, теперь уже не вниз, а вверх; а потом не бежим – карабкаемся на четвереньках все выше и выше.
Я вылезаю первым, подаю руку Эле. Вокруг заснеженное поле с редкими черными деревьями по дальним краям. Сыплет мокрый снег, и кажется, что воздух удивительно теплый. Мы идем по полю, озираясь. Бабушкин сын вырывается вперед, бежит и подпрыгивает от переполняющих его чувств.
– Друзья! – кричит он. – Мы с вами в другом мире! Мы здесь все будем счастливы и здоровы. Смотрите, как тепло, какие удивительные, крупные снежинки.
– Послушайте, господин Зернов, – говорит Круглов. – Вы своими криками вспугнете все очарование этого места.
– Я не Зернов, – отвечает бабушкин сын.
– Он не Зернов, – подтверждает Костя, – и пусть орет. Видишь, человек в полный ум входит.
Круглов оборачивается и вопросительно смотрит на меня.
Я пожимаю плечами: мол, всегда был Зернов, а теперь отказывается.
– Это не мир, а тот прафеномен, который искал мой муж. – Эля все еще сильно дрожит. – Он черно-белый.
Я держу ее за руку и думаю о том, что попал в страну обетованную. Или незаслуженно – судьба послала мне подарок, или за все мои муки и страдания. «За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет».
Единственное, что меня тревожит, – это вороны. Они сидят на всех деревьях вокруг поляны. Их очень много: сидят не шелохнувшись и не издавая никаких звуков.
– Ты знаешь, – говорю я Эле, – это смерть или то, что, видимо, считается смертью. У нас больше нет прошлого, нет ничего оставшегося сзади. Мы ко всему этому умерли и только что родились снова.