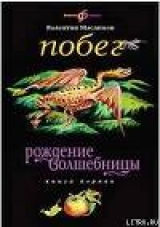
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Окоченев душою, Святополк едва заставлял себя оборачиваться, озираясь и прислушиваясь. Так тих, неприметен был вкрадчивый его шаг, что слышалось обеспокоенное собственным стуком сердце и в ушах шумело. Никто не объявился и в прилегающем переулке: с непостижимым проворством, не выдавая себя ни звуком, разбежались все, кто мгновение назад еще, кажется, хихикал за углом. Город вымер.
Так что впору было и самому бежать с блеянием, увязавшись за первым движущимся предметом.
Но не двигалось нечего. То была особая, невозможная среди бела дня неподвижность. Неподвижность ночи, когда обнаруживает себя потусторонний мир.
Тем лучше, взбодрил себя Святополк, никто не помешает обойти земство с тылу, чтобы найти людей. Под людьми он понимал не человеческие существа вообще – появление их и обнаружило бы как раз известные неудобства, – а ближайших своих подданных, великокняжеский двор, дворян, которые и были людьми, то есть исчерпывали собой необходимый в обиходе круг человечества. Так что, со всеми возможными предосторожностями пробираясь в поисках людей по улице, Святополк с неприятным ознобом по спине выпрямился, внезапно остановившись, когда увидел перед собой бородатого мужчину. Он едва сдержал безрассудное желание податься вбок и укрыться за наклонно поставленным столбом, который подпирал покосившийся, в трещинах дом.
На пустынной, покинутой дворянами и верноподданными улице (не ставшей от этого, впрочем, чище), под небрежным навесом из досок сидел в сообществе с двумя бочками – одна стоймя, другая на боку – самодовольного вида человек. Самодовольство упитанного торговца пивом сказывалось не только в выражении лишенного мятежных страстей лица. Его выдавала ухоженная, расчесанная и упокоенная на груди борода. Оно проступало в благообразии величественных залысин, а более всего, надо думать, в безразличии к очевидному, бросающемуся в глаза недостатку покупателей.
– Эге, – не совсем вразумительно сказал Святополк, сопровождая неясный звук таким же маловразумительным и несмелым телодвижением. – Эгей! – повторил он, словно призывая кого с другого берега. Что не имело никакого видимого оправдания, поскольку скучающий торговец глазел на государя с трех шагов. – Эгей, добрый человек…
Добрый человек слегка приподнял бровь, и Святополк, приняв во внимание знаменательное отсутствие дворян, приспешников и подручников, почел за благо переменить обращение, не совсем понимая, впрочем, что именно могло добряку не понравиться:
– Простите, сударь, за беспокойство…
– Никакого беспокойства, – заверил его торговец пивом, увеличивая убедительность слов особенным, ледяным тоном.
– Э… сударь, не видали вы?.. Здесь сотня конной дворцовой стражи приказа полуполковника Полевана не проходила?
Желая, вероятно, облегчить собеседнику ответ, Святополк глянул по концам заброшенной улицы и повел рукой, очерчивая подлежащее обсуждению пространство.
– Не проходила, – возразил человек, пренебрегая подсказкой.
– Вы знаете полуполковника Полевана? – оживился Святополк, вдохновившись вдруг надеждой.
– Не знаю, – отвечал торговец не менее того кратко, так что приходилось смириться с мыслью, что решительность его ответов поддерживало не близкое знакомство с полуполковником и дворцовой сотней, а некий другой источник, пока неведомый.
Святополк ощупал припрятанный за пазухой венец и сказал, уповая смягчить тем собеседника:
– А нельзя ли, сударь, кружечку пива?
– Отчего же нельзя? – отвечал тот на вопрос вопросом, и действительно как будто смягчился. Однако не зашел в своей доброте так далеко, чтобы взять кружку и подставить ее под кран.
Теряясь под вопрошающим взглядом, Святополк не выдержал неопределенности и решился повторить сказанное громко и членораздельно, как говорят с глухими:
– Нельзя ли, сударь… – повысил он голос и нагнулся к собеседнику. – Можно ли налить кружку пива? – он показал пальцем, что одну, не поленился обозначить глиняный сосуд, который хотел бы видеть наполненным, и соответствующим кивком головы напомнил торговцу о разлегшейся на мостовой бочке – из ввинченного в днище крана, вызывая жажду, капало в подставленное снизу корытце.
– Можно, – согласился продавец пива. Но опять дальше этого не пошел.
Ставши в тупик перед загадочными ухватками простолюдина, которые так сильно разнились с нравами и установлениями великокняжеского двора, что впору был задаться вопросом, правильно ли они понимают друг друга, на том ли языке объясняются, Святополк нащупал под полукафтаньем венец, подумывая уже, не нужно ли показать краешек, чтобы получить пиво.
– Четверть гроша – кружка, – сообщил ему торговец, не дожидаясь столь убедительного довода, как родовой венец Шереметов. – Полгроша – две кружки. А на грош хоть лопни!
Придерживая раздутую венцом грудь, Святополк пошарил в карманах и облизнул губы, изрядно уязвленный грубым запросом пивовара.
– У меня нет денег, – вынужден был признать он.
Продавец кивнул, показывая тем самым, что не ставит под сомнение чистосердечие покупателя. И ничего больше. Никаких поползновений оказать ему помощь.
– Но это ничего не значит!.. – горячо начал Святополк и сбился, сразу же сообразив, что пивовар понимает его превратно, совсем не в том смысле, в каком следует понимать случайное безденежье великого государя. – Невероятное стечение обстоятельств, – сказал он суше, с внезапно проснувшейся гордостью.
– Я думаю! – загадочно хмыкнул пивовар. И, что удивительно, не выказал никакого любопытства к невероятным обстоятельствам, на которые прямо ссылался собеседник.
– В это трудно поверить! – с надменной ноткой в голосе выпрямился Святополк. Однако обезобразивший грудь венец помешал ему явить собою достаточно убедительную фигуру. – Необыкновенное стечение обстоятельств! – добавил он. – И… поверьте, сударь, я глубоко несчастен. – Неожиданное признание заставило его неровно вздохнуть, хватая зубами искривившиеся губы.
Пивовар насторожился, невольно глянув за бочку, где стояла у него шкатулка с деньгами.
– И… ни гроша… такой вот удар судьбы… Вы, сударь, за кого? – спросил государь, подавляя судорожный вздох. – Скажите, вы за Святополка?
– Тебе-то что? – медлительно спросил пивовар, таким же медлительным движением вытирая ладонь о бороду. – Ты-то кто будешь?
– Да так… никто, – отвечал Святополк, чувствуя себя еще горше от этой уничижительной скромности. – Просто хотел знать. Сам я за Святополка. И могу объяснить…
Пивовар пожал плечами, не обременяя себя рассуждениями. То есть, скорее все ж таки принимая точку зрения собеседника, чем возражая.
– Сам я за Святополка и вам советую, – взбодрился Святополк, чувствуя некоторое поощрение, и тронул припрятанный венец.
– Спасибо за совет, – уклончиво отвечал пивовар.
– Я рад, что вы это так понимаете, – оживился Святополк еще больше. – Ведь если по-настоящему разобрать… Святополк – благочестивый юноша. Юноша он благочестивый. Если разобрать. По-настоящему. Каждый день свой молитвой кончает и записывает на бумажке, о чем он богу молился. – Святополк поднял палец. – И потом… если уж венчан на царство, что теперь? Кто теперь Юлий? Изменник и похититель престола, вот кто! Беды-то все от перемен. Зачем нам перемены? Поставили Святополка, ну и пусть стоит. Верно я говорю?
– Оно, пожалуй, на то и похоже… – с некоторым затруднением отвечал пивовар, пересаживаясь основательным своим седалищем по короткой скамье.
– Нам, простым людям, – продолжал Святополк, – что главное?
– Что? – настороженно спросил пивовар, бросив взгляд на шкатулку с деньгами.
– Чтобы государь был милостивый и милосердный!
– Да уж лучше милостивый, чем немилосердный, – согласился пивовар.
– А Святополк ведь кто?
– Кто?
– Милостивец наш и добродей! Государь-батюшка!
– Ну так, значит… получается так, – протянул пивовар, удивляясь красноречию собеседника.
– Ю-лий! – приглушенным рокотом прокатилось над крышами. – Ю-лий! – повторилось сильней и явственней. – Ю-лий! Ю-лий!
Оставив бочку, на которую опирался он свободной рукой, Святополк медленно выпрямился, с лица его сошла краска возбуждения, и он спросил невыразительным, деревянным голосом:
– Так вы, значит, за Святополка?
– Что ж, я не прочь, – не совсем вразумительно подтвердил торговец.
– Дайте мне вашу руку! – торжественно произнес Святополк и, когда сжал ее, замер, словно забывшись. А потом воскликнул: – Никогда этого не забуду! – и пошел, провожаемый изумленным взглядом. Один, как перст, на оставленных людьми улицах.
Смутно гудевшая площадь заставляла его менять намерения: то сворачивал он на тяжелый гомон толпы, то кидался прочь. И, нигде не встретив полуполковника Полевана с его сотней, поспешил в Вышгород, как только нашел все-таки людей и коня.
Святополк застал вдовствующую государыню Милицу у раскрытого в пустое небо окна. Узкие плечи Милицы скрывала короткая из жесткой парчи накидка. Оттопыренная складками, она напоминала сложенные крылья жука или осы – темные на фоне синевы, заключенной в рамку окна. Казалось, застывшая, как высохшая оса, Милица попала под чары рокочущей за окном пустоты – разверстая прорва гудела низким клокочущим звуком, тем самым, что наполняет, верно, и бесконечность. Милица не слышала шагов пасынка, его виноватого покашливания за спиной, сокрушенного кряхтения, сопения и поскребывания – всех мыслимых звуков, которое способно издавать не уверенное в себе существо.
– Вот он, венец, матушка! – с испуганной поспешностью сказал Святополк, когда, передернув крыльями, Милица обратила в комнату укрытое темной кисеей, нечеловеческое, без глаз, без рта лицо. – Тут он вот, с нами – венец.
Мгновение или два можно было думать, что Милица никогда не заговорит.
– Боже мой! – выдохнула она. – А где Юлий?
– Это я, матушка, – возразил Святополк, непроизвольно оглянувшись.
– Ты? Кто ты такой?
К исходу дня воевода Чеглок ввел в город около двух тысяч войска. Продолжал прибывать всякий воинственный сброд, победно ликующий, шумный и дерзкий. Столичные полки, которые насчитывали в общей сложности не менее двух тысяч бойцов, присягали Юлию. Собравшееся в полном составе столичное земство приветствовало великого государя Юлия многократными здравицами и кликами ура! Воодушевление это выгодно отличалось от того деловитого хладнокровия, с каким то же самое земство высказалось несколькими часами ранее в поддержку Святополка. Народ, настроенный ввиду головокружительных перемен скорее легкомысленно, чем торжественно, не видел препятствий к тому, чтобы поддержать Юлия, и уж, во всяком случае, определенно, лишил своей любви однодневного Святополка: с глаз долой – из сердца вон! Высоко ставшая было звезда, прочертив по небу чадящий неровный след, закатилась среди испуганных голосов и улюлюканья.
В течение двух-трех часов власть в столице перешла к великому князю и великому государю Словании, Межени, Тишпака и иных земель обладателю Юлию Первому.
– Не стоит, однако же, обольщаться! – оглядывая собравшихся на совет вельмож, рассуждал Чеглок. – Мы имеем дело – давайте называть вещи своими именами – с выдающейся волшебницей, коварной искусительницей. С колдуньей и ведьмой, вне всякого сомнения. С обольстительным оборотнем. И просто, наконец, с женщиной, что само по себе немалого стоит. Хорошо, мы загнали ее в Вышгород. Но Милица сохраняет связь со своими сторонниками по всей стране. Осада может занять и месяцы, и годы. Два года – да, государь, два года. Вышгород неприступен. Иначе, как измором, его не взять. А у Милицы будет время для удара исподтишка. Случай она найдет. – И Чеглок, словно сверяя общие соображения с действительностью, оглядел плохо различимые лица слушателей.
В большой палате земства расположились за столами человек пятьдесят военачальников, земских старшин и владетелей с мест, которые прибыли из ближайших окрестностей столицы с такой поспешностью, что успели присягнуть обоим государям, – сначала Святополку, потом Юлию. В палате было темно внизу, между длинными черными столами, рассчитанными на триста-четыреста человек, а вверху пылали жарким, но мутным светом высоченные, что дом под крышей, окна. Багровое пламя догорало в таких же высоких, задвинутых в глубокие проемы окнах на другой стороне палаты. Оно озаряло под потолком невообразимое переплетение изогнутых дубовых подпорок, пронизанных там и здесь нацеленными вниз остриями вертикальных балок.
Внесли факелы. Рукотворные огни не могли соперничать с закатными всполохами окон и только усугубляли контраст черноты, что лежала провальной ямой, и призрачных высей. Противоречие это соответствовало, как будто, общему состоянию дел – болезненно-лихорадочному в переходе от блистательных успехов полудня к сумеркам предположений и замыслов.
– В ближайшие две-три недели соберутся вызванные еще Милицей владетели. Этот срок… тут все и решится, – заключил Чеглок, указывая тем самым, что не считает свершившийся несколько часов назад переворот решающей победой над Милицей. Было ли это стариковским упрямством, которое застревает на раз высказанном суждении, было ли это старческой мудростью, что нераздельна с терпением и осмотрительностью, а зачастую целиком к ним и сводится, – что бы то ни было, Юлий не возразил – он спал.
Посаженный во главе непомерно длинного стола, противоположный конец которого терялся во мраке, он замер, как бы прислушиваясь к словопрениям полковников и старшин… Он дремал, полуприкрыв глаза и на мгновение смежив очи. И временами с усилием вздрагивал, обращая сонный взор в ту сторону, где журчали баюкающие слова. Потом переставлял по столу локти, чтобы надежнее утвердиться.
Видимо, все-таки спал, потому что, уронив себя и встрепенувшись, не мог припомнить, на чем остановились полковники и почему продолжают говорить старшины, – когда так судорожно вскричал он, обожженный пощечиной… Ему мерещилось: он раскрыл объятия, беззащитный перед новой пощечиной, и губы мучительно дорогого лица гневно исказились. Полыхнуло пламенем золотых волос. Он узнавал ее и в огне, задыхался в чаду, обнаружив, что занялись небесные своды земства. Он хотел возразить, но пламя сушило гортань. И вдруг обратила она к нему залитое слезами лицо – он хотел говорить, но рыдания сжимали горло. «Золотинка!» – воззвал Юлий, содрогаясь от чудовищной немоты. И она проваливается в трясину, путаясь во вспученном платье. Лицо ее, искаженное ужасом, уходило в тину, глаза ее умоляли: помоги мне!
Юлий вскочил или пытался вскочить, дернувшись за столом.
– Что с вами? – осекся Чеглок, не в шутку озадаченный. – Вы кричали?
Кричал ли он? Нет. Самым натужным, нечеловеческим напряжением он не сумел разорвать безмолвия – и сомкнулась трясина.
Все еще как будто бы вздрагивая, Юлий озирался.
Дальние концы палаты тонули во мгле. Угасли, погрузившись в ночь, окна. Факелы, наклонно укрепленные на стенах, тускло освещали развешанные там картины.
– Я просил всех удалиться, – помолчав, продолжал Чеглок с суховатой определенностью в голосе.
– Да-да, – отозвался Юлий. – Несомненно.
– Я счел возможным упомянуть волшебницу Золотинку.
Юлий отозвался только безмолвным взглядом.
– Она здесь, в земстве, – значительно продолжал Чеглок и опять замолчал, оставляя место для ответного замечания. – Дело наше не столь уж прочно. Оно было бы и вовсе безнадежно, если бы мы не имели на своей стороне выдающуюся волшебницу.
Чеглок, конечно же, не мог не заметить, что говорит один, не встречая отклика, и голос его поскучнел. Воевода смолк.
В обманчивой задумчивости Юлий замер, уставившись на темную, словно зеркало, столешницу, в которой отражались мутные огни факелов.
– Мы одни? – спросил он затем, оглядываясь.
– Мм… я думаю, так, – ответил Чеглок, нахмурив кустистые брови. Он не двинулся на помощь Юлию, когда тот снял со стены факел и нагнулся под стол, чтобы проследить за кинувшимися врозь тенями.
Юлий прошелся между столами и лавками, опуская огонь к полу и приседая. Но больно просторен оказался покой, слишком много тайн схоронилось по дальним его углам, где не исчезала вовсе, а только бегала с места на место темнота. Осмотр Юлий не закончил и вернулся к мрачно поджидавшему его воеводе:
– А что, Чеглок, когда-то я слышал про тайный лаз под рекой. Из Вышгорода на тот берег. Будто пигалики его проложили.
Воевода вздохнул, пожал плечами, все чем-то недовольный:
– Нету такого хода… Вы хотите видеть сейчас волшебницу?
Юлий замер.
– Да, господи! – словно очнулся он, с преувеличенной гримасой хлопнув себя по лбу. – А где принцесса Нута? Где вы ее разместили?
– Принцесса? – воевода с затруднением припомнил: – Собственно говоря… я давно ее не видел… Нет, не припомню… Определенно… С тех пор, как вы покинули стан, государь. И не помню, чтобы кто-нибудь мне докладывал. Осталась ли она на Аяти? Там теперь никого… Неладно как-то.
– Ну так, найдите, найдите, черт побери! И позаботьтесь об удобствах принцессы, – велел Юлий с неожиданным раздражением.
– Удобства принцессы… Безусловно, государь!
– А я переночую в предместье Вышгорода, – переменил разговор Юлий. – Я поеду один. Оставьте меня! – и он вручил озадаченному вельможе вполне бесполезный факел.
Кабак «Три холостяка» у подножия Вышгорода оказался забит военщиной – не продохнуть. Полки смешались: витязи и конные лучники (последние, естественно, без коней); копейщики в стеганных, покрытых железными бляхами жилетах, но без копий, которые по непомерной своей длине не умещались даже в просторном покое «Холостяков» и громоздились снаружи у входа, заслоняя окна. Все пили, дымили, стучали кружками, лапали не молоденькую уже подавальщицу, сновавшую между столами с выражением застылого испуга на лице. Все ревели: Юлий – наш государь! За великого князя! – и, разбрызгивая пиво, тянулись кружками через столы: Юлию слава!
Негде было отдохнуть взгляду. Разве на мирной купе игроков в кости, которые, устроившись подальше от очага – места небезопасного, потому что туда кидали обглоданные мослы, – не топали ногами, не размахивали руками и вообще не выказывали признаков помешательства, ограничившись приглушенным блеском в глазах – ими они так и шныряли по жирному столу, сопровождая раскатившиеся костяшки.
Со всех сторон так вопили «Юлий!», что Юлий, замешкав у порога, долго не мог найти, к кому обратиться, и остановился, после известных колебаний, на игроках в кости, представлявшихся основательными, склонными к сосредоточенности людьми. Что они и доказали, последовательно отвергая попытки Юлия обратить на себя внимание, пока одни беспалый кольчужник, потряхивая в покалеченной руке костяшки, не огрызнулся через плечо, что полковник Калемат вместе с великим государем Юлием проверяет дозоры вокруг Вышгорода.
– Ну, это сказки, – возразил Юлий.
Оглядываясь в поисках разумного лица, он приметил дородного человека на верхней площадке лестницы, которая вела в комнаты постояльцев, теперь, очевидно, переполненные. Надвинув на глаза шляпу, человек довольствовался своим покойным и созерцательным положением. Высоко над столами, опершись на перила, он, без видимого ущерба для себя, витал в воздухе, сизом от дыма и тяжелых запахов, пропитанном грубостью и неумеренным ликованием.
Расплывчатый очерк созерцателя имел в себе нечто призрачное. А скоро выяснилось, что в пьяном этом кавардаке нельзя положиться даже на ту толику определенности, которую ждешь и от призрака. Едва Юлий взбежал на дюжину ступеней вверх, созерцатель встрепенулся и с совсем не призрачной поспешностью отпрянул во мглу. Пока Юлий раздумывал, догонять ли, из левого темного прохода явился кабатчик Нетребуй в широкой, но короткой рубахе с вышивкой. Он начал было спускаться, когда узнал князя:
– Государь! – приглушенно воскликнул Нетребуй, ухитрившись изобразить все богатство испытываемых им чувств.
– Кто это был? – резко спросил Юлий, предупредив дальнейшие излияния. – Там, наверху. Этот… в шляпе, – нетерпеливо уточнил он. – Вот сейчас.
– Сейчас? – переспросил Нетребуй. Не глупый, приятного сложения человек. В меру упитанное лицо, вызывавшее мысль о благополучии, портила только жиденькая, какая-то неопрятная полоска усов над губами. – Сейчас? – он завел глаза кверху, в предуказанном направлении – туда как раз, откуда валила из комнат теплая ватага конных лучников. Они галдели на площадке, примеряясь к начинавшейся у ног круче. Конные лучники подумывали, как видно, спешиться перед трудным препятствием. А может быть, имели в виду открыть стрельбу не спускаясь.
Дородного человека в шляпе среди них не было, и кабатчик ничего больше не сказал, но посмотрел на государя с укоризной, безмолвно указывая, что вот эта вот ошалевшая от продолжительной скачки братия и есть для него «сейчас».
Да Юлий и сам уже сомневался в основательности своих подозрений.
– Ладно, – сказал он негромко, – пошли человека, чтобы разыскали полковника Калемата. Не нужно только шума…
Кабатчик приложил руку к сердцу.
– И вот что… Где бы нам с тобой потолковать? – и на этот раз собеседник не успел ничего иного, как приложить руку туда, где подразумевалось вместилище верности и услужливости всех кабатчиков – сердце. – Ты ведь местный, здесь родился, – продолжал Юлий.
– Помню вас, государь, вот таким, – сказал Нетребуй, в избытке чувств позабыв указать, каким именно. Не отмерил над ступенью лестницы рост маленького княжича, а сразу прижал ладонь к груди. Что, однако же, не вовсе лишено было смысла и в самом возвышенном духе выражало отношение Нетребуя к одинокому и задумчивому мальчику, когда тот был «вот таким» безотносительно к точным размерам его в локтях и пядях.
– Вы приходили сюда, государь, со своим дядькой Обрютой…
– Это он со мной приходил, – пробормотал Юлий.
– У вас была чудная привычка играть с кочергой.
– Да? Правда, – улыбнулся Юлий, что-то припоминая.
– И такой ведь бывало непорядок: все в саже. Нарядец поизмажется, ладошки черные, на лбу разводы. Так я, государь, с болью на это дело глядючи, велел завести для вас нарочную кочергу – отчищенную до блеска. Так… одна видимость, что кочерга, мы ею не пользовались. Только бывало завидим, как вы, государь, спускаетесь по дороге…
Юлий прыснул, сообразив, как просто его, мальчишку, дурачили.
И они встретились глазами, прозревая сквозь годы общее прошлое.
– Простите, государь, за обман! – еще и не донеся руку до сердца, сказал Нетребуй с чувством.
– Ю-лий! – взревел вдруг весь кабак сразу, рявкнул с притопом и присвистом так, что Юлий и Нетребуй тоже вздрогнули, вообразив на миг, что разгульная кабацкая братия опознала своего государя и таким решительным способом окликнула.
Ничуть не бывало. В полутемном покое, где притух в очаге огонь, никто не замечал задержавшихся посреди лестничного пролета собеседников, никто не слышал их среди гула разнузданных голосов. А единственным следствием внезапного воодушевления кабацкой братии было лишь сильнейшее сотрясение воздуха. Достаточно сильное для того, чтобы некто из неустойчивых конных лучников, все еще колебавшихся перед слишком крутым для конницы спуском, сверзился по ступенькам вниз, не задержавшись возле посторонившихся к стене Юлия с Нетребуем.
– Пройдемте, государь, здесь не совсем удобно, – спохватился кабатчик, проводив взглядом упокоившегося у подножия лестницы бедолагу.
Из-за наплыва военщины личная комната Нетребуя оказалась занята, и кабатчик, пораскинув умом, решился уединиться с Юлием в кладовой. Распорядившись по дороге насчет поисков Калемата, он прихватил свечу и провел гостя тесными темными коридорами вниз, а потом вверх и, еще раз извинившись на пороге, впустил его в узкую с крошечным окошком комнату.
Извиняться тут как будто бы было и не за что: бочки, лари, пахнувшие и кисло, и пряно, но вполне приятно, уставленные утварью полки. Да широкая доска вдоль стены, служившая, надо думать, столом, потому что Нетребуй не без удивления обнаружил здесь початую бутылку вина, два стакана – один почти полный…
Это могло бы возбудить подозрения у всякого знающего жизнь человека, что уж говорить о кабатчике Нетребуе!
Не избегла вдумчивого его внимания и половина пирога с вишней, того самого, что кончился весь еще до захода солнца и которого не хватило для лучших гостей харчевни: двух полковников и шестерых полуполковников, а также не считанных сотников и пятидесятников! По имевшимся у Нетребуя неоднократно проверенным сведениям с наступлением ночи алчущие толпы военщины довольствовались наскоро жареной свининой почти без хлеба… И были здесь признаки печенья, еще прежде – до пирога, – вскоре после полудня исчезнувшего из обихода. Изобилие овощей. И, наконец, немалая редкость для нынешней ночи – свеча, зажатая в расщеп заостренной палочки, которую чья-то дерзкая рука воткнула в расселину стены. Обгорелый фитиль, казалось, еще дымился, а расплавленный, затекший набок воск оставался слегка теплым.
– Что-нибудь не так? – спросил Юлий, замечая последствия наблюдений на озабоченном лице кабатчика, но никак не самые приметы непорядка.
Мгновение или два с выражением муки в искривленных губах Нетребуй колебался между взаимоисключающими ответами: что-нибудь не так – все совершенно так… Неодолимая потребность радовать государя победила:
– Наоборот! – неестественно взбодрился он. – Сверх ожидания, я бы сказал. Хотите пирога, государь?
Голодный Юлий не стал настаивать на уточнениях, отломил кусок пирога и уселся спиной к двери, а Нетребуй остался стоять напротив – спиной к окну, совершенно черному. Раскрытое, без решетки оконце выходило, по видимости, на скалистые склоны Вышгорода, а не на равнину, иначе можно было бы видеть хотя бы звезды.
– Нетребуй, – сказал Юлий, жадно уминая пирог, – ты, наверное, самый осведомленный человек во всем предместье. – Кабатчик подтвердил это, скромно склонив голову. – Ты хоть что-нибудь слышал… что ты знаешь о подземном ходе пигаликов под рекой?
Словно уличенный на месте, кабатчик застыл… неестественно повел глазами, избегая собеседника и промолвил сдавленно:
– Всё!
Загадочные ухватки Нетребуя заставили Юлия оставить пирог. Перестав жевать, он расслышал за спиной вкрадчивый шорох… И, пригвоздив кабатчика быстрым взглядом, обернулся: возле двери в трех шагах от Юлия пригнулась под широкополой шляпой тень… В тот же миг с откровенным треском дверь распахнулась, ожившая тень не бросилась на привставшего уже Юлия, а ринулась наутек, вон, между тем, как и Юлий вскочил, опрокидывая табурет.
Не особенно доказательный, но оправданный обстоятельствами вопль «предатель!» сопровождался прыжком через порог, где и цапнул он пустоту. Ударившись о стену, он ухитрился разобрать во тьме направление коридора и преследовал противника по пятам – в светлую ночь распахнулась дверь. Юлий вырвался на волю, приметив в последний миг, куда убегает противник. Не в сторону разложенного во дворе костра, что, освещая застрехи, полыхал за пристройкой, а – черт ногу сломит! – в путаницу тесно составленных загородок. Проще простого было тут наткнуться в темноте на клинок, но Юлий уж ничего не разбирал.
Друг за другом вылетели они на простор, на освещенный луной каменистый спуск. Тот, в шляпе, несся в каком-то беспамятном отчаянии, издавая сплошной сиплый стон, но и юноша озверел – настиг беглеца еще до нового поворота и, схватив за ворот, с неожиданной легкостью сбив с ног и резвого, и грузного противника. Тот повалился, не пикнув.
– Обрюта! – ахнул Юлий, едва вскочив на колени.
Обрюта тоже сел – не так быстро. Ничего не сказал, судорожно вздыхая. Потом он потянулся за шляпой и принялся отряхивать ею кафтан, не глянув на Юлия.
– Обрюта, – уверился тот окончательно.
Старый дядька узнавался не только в чертах полноватого лица с таким правильным утонченным носом, что впору было бы записному красавцу одолжить, но каждой своей ухваткой, привычным движением. И как замечательно он пыхтел и фыркал – словно вчера расстались!
– Обрюта! – повторил Юлий в смешливом умилении и не рассмеялся только потому, что не мог еще отдышаться. – От кого ж ты бежал? Ты что?
Где-то ревели пьяные голоса, а здесь было тихо и свежо, только луна глядела на рассевшихся посреди улицы чудаков.
– Да что ты молчишь? – теребил дядьку Юлий. – Ошалел, что ли?.. Ты чего бежал?
Отряхиваясь, может быть, уже без нужды, дородный дядька коротко дышал, успокаиваясь, но все плевался, выразительно так цыкал губами, словно встречал насмешкой примирительные заходы Юлия. Покончив с кафтаном, принялся он за шляпу, порядком измятую, выбил ее о собственные бока, которые прежде чистил шляпой… и все уклонялся взглядом.
– Да что ты бежал? – не отставал Юлий. – От кого?
– От вас, великий государь, – сумрачно отозвался Обрюта.
– Ну… – опешил Юлий. – Какой я тебе великий государь?! Кто нас тут видит, не придуривайся. Давай на ты.
– Давай, – пожал плечами Обрюта, не выказывая признаков словоохотливости. – От тебя, Юлий, я бежал.
Дальше уж невозможно было сводить все на недоразумение, повода смеяться не находилось.
– Прошлой осенью, – продолжал Обрюта словно нехотя, – вашими стараниями э… Юлька, я получил это поместьице – Обилье. Оно меня совершенно устраивает. Шестьдесят десятин в поле, а в дву по тому ж. И гнилой лесок десятин полтораста. Не буду врать, что я готов от них отказаться.
– Ну! – подтолкнул Юлий, пытаясь добраться до дела.
– Ну, а больше не надо. Как раз в меру.
– Так ты поэтому от меня и бежал? – недоверчиво хмыкнул Юлий.
– Поэтому и бежал.
– Ты очумел? – обрадовался разгадке Юлий.
– Государь! – начал Обрюта не без напыщенности и замолк, словно бы устыдившись. Во всяком случае, продолжил он не сразу, и в голосе его проскальзывала раздражительность, выдававшая неудовлетворение и внутреннюю борьбу. – Ты еще подходил к столице, государь Юлька, а меня уж завалили прошениями со всей округи – я очумел.
– Подожди, какими прошениями?
– Какими?.. Потому что я к тебе пойду, и ты мне ни в чем не откажешь.
– Ну уж, дудки – ни в чем!
– Вот. А ты попробуй им это объяснить. Сегодня услышал, что тебя государем кликнули, ну думаю, все – это конец. Теперь мне из бани не вылезать.
– Ты в бане от просителей прячешься? – хмыкнул Юлий, пытаясь найти тут что-нибудь забавное. Но Обрюта не улыбнулся и вообще не ответил.
– А ведь я хотел тебя ко двору взять. Трудно мне без тебя будет, – сказал тогда юноша, помолчав.
– Об этом я первым делом и подумал, как услышал, что город весь очумел: Юлий!
– Так что… не пойдешь ко мне? – медлительно спросил Юлий. – Если я попрошу?
– Не пойду! Убей меня бог, если пойду! Лопни мои глаза – нет! Чтоб меня перевернуло и хлопнуло, когда пойду! – он и в самом деле сердился, словно ожидал немедленного осуществления всех этих страшных угроз.







