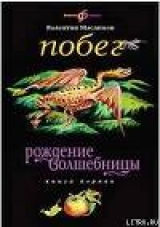
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Нежданная его откровенность походила на покаяние и на вызов. Видимо, так оно и следовало – среди толпы, на площади, как каются измученные совестью убийцы.
Захваченный страстью откровения, Юлий не заботился о последствиях, хотя и сознавал ожидающие его впереди стыд и муку.
– Вот как ты заговорил, сынок, – невразумительно пробормотал Любомир, почему-то утративший кураж.
С немалым удивлением Юлий обнаружил, что неловко стало не ему – слушатели его исповеди как будто бы устыдились. Когда княжич замолк, никто не возобновил прежней необязательной беседы. Государь начал прощаться, вдруг обнаружив, что ему давно пора уезжать. Вопреки прежде выраженному желанию остаться, уехала задумчивая Лебедь, и Юлий не решился ее удерживать. Вслед за вельможами очистила берег великокняжеская стража, на той стороне никого не осталось. Опустела дорога.
Давно уж некого было провожать, а Юлий глядел… И когда обернулся, увидел Золотинку. Низкое солнце забралось под навес, пожаром горели и переливались лучезарные волосы.
Она – почудилось? – пожала плечами… и пошла, бросив Юлия на мосту. Боже мой! Никогда еще Юлий не нуждался в снисхождении, как сейчас.
Недолгое время спустя Юлий, насилуя себя, на виду у всего стана, направился к шатру волшебницы и окликнул служанок.
Внутри было совсем темно, горела поставленная между лилий свеча, а волшебница сидела на утвержденном посреди обширного ковра стуле и глядела на вход.
– Вот ты как, – сказала она, невольно подражая интонациям и даже ухваткам Любомира, чего юноша не заметил. – Пришел…
Она говорила бесстрастным ровным голосом, пустота которого сразу же ужаснула Юлия.
– Жена за порог, а ты сюда.
Несколько мгновений он силился возразить, не имея ни слов, ни голоса.
– Бывает так, – наставительно продолжала волшебница, не меняя торжественного положения на стуле, – человек думает, располагает одно – выходит совсем другое.
Княжич стал неподвижен… и вышел вон, путаясь в занавесях. Через мгновение Зимка вскочила в побуждении схватить и удержать.
Они совершенно не понимали друг друга. Никто из них, ни Зимка-Золотинка, ни Юлий, не подозревал о разделявшей их пропасти недоразумения. Ведь принявшая облик Золотинки Зимка, несомненно, любила наследника. Она его обожала в полном значении слова. Возбужденное тщеславие Зимки мало чем отличалось от подлинной и глубокой страсти – от любви. И если уж суждена была Зимке когда-нибудь большая, все переворачивающая и, без особого преувеличения, испепеляющая любовь, то, значит, пришла для нее пора.
Несчастье же Зимкино заключалось в том, что опыт прошлого приучил ее к «короткоходовым» чувствам. Предвосхищая страсть, которая озарит когда-нибудь ее жизнь, Зимка с отрочества уже запасала впрок взгляды, жесты и даже самые чувствования, которые отрабатывала на безответных своих поклонниках, рассматривая их как черновые заготовки избранника. В течение какого-нибудь достаточно теплого вечера, за несколько часов успевала она иной раз выказать такое богатство и разнообразие чувств, какое другому, менее поворотливому человеку хватило бы на полгода самых бурных переживаний. Увлекаясь, переходила она от обиды к негодованию и тосковала, приложивши ко лбу ладонь, и выражала слабой улыбкой готовность к прощению, и сразу затем садилась к ухажеру на колени, чтобы в этом беспроигрышном положении осыпать его ревнивыми упреками и расплакаться, зажавши лицо в ладонях, и броситься бежать – в место дикое и безлюдное между двумя розовыми кустами, где привыкла она переживать отчаяние… И особенной расслабленностью жестов, мягко-устало звучащим голосом, приоткрытыми для поцелуя губами искупала она потом размолвку. Не позволяя, впрочем, разгоряченному было поклоннику особенно уж раскатывать губу.
Воспитанные Зимкой ухажеры отвечали ей такими же клокочущими впопыхах чувствами.
Так что действительно влюбленная, влюбленная первый раз в жизни, Зимка-Золотинка не умела выразить себя ничем иным, кроме нелепых дерганий, самый размах и ненужность которых свидетельствовали о захватившей ее страсти.
Вычурные замашки Зимки не были, однако, бездушной игрой – Зимка ревновала. Она – совершенно справедливо! – относила поразительные признания княжича к своей предшественнице и, раздваиваясь, переходила от торжествующей ревности к упоительной злобе. И так она путалась тем мучительнее, что самый предмет ревности уже не существовал, надежно похороненный в бесчувственной каменной глыбе. Но Зимка-то, может быть, как раз и ощущала особое унижение оттого, что счастливой соперницей ее оказалась безмозглая каменная глыба! Нарочитая Зимкина холодность проистекала из доподлинного, хотя и крайне невнятного движения души.
А Юлий… Боже мой! какое счастье доставила бы ему Зимка-Золотинка одним ясным и добрым взглядом. Если бы только умела она улыбнуться, как улыбнулась однажды – без всякого умения! – Золотинка.
Юлий ведь не нуждался в окриках. Излеченный Золотинкой, он умел понимать обычный человеческий разговор…
Ах, вам нужно притворство! – оставшись одна, не раз и не два восклицала Зимка в отчаянии. – Что ж, получайте! Вот вам! И бросалась ко входу на всякий шум, заранее приготовив виноватую и всепрощающую улыбку. Такую, что могла обернуться и тем, и этим в зависимости от обстоятельств.
Красиво устроенная среди лилий свеча оплыла, цветы пожухли. Сгустившаяся ночь оглашалась случайными голосами – они легко проникали под полог шатра. Но напрасно Зимка прислушивалась к отголоскам разговоров, к чужому смеху и чужим ссорам – Юлий не возвращался. Короткоходовые чувства девушки давно исчерпали себя; не имея ни терпения, ни мужества выносить последствия собственной опрометчивой искренности, – как она понимала сумасбродство, – Зимка вышла на воздух со скоропалительным намерением разыскать Юлия и… будь что будет!
Был поздний час, по стану горели поредевшие костры, а небо сияло крупной россыпью звезд. Зимка сообразила, что не знает, куда идти. Кого спросить? Затруднения такого рода не приходили ей до сих пор в голову. Она озиралась, немало обескураженная темнотой, смутной игрой теней возле костров и где-то разносившимся лаем.
– Ваша милость, барышня! – возник из мрака голос. – Позвольте вам служить!
Успокоительное и разумное, в сущности, предложение позволило Зимке справиться с первым испугом настолько, чтобы присмотреться к человеку. Отсветы дальнего костра обозначили толстую плешивую голову почти без шеи, которую замещал перетекающий в жирную грудь подбородок; откормленное брюхо и пологими склонами плечи – черты все внушительные, без мелких подробностей, излишних при недостатке света.
Не дожидаясь согласия и не рассчитывая особенно на ответ, ночной человек продолжал слегка задыхающимся полушепотом:
– Не извольте беспокоиться, барышня! Если вы ищите наследника… – он замялся, оставляя барышне возможность возразить, и сразу за тем прошептал еще жарче: – Я все устрою!
– Что ты устроишь? – вздорным голосом сказала Зимка. Неожиданная проницательность незнакомца оскорбляла Зимкины представления о сокровенной и неповторимой природе переживаемых ею страданий.
А незнакомец, совсем, видно, не понимая тонких чувств, гнул свое, слегка только заторопившись:
– С вашего позволения, барышня, я проследил наследника. На мосту он – удалился в тоске, сударыня! Оглашая уснувший дол жалостливыми стенаниями и пенями. Как он отсюда выскочил, барышня, не в себе, я вслед за ним шасть…
– Зачем? – не сдержалась Зимка.
– Услужить, барышня! Без всякой другой цели, без всякой другой цели! Поверьте, барышня, почел, выражаясь фигурально, своим долгом – услужить.
На этот раз Зимка вовсе не нашла, что возразить, и с некоторой растерянностью (она не достаточно хорошо еще понимала, что никакие душевные движения высокопоставленных особ не бывают их частным делом) – и с некоторой растерянностью молвила:
– Да сам-то ты кто будешь?
– Ничтожество! Совершенное ничтожество! – успокоил ее ночной человек.
И в самом деле, Зимка почувствовала облегчение.
– Но я умею быть полезным, – угодливо добавил он.
– Что ты еще умеешь?
– С вашего позволения, ем стеклянные рюмки.
Сумасшедший? Зимка поежилась, подумывая кликнуть служанку.
– Как твое имя? – спросила она, оттягивая миг, когда нужно было все же на что-то решиться – пуститься в путь, в темноту, вдвоем с услужливым сумасшедшим.
– Очунная Рожа, барышня, Очунная Рожа, – сообщил незнакомец. – Но я охотно откликаюсь, когда меня кличут Чунька. Очунная Рожа, барышня, – это торжественно. Зовите меня Чунька – без затей. Буду вам благодарен за это простое, домашнее обращение…
– Заткнись! – обрезала Зимка, грубостью, как это с ней бывало, возмещая замешательство и душевный разлад.
Однако они не нашли Юлия на мосту, как рассчитывал Чунька. Под навесом балагана спали вповалку люди, они ворчали, когда Зимка спотыкалась в кромешной тьме обо что-то живое, и порывались проснуться, но без успеха. Запиравшая решетку дверь не поддалась, и Чунька, почти уже не понижая голоса, уверял барышню, что это княжич. Княжич замкнул тот берег, чтобы избавиться от докучливой свиты. Очунная Рожа умолял ее не падать духом и не беспокоиться: «Мы это живой рукой устроим, там он, барышня, там. Голову потерял от огорчения».
Мало-помалу в обсуждение Зимкиных затруднений вступали пробужденные шумом ратники. В порыве самоотверженного усердия Чунька плюхнулся в реку, чтобы переправиться на тот берег и отомкнуть решетку. Выбираясь на сушу, он погряз в тине и не удержался об этом сообщить. Люди просыпались.
– Волшебница ищет наследника! – гомонили в темноте.
– Какая к черту волшебница? – переспрашивал очумелый спросонья голос.
– Золотинка! Какая?!
– А на хрен ей среди ночи наследник?
– На хрен тебе твоя потаскуха?!
– Это ты у нее спроси, гы-гы-гы!
– Дурак, она здесь!
– Кто, потаскуха?
– Где потаскуха, хлопцы? Давай сюда девку!
– Убери лапы, какая я тебе девка!
Зимка сгорала от стыда, не находя защиты даже во мраке. Тем временем безнадежно утонувший в грязи Очунная Рожа, не чая уже спастись, пользовался каждым отпущенным ему мгновением, чтобы в голос известить барышню: все в порядке!
– Не извольте беспокоиться, барышня! – захлебывался не различимый в ночи берег. – Это мы… живою рукою… устроим…
Со стоном Зимка шатнулась прочь, кого-то задела, получила и «болвана», и «суку», ничего не разбирая, слепо наступая на лежащих, обратилась под гам и матерную брань в бегство.
…А Юлий шагал всю ночь по пропадающей в свете ущербной луны дороге, по путаным тропам между полей и изгородей и без дороги вовсе. К рассвету он вышел на топкий берег Аяти несколькими верстами выше походного стана. Холодное купание взбодрило его, недолго полежавши на поваленном дереве, Юлий снова пустился в путь и скоро наткнулся на передовой дозор – его окликнули. Часовые сообщили, что на поиски пропавшего государя снаряжены разъезды.
Юлий вернулся в стан и прекратил тревогу. Не оправдываясь, он выслушал справедливые упреки воеводы Чеглока, и пытался спать, то есть валялся на постели, пока взошедшее солнце не накалило шатер так, что невозможно было оставаться под его удушливым покровом.
Он мало спал, если спал вообще, но утомления не замечал или, во всяком случае, забыл о нем, и провел день с Чеглоком, удивляя наблюдательного вельможу совершенным самообладанием. Однако же осторожная попытка Чеглока навести разговор на те деликатные обстоятельства, что удручали княжича, была остановлена негромко, но твердо. Воевода Чеглок, кое-что понимавший в людях (к которым, кстати сказать, он относил и великих мира сего), сделал для себя вывод, что государь принял решение.
Требовалось немного терпения, чтобы уяснить какое.
Замешкав перед прыжком, Нута подгадала миг, когда катившая под уклон кибитка поравнялась с окном. Не то, чтобы Нута искала спасения, нет, но все же не так высоко падать: парусиновый верх повозки поднимался над землей на два человеческих роста.
Сжавшись комком от страха, принцесса просвистела в воздухе и хлопнулась на кибитку между распорками, отчего ветхая парусина лопнула, погасив удар, а Нута грянулась внутрь на гору пустых корзин из-под яиц, зарывшись в которые она и застряла без дыхания и без мыслей.
Самое поразительное, что никто ничего не понял. Не говоря уж о Нуте, совсем обеспамятевшей, свидетели – путники, что брели по дороге, и возчик, успевший уже пропустить стаканчик, – ничего не успели сообразить. Все слышали зловещий гулкий хлопок, все вздрогнули, озираясь… и ничего. Не было во всей слованской действительности примеров, чтобы заморские принцессы падали с небес, с поразительным хладнокровием и точностью поражая повозки птичников. Словане и образцов таких не имели. Не с чем было сравнить и сопоставить. Потому, как сказано, никто ничего не понял – слышали, изумились… и разошлись каждый своей дорогой.
Спустившись с горы, возчик снял тормоз или, проще сказать, вытащил пропущенный сквозь спицы задних колес дрын, швырнул его на обочину, взобрался на сиденье и с чистым сердцем хлестнул лошадей.
Что касается Нуты, то она, запавши между корзинами, обомлела и лежала зажмурившись. Потому что была ужасная трусиха. С заморскими принцессами это случается сплошь и рядом.
К тому же не было надобности торопиться. Нута имела сколь угодно времени, чтобы прийти в себя. Оставив внешние укрепления Вышгорода, миновав Новый мост, повозка задержалась у известного возчикам кабака под названием «За лужей». Природное явление, неразрывно связанное с почтенным питейным заведением, было изображено, как можно предполагать, на вывеске. Оробев перед художественной задачей изобразить в красках столь неопределенный предмет как лужа (к вящему посрамлению искусства предмет этот всегда имелся перед завсегдатаями кабака в натуре), опытный живописец решил пойти окольным путем. Он намалевал плавающих в неведомых водных просторах уток и некоего утопленника, шлепнувшегося лицом в хляби. Причем хитроумный искусник избавил себя от необходимости изображать затонувшие части тела (они преобладали!) и ограничился несколькими возвышающимися над поверхностью вод кочками. Их можно было принять и за острова, если в разгоряченном воображении зрителя прежде помянутые утки начинали принимать облик кораблей и вся картина разрасталась до вселенских размеров море-океана. Щедрый замысел живописца не сковывал воображение зрителя.
Немудрено, что и Нута задумалась, когда, придя в себя и выглянув из прорехи в кибитке, обнаружила это примечательное произведение искусства. А также распахнутую настежь и подбитую снизу надежным клином дверь – ни один безумец не смог бы затворить ход в питейное заведение. Разинутый зев его отдавал теплым тлетворным духом, в котором плавали размягченные голоса.
Помягчел, как видно, и возвратившийся из этого тумана возчик – немолодой мордатый дядька, без усов, но с бородой торчком и с сальными прядями за ушами. Мятую черную шапку толстого войлока он залихватски сдвинул на затылок.
– Вылазьте, барышня! – сказал возчик на удивление миролюбиво, когда обнаружил в повозке неожиданность. – Приехали.
– Отвезите меня в стан наследника Юлия, я заплачу, – возразила Нута. – Вот! – Она протянула золотую заколку с камешком.
Ценность вещицы слегка окосевший дядька не имел возможности определить, но явленный из кибитки рукав бархатного платья показался ему впечатляющим доводом в пользу таинственной незнакомки.
– А вы, барышня, часом не из немцев будете? – полюбопытствовал он, повертывая в заскорузлых пальцах заколку.
Положительный ответ, вероятно, послужил бы достаточным оправданием загадочному появлению незнакомки, утвердил бы возчика в намерении дать крюку аж на Аять, где находился стан наследника, и покончил со всеми сомнениями относительно золотой вилочки, предложенной вместо платы. На свою беду Нута никакого ответа не дала, не подтвердила и не опровергла догадку возчика и этим его разочаровала. Отодвинувшись вглубь кибитки, она завозилась среди корзин.
– Поезжай в стан наследника. Скоро!
Обиженный возчик, вздыхая, взобрался со второй попытки на козлы и тогда пробормотал себе в утешение:
– А все ж таки божья тварь!
С этим глубокомысленным соображением он и тронул. Однако роковая задержка – тот предварительный крюк за лужу, который понадобился возчику, чтобы заложить все остальные крюки, – эта задержка уже оказывала свое воздействие, ломая замыслы и разрушая надежды. На людных улицах ощущалось необычайное возбуждение, которое возчик по складу своего философического ума не склонен был замечать.
– Из немцев! – уверился он после раздумий. И даже как будто бы просветлел – освободил сердце от тяжести.
Между тем пришлось ему наконец сказать «тпру!». Люди сбегались, переговариваясь на ходу, оставляли лавки, чтобы завязнуть в быстро сбивавшейся толпе. Впереди на перекрестке нескольких улиц, образовавшем род площади, горячился на скакуне пестро одетый мальчик в разрезной шляпе с перьями. Оказавшись в средоточии ожиданий, мальчишка этот или, вернее сказать, юноша лет пятнадцати, вероятно, сын боярский на службе у великого государя, испытывал живейшее удовольствие. Он нагло покрикивал на людей, замахивался плеткой и вздымал коня на дыбы, чтобы показать, что не первый день сидит в седле. Но и потом, чудом не свалившись в грязь, не начал читать грамоту, чего все ждали, а приставил к губам рог и затрубил, терзая притихшую толпу самыми омерзительными и бессвязными звуками, какие тощий мальчишка пятнадцати лет способен извлечь из охотничьего рога. Наконец, он заголосил:
– Великий государь и великий князь Любомир Третий, Словании, Тишпака, Межени и иных земель обладатель, сегодня в год от воплощения господа нашего вседержителя Рода семьсот шестьдесят девятый, месяца рюина в четвертый день незадолго до полудня по соизволению божию скончался.
– Что такое? Что такое? – растерянно повторяли люди, словно не доверяя известию.
– Вы слышали, барышня? – хриплым полушепотом обратился возчик внутрь кибитки. Он и дальше считал нужным пересказывать барышне все, что сумел понять из пространных сообщений вестника, всю эту жуть про рехнувшуюся заморскую принцессу, которая колдовским обычаем прошла сквозь стены, отравив предварительно свекра и почти отравив свекровь. Был зачитан еще один, отдельный указ, приговор боярской думы, который ставил под сомнение наследственные права Юлия, и доводилась до народа нарочно высказанная воля покойного государя поставить на престол Святополка.
– Вот те раз! – повторял возчик себе. И когда обескураженная толпа как-то нехотя стала расходиться, не зная, что говорить и думать, тронул лошадей, за общегосударственными соображениями совершенно упустив из виду, что по одному из только что оглашенных указов городские ворота закрыты для въезда и выезда.
– Господин хороший! – окликнул он мальчишку на коне, который, важно пересматривая, прятал бумаги в сумку. Мальчишка оглянулся, нахмурившись, ибо не мог сразу сообразить, не содержит ли вольное обращение «господин хороший» чего-нибудь обидного для чести государева вестника и глашатая. – А что, барин, та сказанная государыня, заморская принцесса, супруга нашего наследника Юлия, которая сквозь землю ушла, не из немцев ли она будет?
– Дурак! – коротко выразился глашатай, хлестнув коня.
– Слушаюсь! – мудро ответил возчик.
Решительное заявление приближенного к государственным тайнам лица освободило возчика от сомнений. Получив «дурака», он взбодрился и, покрикивая на народ, начал выворачивать на Крулевецкую улицу, продолжавшуюся за городской стеной той самой крулевецкой дорогой, что выводила на Аять к полевому стану Юлия. Однако короткий проезд к воротам был запружен громоздкими возами, телегами ломовых извозчиков с огромными колесами, колымагами, дрожками и двуколками. Народ гомонил. Иные, не обращая внимания на размахивающих руками соседей, упражняли себя в терпении, то есть развязывали мешки с салом и хлебом и прикладывались к пузатым баклагам неведомого содержания. Все было забито до самой двойной башни, которая возвышалась над крышами, перекрывая своей громадой даже самые высокие, в три, в четыре жилья дома.
– Вот те раз! – удивился возчик и повернулся к задернутым полам кибитки. – Как это будем понимать, барышня?
Не получив ответа, он заглянул внутрь полотняного кузова. Большущая прореха наверху, обрамленная колыхающимися лохмотьями, давала достаточно света, чтобы можно было убедиться без тени сомнения: барышня исчезла. А самые размеры дыры, вполне, значит, подходящие, наводили на мысль, что туда барышня и прянула вопреки препонам – к небу.
Возчик, понятное дело, ошибался. Нута выбралась через надорванный бок. Она слышала все и многое поняла. К тому же она догадывалась, кого называют немцем. Для слованина немец не только обитатель северо-западных лесов, но и вообще чужак. По буквальному смыслу слова – немой. Не понимающий человеческого языка. Причудливое существо, по своему чужеродству и несуразным понятиям представляющее собой некое излишество природы, иногда безопасное и нелепое, иногда враждебное. Тот же самый смысл утонченные мессалоны вкладывали в слово варвар, называя так всех чужеземцев чохом, включая и слован.
Так что глубокомысленные изыскания возчика возникли не на пустом месте и не напрасно Нуту встревожили. Другое дело, что мессалонская принцесса не умела оценить чистосердечную любознательность подвыпившего дядьки. По беспредельному своему добродушию он признавал заслуживающим снисхождения существом даже немца.
Откуда это было знать заморской принцессе? Прыжок в пропасть, нервное потрясение перевернули все в душе Нуты, обнажив несвойственные ей прежде черты, в повадках ее явилось нечто удалое, нечто отдающее даже беспамятством. Не заглядывая далеко вперед, с хладнокровием все потерявшего человека она принялась готовиться к побегу. Стащила с себя платье, собираясь закутаться в найденный в кибитке половик, но обнаружила, что изнанка дорогого бархата разительно отличается от лицевой стороны, и снова натянула то же платье, только навыворот. Так что получилось из принцессы нечто вполне несуразное и потому не вызывающее подозрений. Осталось только извлечь из ушей алмазные серьги, освободить от заколок и жемчужных нитей волосы да растрепать их и распустить по плечам, как у чернушки, подавальщицы из корчмы. Приспособила она к делу и половик – завернула на бедрах как поневу, то есть не сшитую юбку, которая держится одним поясом. Напоследок Нута догадалась скинуть башмачки, стащила чулочки и сунула это все в пустую корзину – возчику на память.
Выбравшись наружу через продранный бок кибитки, она протиснулась вдоль стены и попала в столпотворение, где приняли ее за свою, ничему не удивляясь. Двойная башня Крулевецких ворот помогла ей вспомнить дорогу, которой въезжали они с Милицей в город. Но все ж таки принцесса сообразила, что лучше держаться подальше от людного места, где посверкивают бердыши стражи, и подалась назад в путаницу бедных и грязных улочек.
Скоро однако Нута вынуждена была осознать, что положение ее, в сущности, безнадежно. Можно ли выбраться из чужого города, не имея ни помощи, ни подсказки? Как разменять на звонкую монету припрятанные под юбкой драгоценности? Куда податься и кому довериться? Она брела, не смея остановиться и присесть, едва поднимая глаза, чтобы осмотреться. Она позволяла себя толкать и только ежилась, задетая грубым словом, подлинное значение которого большей частью не понимала. Она давно проголодалась, но не замечала этого, равнодушно поглядывая на румяные расстегаи и кулебяки коробейников. Дурманящие запахи снеди наводили на мысль о чем-то забытом и теперь не важном.
К тому же выяснилось, что босиком далеко не уйдешь. Требуется немало изворотливости, когда на каждом шагу ощупываешь крошечной нежной ножкой камешки, кости, щепки и острые грани горшечных черепков. Нута заново осваивала науку терпения, а всякая наука постигается ведь не в один день.
И кажется, блуждала она долго – так ей представлялось, – а вышла туда же, где была: замкнувши круг, снова увидела в просвете между домами знакомые очертания двойной башни. Неподалеку на вздувшейся горбом улице, загроможденной к тому же непонятно для чего сложенными камнями, раздавались надсадные наигрыши волынки. Взбудораженная толпа принимала, должно быть, трубные звуки за властный призыв бирючей и потому запрудила проход, стеснив и Нуту.
Волынщик оказался ладный чернявый юноша в пышной куртке с разрезными рукавами, которые пришлось ему подвернуть из-за длины; щеголеватую шляпу он забросил на ленте за спину, поскольку шляпа тоже оказалась не впору, была мала и не держалась на вольных кудрях. Когда народу собралось достаточно, он отнял от губ деревянное дуло волынки, отер его ладонью и с невинным любопытством оглядел встревоженные лица сограждан.
– Нравится? – доброжелательно спросил он, прихлопнув запавший мех, отчего волынка послушно вякнула. – Мне тоже. Звучная погудка, насыщенная и на два лада: если встряхнуть жалейку, лад переменится. – И он действительно встряхнул прилаженную к меху жалейку, чтобы порадовать зевак новым ладом. – Платил-то я за волынку, а получил две. Вот послушайте.
Обескураженный народ, не выказывая радости от удачного приобретения скомороха, стал почему-то расходиться. Так что к тому времени, когда скоморох вытряс, наконец, из жалейки дополнительный, не предусмотренный покупной ценой лад, утомленная Нута осталась перед чернявым волынщиком одна. В смирении ее, в том, как сносила она удручающие завывания расстроенных жалеек, заключалось нечто красноречивое. В сущности, все это время Нута искала располагающее, открытое и смелое лицо. Теперь, когда она увидела волынщика, искать больше было нечего.
– Ну? – юноша глянул с насмешкой. – Плохо наше дело, я вижу. – Резко очерченный, страстной складки рот его менялся, выдавая подвижную натуру.
– Если мне никто не поможет, – прошептала Нута, оглянувшись, – я погибну.
Конечно, она говорила не совсем правильно, с явным мессалонским произношением, но всякий, кто имел расположение понимать, не понять не мог. Понял и юноша. И не особенно удивился. Он скорее насторожился и окинул девушку быстрым взглядом.
– Если мне не поможет никто! – озадаченно повторил он. – Почему именно никто? А если это будет не никто, а кто-то? Чем плохо? Вот послушай: если кто-то мне не поможет, я погибла. Я лично принял бы помощь и от того, и от другого. Но кто-то мне кажется все же понадежней.
Лепель вернулся взором к крошечным замурзанным ножкам и опять задержался на подозрительном наряде из добротной, не заношенной ткани с вывернутыми наружу швами.
– Ты похожа на чокнутую принцессу, – подвел он итог своим наблюдениям.
– Так оно и есть, – призналась Нута, уловив хорошо известное ей слово «принцесса».
– Кстати, насчет чокнутых, – живо заметил юноша, останавливая жестом собеседницу. – Батяня мой на смертном орде заклинал непутевого сына не связываться с ними. Ладно еще, он ничего не завещал насчет принцесс. В противном случае не знаю, как я бы уж с тобой поступил. До принцесс батяня не мог додуматься. Этого он просто уже вместить в себя не мог.
– Меня зовут Нута. Я принцесса Нута, – сказала она так простодушно и непосредственно, что никакое зубоскальство стало уже невозможно.
– Нута, – озадаченно повторил Лепель (ибо это был, конечно же, Лепель). – Ну не знаю… Не знаю, какая из тебя отравительница… но что касается меня…
Он оглянулся не без тревоги, и Нута, болезненно чуткая и настороженная, приблизилась на шажочек, словно желая юношу удержать. Но в этом не было необходимости. Лепель вздохнул, взял молодую женщину за руку и повел, преодолев ее непроизвольное сопротивление.
Они свернули в вонючий тупик, превращенный в свалку, так что кучи старого хлама и мусора грудились выше порогов двух или трех дверей, выходивших в эту неприглядную щель. Зато здесь не было чужих глаз и городской гомон доносился заглушено.
– Ну-ка, ну-ка! – пристроив волынку у стены, Лепель принялся вертеть молодую женщину, беззастенчиво ее ощупывая. Отвел волосы, обнажив шейку, обследовал пальчики с ухоженными ногтями и погладил нежные подушечки ладоней. Потом с какой-то необъяснимой строгостью велел прополоскать ногу в луже и присел, чтобы освидетельствовать ступню на предмет привычных мозолей. Разумеется, ему не трудно было установить, что маленькая женщина никогда не ходила босиком.
Что оставалось неясным, так это дурачится Лепель или как? Может, он и сам этого не понимал, давно разучившись различать шутовство жизни и шутовство подмостков.
– Бесподобно, бесподобно! – со вкусом повторял он, не обращая внимания на блестевшие в глазах женщины слезы. И ухватил щиколотку так, что Нута привалилась к стене, потеряв равновесие. – Настоящая принцесса! Без подделки! Не то, что предыдущая. Надо сказать, с одной принцессой я уже имел дело. Но что там была за принцесса – одно название! – он поднял глаза.
– Ворота закрыты, – сказала Нута, справившись со слезами, – а мне нужно к Юлию. Скорее нужно, скорее.
– А ведь принцесса! – воскликнул он вдруг, словно только сейчас это наконец понял.
Так он и сел на корточки перед Нутой, оставив в покое ножку. Только сейчас, кажется, он осознал в полной мере, что вертел в руках, тискал, ощупывал великую государыню, княгиню Нуту, задирал подол законной супруге наследника Юлия. И тогда сказал без всяких ужимок, совершенно серьезно (что, впрочем, само по себе походило на издевку):
– Вот за это уж точно голову снимут. Не те, так эти.
– Да-да, – закивала Нута. – Непременно. Я должна видеть Юлия. Скоро. – Она достала из-под грязной рогожной поневы пригоршню золотых украшений. – Вот!
– Княгиня Нута! – ахнул Лепель в который раз. – Снимут голову. Точно. И те, и эти.
Последнее соображение, однако, не остановило Лепеля, он принял золото и небрежно рассовал его карманам.
– Пойдемте, государыня.
Где-то на соседней улочке – Нута узнала груду колотого камня у стены – юноша отыскал лавчонку, за открытой дверью которой вились мухи. Здесь вязала чулки старуха, а на прилавке стояли в горшочках закаменевшие сладости. Старуха зыркнула на девушку исподлобья – вполне равнодушно – и потом в обмен на серебряную монетку передала Лепелю ключ, сразу же вернувшись к чулку.
Разбитая лестница привела молодых людей в темный проход, где Лепель едва ли не на ощупь отыскал дверь и отомкнул ее без лишних затруднений, потому что ключ, соответствуя замку, представлял собой простой железный крючок.
– Но… но я не могу ждать, – с дрожью сказала Нута, оглядывая подозрительную коморку. В жизни своей не видела она ничего подобного: обшарпанные стены, когда-то побеленные, а теперь от этого еще более грязные; кровать без белья, колченогий стол, кувшин и таз с засохшими подонками.







