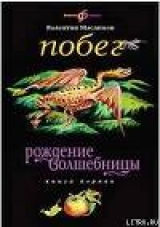
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Когда посланник – или, может, разведчик? – удалился с поклоном, Зимка откинулась вглубь кареты и в лихорадочном, неудержимом уже волнении стиснула руки. Она отчаянно трусила.
Пятьдесят человек конной стражи – это, конечно же, было много для путанных улочек Хамовников: лошади, кареты, дворяне и челядь запрудили подходы – не пройдешь. А скоро Поплева наткнулся и на заставу.
– Не велено! – отрезал распоряжавшийся тут дворянин. Нетерпеливо покусывая соломинку, он выслушал вздорные объяснения простолюдина и еще раз отмахнулся: ничего такого, ни о каком государевом тесте он не слышал и распоряжений не получал. А которое было – никого не пускать! – прямо свидетельствовало против наглых домогательств Поплевы, ибо по сути своей подразумевало, что все, кому положено и кому надо, уже пущены.
– И придержи язык, приятель, – заключил дворянин – язвительный, изможденного вида человек с неулыбающимися глазами.
Но дело обстояло совсем не так, как предполагал, опираясь на здравый смысл, охранник. Кому положено, кто и сам стремился в харчевню, – тот оставался за пределами оцепления. А тот, кто, полагая себя в опасности, хотел бы убраться подальше, – тот оказался в западне… Когда ущелье улицы огласилось дробным цокотом копыт, Рукосилов человек Ананья, вторую неделю тайно обитавший в «Красавице долины», выглянул из окна коморки под самой крышей и к величайшему недоумению, которое быстро обратилось тревогой, обнаружил внизу половодье вооруженных всадников. У раскрытой двери харчевни наряженный в белое вельможа спешился, и донеслось зловещее слово: не пускать!
Разлившаяся по узкому лицу Ананьи бледность, которая оставила не тронутым только естественный красноватый цвет шишечки на конце носа, убедительно показала бы внимательному и вдумчивому наблюдателю, что Рукосилов лазутчик принял прибытие дворцовой стражи на свой счет. Наблюдателей, однако, не имелось. Ананья немощно ухватился за косяк окна, чтобы переждать слабость, и, кое-как воспрянув, метнулся вглубь комнатки с вполне определившимся намерением бежать. Однако он слишком хорошо знал, что покинуть харчевню можно только через общую комнату или через смежную с ней кухню, – оба пути отрезаны. Приоткрыв дверь на ведущую вниз лестницу, Ананья склонил ухо, пытаясь расслышать, что происходит.
Не много он разобрал и вернулся к себе, запершись изнутри на хлипкий засов. Уединение, как обнаружилось, понадобилось лазутчику, чтобы поспешно разоблачиться. Смурый кафтан его, самого неприметного и скучного покроя, имел увеличенные подкладками плечи, что оправдывалось тщедушным сложением лазутчика. Отсюда, из наращенного птичьим пером и пухом плеча, Ананья извлек с помощью остро заточенного кинжала перышко, мало чем отличное от других, – чуть больших размеров и с особой резаной меткой у корня.
Уронив кафтан на пол, лазутчик присел за стол, где стояла чернильница, и, часто оглядываясь на дверь, начеркал несколько торопливых строк, которые начинались обращением «Государь мой Рукосил!» Примечательно, что, несмотря на отчаянную спешку и напряженно-обеспокоенное лицо, Ананья позволил себе лишь самую необходимую краткость, опустив в обращении такие слова, как «милостивый», «батюшка» и «свет».
После точки осталось только обмахнуть не просохшее письмо извлеченным из подкладки же перышком – строки исчезли. Чистый лист можно было спокойно бросить на столе, – почтовое перышко выпорхнуло в окно. Дело сделано. Ананья скользнул к двери.
Внизу раздавался пронзительный, словно винтом закрученный голос. Ему вторил приниженными оправданиями хозяин харчевни Синюха. В отрывистых речах нельзя было уловить смысла, даже при том произвольном допущении, что таковой имелся. Прихватив кафтан, Ананья спустился по темной лестнице на два пролета ниже, но и тут не много понял, с некоторым удовлетворением разобрав только, что обладатель сверлящего голоса не может договориться с Синюхой. Что, вообще говоря, было и затруднительно, когда один изъяснялся все больше оплеухами, а второй, вовсе отказавшись от членораздельной речи, отвечал приглушенным воем.
Со ступенек лестницы Ананья заглянул в низкий зал харчевни – невзрачный, но чистый покой с двумя длинными столами. Перед слабо дымившим очагом молодой вельможа в серебристо-белых шелках, схватив Синюху за ухо, пригибал его к полу, сопровождая это занятие прибаутками. Здесь же, у очага, испуганно жались Синюхины домочадцы: жена, две дочери, маленький сынишка и придурковатая горбунья, которая служила на кухне. Пять или шесть случайных посетителей харчевни, бросив застолье, отступили к стене и там ожидали своей участи, имея о ней самое смутное представление. У широкой двери на улицу поблескивали доспехи стражников.
И все же непосредственной опасности для Ананьи как будто не было. Опасность грозила скорее ретивому вельможе, в котором Ананья признал известного ему Дивея. Синюхина горбунья поскуливала и подергивалась, понемногу впадая в исступление, на дурашливых ее губах, никогда не закрывающихся, проступила слюна. Непонятно было только, бросится ли дурочка на хозяина, из превратно понятого усердия помогая таскать его за уши, или, движимая тем же усердием, вонзит ногти чужаку в рожу.
Это уж не касалось Ананьи. Он попятился невидимкою и начал подниматься по плохо освещенной крутой лестнице. Тревожные соображения теснились у него в голове. Задерганный, оборачиваясь, чтобы прислушаться, застегиваясь на ходу, ступал он вкрадчивым шагом, бережно, словно боялся повредить лестницу… Но не уберег ни лестницу, ни себя – поскользнулся и, не успев ухватиться за поручень, грянулся с деревянным стуком.
Ананья сверзился на две-три ступени вниз без единого стона – в таком стоическом молчании, что можно было думать, будто он и сам состоит из дерева и этот дробный, барабанный грохот, каким пересчитывал он доски коленями и локтями, был ему за обычай как естественное выражение чувств.
Истинный стоик, после короткой передышки он возобновил движение ползком, на карачках, помогая себе руками. И расхрабрился уж было встать, когда послышались тяжкие, переходящие в стон вздохи. Ананья опять замер, не совсем ясно понимая, что является причиной этих малодушных звуков. Не нужно ли искать источник стенаний в себе самом?
Разрешив этот вопрос в отрицательном смысле, Ананья почел за благо расположиться для отдыха на той самой ступеньке, где застигли его таинственные звуки. Он успел принять самый скучный, непритязательный вид, какой только может иметь благонамеренный постоялец гостиницы за собственные свои деньги, когда внизу натужно заскрипела лестница. Из-за поворота показался убитый горем Синюха. Мясистые щеки хозяина, и без того дряблые, распухли от слез, борода, обычно расчесанная надвое, спуталась, превратившись в сплошную, выпяченные губы под усами сложились рыдающей гримасой.
– Вы мой единственный постоялец! – всхлипнул Синюха.
– Я готов рассчитаться, – осторожно возразил Ананья.
Синюха вяло шевельнул рукой, показывая, что не в состоянии обсуждать сейчас этот вопрос.
– Я ведь что, велено спросить ваше настоящее имя, – сказал он и опять махнул – безнадежно.
Правая рука Ананьи подобралась к левой… хвать! поймал он свой указательный палец и больно его выгнул.
– Имя? Оно у меня одно.
– Несомненно. Я так и думал, – обречено сказал Синюха. Он не видел смысла продолжать разговор, сгорбил покатые бабьи плечи, и, тяжело опираясь на поручень, ступил шаг и другой вниз.
– Отчего же это такие строгости? – спросил тогда Ананья, вкрадчиво высвобождая плененный палец.
– Но где это видано, скажите на милость? – остановился кабатчик. – Вынь да положь! Ты сначала растолкуй, а потом спрашивай. Сначала положи, а потом искать посылай. Так я понимаю. А что же запрещать, когда ничего никогда и не разрешалось?!
– Золотые слова! – подтвердил Ананья с сокрушенным вздохом.
– Требуют от меня Поплеву, сударь. Государева тестя Поплеву – такое у него имя.
– Имя не хуже всякого, – кратко отметил Ананья, предусмотрительно оставляя за собой право высказать при необходимости и иные, более развернутые суждения.
– За Поплевой приехала государыня.
– Вот те раз! Государыня уверена, что Поплева здесь? В харчевне?
Сюниха запнулся перед необходимостью обсуждать намерения и поступки великой государыни. Оберегая благополучие своего заведения, он усвоил благоразумную привычку никогда не думать о царствующих особах ничего такого, что нельзя было бы произнести вслух.
– Государыня велела искать названного отца у меня в харчевне, – сказал Синюха с нажимом, который выражал одновременно и соответственную персоне почтительность, и предостережение собеседнику, и даже – нельзя исключить! – некий верноподданный укор по отношению к самой государыне.
Ананья не колебался – решаться нужно было в одно мгновение.
– Ну что же… – многообещающе начал он. – Тогда нет надобности скрывать истину.
– Вы можете меня выручить? – в изумлении пролепетал несчастный кабатчик.
– Я откроюсь государыне при личной встрече, – многозначительно отвечал Ананья.
Но Синюху и не нужно было особенно водить за нос, он и так уж потерял голову.
– Спаси господь! – с чувством сказал он. – Вы благородный человек. Если когда-нибудь вам понадобятся мои услуги… Люди должны выручать друг друга.
– Передайте государыне, что Поплева ждет ее в своем скромном жилище. Давно ждет! – повысив голос, чтобы слышно было внизу в зале, добавил Ананья вослед кабатчику.
Кряхтя и прихрамывая, Ананья поднялся в свою коморку и краем глаза выглянул на улицу, где началась та особая суматоха и беготня, которая предшествует появлению царствующих особ. Снова схватил он пострадавший недавно палец, но не остановился на нем, а перебрался на другой, легонько помучивая. И замер с неподвижным взглядом. И медленно-медленно, с томительной вкрадчивостью опустился на грязное лоскутное одеяло, которое покрывало кровать под резным навесом, – единственную роскошь убогого помещения.
Среди примечательных свойств этого малопочтенного человека имелось одно наиболее удивительное: в крайне трудных, безнадежных, по сути, обстоятельствах Ананья сохранял преданность потерпевшему крушение хозяину. Может статься, имелось тут нечто собачье – не рассуждающее: он попал однажды под воздействие сильной личности и уже не мог освободиться от обаяния величия и могущества, даже когда они сгинули. Как бы там ни было, Ананья нисколько не заблуждался относительно размеров постигшего хозяина поражения и со стоическим мужеством поддерживал обреченного Рукосила-Лжевидохина в его потугах противостоять судьбе.
Малую долю часа назад, посылая впавшему в ничтожество чародею торопливое известие о собственной гибели, Ананья исполнял долг, как он его понимал. Не имея, между прочим, уверенности, что почтовое перышко дойдет по назначению – разыщет в дебрях Черного леса живого еще хозяина, а не будет кружиться над брошенным едулопами телом. Отправляясь в столицу, Ананья оставил Лжевидохина в обычном его состоянии – очень плохом. Не хуже, чем полгода назад, но хуже и не могло быть. В часы просветления Лжевидохин обнаруживал цепкий, склонный к озлобленной живости ум. Немощное тело, однако, не повиновалось ему так, как мстительная и жадная мысль – большую часть дня оборотень стонал на носилках, которые таскали на себе четыре отборных едулопа, голые буро-зеленые обалдуи со скошенными лбами.
Все обернулось против Рукосила. Судьба медленно удушала его, время от времени ослабляя свои объятия для того только, чтобы несчастный напрягал последние силы на пути к всеконечной гибели.
Растеряв власть, могущество и здоровье, Лжевидохин не имел и пристанища, которым может похвастаться последний бедняк. Преследуемый разведчиками пигаликов, оборотень пребывал в беспрестанных, затянувшихся, как перемежающийся кошмар, бегах, меняя одно убежище на другое. К исходу зимы он оказался в непроходимых чащах леса, который спускается с высочайших вершин Чжарэнга и обволакивает своей мрачной сенью истоки Белой. Зловещие, полные нечисти места эти, гибельные для человека и для пигалика, укрыли оборотня с его мерзавцами. Суровая зима скостила и без того немногочисленную свиту чародея. В глубоких сугробах Чернолесья полегли десятки побитых морозом едулопов, они замерзли без надежды пустить по весне ростки.
Зимой Ананья отморозил ноги. Помертвелый от усталости и отчаяния, он хватался за край носилок, когда проваливался в снег, оскальзывался на льду, путался в твердых, как камни, корнях и спотыкался в нагромождениях скал. Он тащился рядом с умирающим чародеем, принимая на себя несправедливую раздражительность и припадки дурной озлобленности – как единственный собеседник Лжевидохина, не считая едулопов, с их несколькими сотнями воющих и лающих словоподражаний. Ананья прятал глаза, опасаясь выдать застывшую в них тоску. Стоически равнодушный, он оберегал обольщения хозяина, который, колыхаясь на убогих носилках, пускался в надоедливые рассуждения о своих расчетах и замыслах.
По правде говоря, единственной надеждой чародея оставалась негодная и пустая девчонка. Известие о невероятном успехе прежней Рукосиловой приспешницы, Чепчуговой дочери Зимки, они получили только на исходе зимы. Лжевидохин пришел в болезненное возбуждение.
– Верно ж я рассчитал! С умом, с умом сделано! – говорил он о себе, кашляя и отхаркиваясь. – Нет, нет, есть и размах, и предвидение: двинул одну, подставил другую… Изящное решение, сильный ход! Ставленники мои становятся государями – где же место того, кто ставит? А? Выше! Еще выше! – задыхался он морозным воздухом заснеженного леса на дергано качающихся носилках, которые волокли измученные, обмороженные, покрытые страшными струпьями едулопы. – Выше! И еще выше! – хихикал он под иссиня-черным небом, вместилищем ледяных ветров. Временами из завываний пустоты рождались заряды снежной сечки.
Добравшись по весне в столицу, Ананья скоро убедился, что не имеет ни малейшей возможности принудить к повиновению ставшую Золотинкой Зимку. Вздорная девчонка заартачилась и возымела намерение избегать своего подельника. Чем можно было ее запугать? Разоблачением? Трезво обдумывая положение, Ананья понимал, что едва ли удастся привести такую угрозу в исполнение. Влюбленный Юлий не поверит наветам проходимца, когда любимая прибегнет к доступным ей доводам. Доводы любимой так выгодно отличаются от всего, что имеет на вооружении подручник мстительного и лживого оборотня.
С проницательностью изверившегося человека Ананья понимал, что дело Рукосила, его, Ананьи, дело, изначально уже проиграно. Если только Зимка-Лжезолотинка не запутается сама, последовательно избегая ведущих к спасению путей.
И он прекрасно понимал, что решился на отчаянный шаг, когда вышел из тени, оказавшись среди преданных государыне и отлично оснащенных для убийства людей.
Чего, однако, не знал готовый ко всему Ананья, так это того, что отправленное им в отчаянной спешке почтовое перышко уже получено – прежде всякого срока и вероятия! Порхнувши ввысь, перышко полетело над чересполосицей крыш, над трубами и шпилями, над узкими щелями улиц и ямами дворов. И скоро начало снижаться… На улице Варварке, на Посольском дворе, где высился просторный особняк под черепичной кровлей, предназначенный для приема зарубежных гостей, чудесное письмо скользнуло в предусмотрительно открытое оконце.
Здесь поджидал маленький стриженый человечек в очках. Как всякий уважающий себя пигалик он не терял зря времени и, обреченный на скучное дежурство, занимал себя двумя делами сразу: читал толстую умную книгу и, не отрываясь от нее, расчесывал мокрым гребнем непокорный мальчишеский вихор на макушке. Опустившееся на стол перышко заставило его бросить оба занятия сразу.
Вот что содержало в себе проступившее на заранее приготовленном листе бумаги послание:
«Государь мой Рукосил! Обложен дворцовой стражей в харчевне «Красавица». Вчера снова пытался связаться с З. И это ответ. Верно, это Н. предал. Прощайте. Травеня 2 день, 7 час пополудни».
Подписи не было, но принявший сообщение пигалик и не нуждался в ней. Точно так же без всякой подписи опознал бы руку своего приспешника и Рукосил, если бы своим чередом получил письмо через пятьдесят два часа после отправки. Да только случай-то был уж больно спешный, чтобы полагаться на обычную медлительную переписку, потому-то пигалики, надо полагать, и сократили столь далекий путь, замкнув его на себя.
Очкастый товарищ Буяна еще разбирал поспешные строки Ананьи, когда слуха последнего коснулись звуки бойко взыгравших скрипок, припадочно заколотились барабаны и завыли волынки – это шествовала великая княгиня и великая государыня Золотинка.
Вот с лестницы донесся приглушенный разговор: государыня отсылала вниз свиту и взялась за дверь, собираясь с духом. С другой стороны приник к щели Ананья. Потом на цыпочках отодвинулся он вглубь комнаты, опустился на кровать, после чего все так же тихо поднялся и выглянул в окно, – не видно ли поблизости какой любопытной птицы. И, наконец, удостоверившись в который раз, что лазутчиков и соглядатаев не приметно, перебрался на стул с продавленным ременным сиденьем. Здесь он закинул ногу на ногу, руки сложил на груди, сменив прежнее, ехидное выражение лица на менее естественное для него – величавое.
Узкое личико Ананьи отличалось несоразмерностями: непонятно с какой стати крупные, чувственные губы, раскосые глазки, самой природой назначенные пристраиваться ко всякой щели и замочной скважине, – и в то же время неожиданно грубая шишка на конце носа, которая, напротив, затрудняла проникновение в заманчивые узости и соблазнительные дыры. Все эти несообразности не вызывали доверия у расположенных к простым решениям людей, и потому обладатель несообразной внешности волей-неволей склонялся к ехидству, как единственному качеству, которое объединяло в нечто цельное разносторонние свойства его натуры.
Так что приходится признать, что Ананья изменил себе, когда, сложив на груди руки, принял торжественный и важный вид.
Между тем разряженная в шелк и узорочье Зимка терзалась на лестнице перед захватанной до черноты дверью, не в силах набраться мужества, чтобы войти. Точно так же, как Ананья, она боролась с собой – то есть пыталась придать себе неестественное и нарочитое выражение, неизвестно почему полагая, что обычная живость и жизнерадостность выдадут ее с головой. Тогда как не лишенная самоуважения почтительность, переходящая понемногу в чувствительные слезы, послужит надежной броней против родственных домогательств Поплевы. Все естественное казалось Зимке в ее двусмысленном положении легковесным и потому ненадежным. Надежным могло быть лишь то, что требовало труда и насилия над собой.
Но нельзя было тянуть бесконечно!
Она вошла, ничего не различая вокруг от бьющей в висках крови, и сразу за порогом потерялась настолько, что забыла приготовленное и вымученное чувство. Не воскликнула с милой слабостью в голосе: папа! а зачем-то хлопнула себя по лбу, как рассеянный человек, внезапно обнаруживший, что ошибся дверью.
– Еще! – язвительно заметил Ананья. – Еще раз и по тому же месту! – торжественность слетела с него, как пена.
Еще мгновение – и Зимка расхохоталась. Безобразно расхохоталась, прихлопывая себя по ляжкам и приседая, тыкая в Ананью пальцем.
– Боже, какой дурак! Какой дурак! Ну и дурак! – приговаривала она, задыхаясь от смеха, хотя и не ясно было, в какой связи находится непривлекательная личность, которую она безосновательно упоминала, с собственным Зимкиным весельем.
Ананья встал – вскочил. Бледное лицо его в мутном свете окошка приняло зеленый, нечеловеческий оттенок, губы приоткрылись. Он порывисто шагнул к закатившейся в припадке красавице и огрел ее по щеке.
– Дрянь! – сказал он с таким глубоким убеждением в голосе, что Зимка мгновенно поверила. И запнулась.
Она тронула обожженную щеку, гибкие пальцы ее дрожали… и опустила глаза.
Прекрасные Золотинкины глаза, которыми Зимка пользовалась без зазрения совести.
– Мало? – спросил Ананья, весь дергаясь. – Еще хочешь?.. Знаешь ты, что мы с хозяином пережили за зиму?.. Пока ты тут… – он разве что зубами не заскрипел, чтобы не бросить циничного слова. А, может, и заскрипел, и бросил – Зимка едва ли способна была различать частности.
Где-то на улице под окном сладостно пели, томились и нежились скрипки, сдержанной страстью вторил им приглушенный барабан и время от времени напоминали о радости жизни, весело забегая в сообщество сладострастных товарищей, озорные погремушки.
– Что толку ссориться?! – растерянным голосом молвила великая слованская государыня.
– Именно! – злобно согласился лазутчик.
– Не очень-то осторожно… ты это затеял…
– Именно! – подтвердил лазутчик.
– Я давно искала повод… как бы устроить… встретиться.
– Именно!
– И притом такая неожиданность. Я не могу опомниться…
– Именно.
– И причем тут пигалики?
– Пигалики? Что ты хочешь сказать? – отныне Ананья и Зимка разговаривали между собой только шепотом.
– Посол Республики Буян сказал мне, что Поплева прибыл в столицу и остановился здесь, в «Красавице долины». Или что должен остановиться. Собирается.
– Вот как? – еще больше нахмурился Ананья. – Тебя направили сюда пигалики? Занятно.
Зимка приподняла край одеяла, словно рассчитывала обнаружить там маленьких человечков. Но нашла только грязную простыню, сесть на нее не решилась, вернула одеяло на место и опустилась на кровать, раскинув сиреневое с серебром платье. В этой убогой конуре, где стоял на полу не убранный таз с помоями, была она нестерпимо, вызывающе хороша – прекрасна, словно излучала свет. Озарила грязно побеленные стены блеском глянувшего в разрезах белья, переливами шелка, белизной кожи и сиянием алмазов. И от этого света сам собой загорался тяжелый жар взметнувшихся надо лбом волос.
Что сказать… была она хороша так, что не замечать это мог только Ананья. Он и не замечал.
Казалось, не замечал. Человек с вывернутыми от чувственности губами не в состоянии был ускользнуть от завораживающего сияния красоты и дурманящих запахов свежести, да только заменял восхищение злобой.
Зимка это очень хорошо подмечала. Она понимала все, что относилось к ней лично. Насилуя себя, она попыталась улыбнуться.
– Хозяин хочет тебя видеть, – приглушенным голосом сказал Ананья, смягчаясь от улыбки не больше, чем от жизнерадостного Зимкиного смеха. – Пришло время служить.
– Да! – отвечала она с деревянной гримасой. – Конечно. Но здесь опасно.
– Разумеется, не здесь. – Ананья выглянул за дверь, тихонько ее приоткрыв, и присел обок с Лжезолотинкой на кровать.
Кончиками пальцев государыня брезгливо вытянула из-под его кафтана краешек своего голубого, как небеса, платья.
– Разумеется, не здесь, – повторил обладатель заношенного, потертого на отворотах и швах кафтана. – Охотничий замок Екшень, – сказал он исчезающим шепотом в самое ухо.
– Где это? Кажется, это далеко.
– Зато хозяину близко. Начиная с пятнадцатого травеня ты должна ждать его там каждый день. Придумай, что хочешь. Захочешь – предлог найдешь. И никакой охраны. Самая необходимая челядь: сенные девушки, кучер и два гайдука. Избавься от Юлия, если увяжется. Скажешь, устала от многолюдья.
– Да? – сказала она, обращая к собеседнику деревянную улыбку. – Я подумаю.
Добрая весть об отце государыни Золотинки, которого она обрела наконец в мало кому знакомой до того харчевне «Красавица долины», распространилась среди ближних людей и сделалась достоянием молвы прежде, чем Зимка рассталась с Ананьей. Разговоры эти сильно повредили Поплеве, повторная попытка которого обратить на себя внимание стражи увенчалась успехом.
– Всыпьте ему хорошенько! – велел сухопарый дворянин, из чистого милосердия не углубляясь в разбирательство диких утверждений блажного бородача.
Однако благодушие Поплевы тоже ведь имело пределы. Он засопел столь вызывающе, что лишил начальника стражи всякой возможности покончить дело миром, то есть поставил его перед необходимостью внести полную ясность: всыпать, вломить, врезать – произвести те подсказанные служебным рвением действия, которые не оставляют почвы для сомнений. Приходилось к тому же иметь в виду нездоровое возбуждение запрудивших улицу зевак, успокоить которых можно было только понятной в представителе власти решительностью.
Словом, мордатые стражники в кольчугах и пластинчатых полудоспехах уже пытались придержать Поплеву, который предостерегающе фыркал и толкался локтями, когда поспешным шагом, полубегом врезалась в толпу шумная ватага скоморохов со всеми их сопелками и погремушками. Они ужасно торопились, гордые ощущением собственной важности, и галдели, что великая государыня и государев тесть Поплева ждать не будут.
– Да вот он и сам! – вскричал Лепель, обнаружив недавнего своего попутчика в гуще стражников. – Мы привезли его с собой в обозе. На случай, если другого не будет.
– Так это ваш? – сказал старший дворянин с облегчением. Сердитые выкрики Поплевы все же поколебали его, сообразив последствия чудовищной ошибки, если таковая – упаси, боже! – случилась, он не решался дать знак к расправе.
Заколебался и Лепель. Товарищи скомороха, пиликая и пристукивая на ходу, перетекали стражу и пробирались тесным проходом между колесом кареты и стеной: они и в самом деле не могли мешкать, получив на то строжайшие распоряжения. Но не спешка подвигла Лепеля на роковой шаг, а пагубная привычка к зубоскальству. И, можно сказать, потребность. Пристрастие к шутовству, ставшему для Лепеля способом существования, ибо жить значило для него смеяться. И он не удержался от красного словца, хотя и понимал, чувствовал совестью, что бывают такие случаи – пусть не частые, – когда скучная умеренность дороже поразительных цветов красноречия.
– Видите ли, полковник, – начал он, задержавшись для обстоятельного разговора, – в жизни всегда есть место невероятному. Я бы даже сказал: жизнь кажется нам обыденной именно потому, что мы привыкли к совершенной ее невероятности.
– Короче! – оборвал дворянин, странно как-то, нехорошо мотнув головой набок, – словно у него болела шея.
– Короче, – легко согласился Лепель, глянув на уходящих товарищей, – вы видите перед собой человека, – он ткнул в себя пальцем, – который оказал ныне царствующей государыне Золотинке величайшую услугу, которую только один человек может оказать другому. Я уберег ее от тупости обывателей, которые верят в чудо, обращая его тем самым в обыденность, но не верят в обыденность, лишая ее того чудесного, чем она в действительности наполнена. Этот человек, – стукнул он себя кулаком в грудь, – спас государыне жизнь, а теперь идет к ней под окно, чтобы заработать восемнадцать грошей игрой на волынке – неплохая цена, впрочем. Так почему же вот этот человек, – он кивнул на Поплеву, зажатого обалдело внимающими стражниками, – который взрастил и воспитал нашу великую государыню, взлелеял, так сказать, ее на радость слованскому народу, не может стоять сейчас дурак дураком в тисках вцепившихся в него мертвой хваткой умников? Прощайте, полковник, я все сказал.
Еще раз кивнув Поплеве, Лепель удалился, на ходу раздувая волынку.
– Та-ак! – протянул дворянин. И опять повел головой, отер рот и сказал своим: – Так, хлопцы! Снимите с него штаны, и чтобы жарко было!
– Что? – взревел Поплева. Но растерянность уже оставила хлопцев, заслышавших знакомую и понятную речь: навалились враз, скрутили руки и повалили наземь.
Они не отпускали его и здесь, давили остервенелой кучей, вязали руки, путали ноги. А Поплева затих. И стыд, и горе, какое-то нравственное ошеломление лишили его воли; лицо в дорожной грязи, всклокоченная пыльная борода, дикий взгляд – Поплева перестал понимать. Когда стянули с него штаны, чтобы к восторгу глумливой толпы обнажить ягодицы, он только моргал, силясь поднять голову, и водил глазами, не обнаруживая ни малейшего проблеска разума, как равнодушный к издевательствам деревенский дурачок.
Стражники придерживали его, опасаясь буйства, но сопротивление было уже невозможно. Удаливши меч, они приготовили укрепленные медными кольцами и пластинами кожаные ножны.
– Дай я, дай я! – горячился рослый и рукастый детина с необыкновенно маленькой для размашистых плеч головой. После недолгой борьбы с товарищами он овладел орудием и аж передернулся в предвкушении удовольствия.
– Только не очень, – пробормотал тут глядевший со стороны дворянин, – новые сомнения омрачили его и без того унылую душу. Не в силах избавиться от недобрых предчувствий, он опять начинал склоняться к полумерам, совершенно неуместным при любых обстоятельствах – сводилось ли дело к тому, чтобы слегка высечь отъявленного мошенника и самозванца или же чтобы смягчить наказание государеву тестю.
Не очень! Да куда там не очень! При радостных ожиданиях густо толпившихся зевак?
И-ах! – врезал детина. И вломил! И всыпал! С оттяжкой и со вскриком.
Поплева же изумленно вздрагивал.
Развязанный, он поднялся, не замечая толпы, с бесстыдной обстоятельностью подтянул штаны и оделся. Окинув затем взглядом настороженные, глумливые рожи стражников, он сказал:
– Все могу простить, кроме палачества добровольного, – и кивнул ухмыльнувшемуся в ответ детине.
– Просто глупое недоразумение! – сказала государыня, явившись в проеме двери. – Кабатчик дурак, он все напутал. Пойдемте, – резко добавила она.
Оборвалась на забывшемся барабане музыка. И государыня оставила харчевню, не соизволив успокоить сбитую с толку свиту. Только у самой кареты перед крутой подножкой она задержалась взглядом на юном Дивее и одними глазами… велела? Разрешила? Поманила? Он подал государыню руку и замешкал у дверцы, чтобы получить разъяснения.
– Садитесь со мной, Дивей, – сказала Лжезолотинка, недовольная задержкой.
Они остались вдвоем, дрогнули и поплыли по сторонам кривые стены и окна с прильнувшими к ним лицами. Зимка похлопала по подушке, повелевая юноше перебраться с переднего сидения ближе. И он опустился рядом, необычно молчаливый и встревоженный, напряженный и застылый – не в силах уразуметь оказанную ему честь.
– Вы очень меня любите? – спросила она, бросив беглый взгляд на собеседника и, тут же о нем забыв, уставилась перед собой отсутствующим взглядом.
Обычные развязность и красноречие оставили Дивея. Совершенно ясный вопрос поверг его в замешательство, которое можно было бы понять и в оскорбительном для государыни смысле, когда бы она и в самом деле придавала значение ответу. Но она глядела перед собой сузившимися глазами, большой рот сложился жесткой складкой.
– Могу ли я доказать любовь делом? Позволено ли мне будет доказывать? – скованно сказал Дивей.







