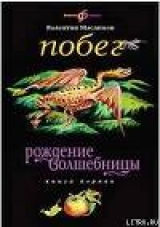
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Он разрыдался. Он позволил себе рыдать – со всей страстью изголодавшегося по искренности человека.
Карета мчалась в ночь среди погруженных в безмолвие полей. Ущербная луна стояла над мглистой холодной землей. Зимка редко выглядывала в окно за бьющую на ветру занавесь; закутавшись в плащ, она смотрела во мрак тряско подрагивающей кареты.
Страх оставался рядом, где-то близко, стоит только тронуть. Зимка боялась взбаламутить страх, догадываясь, что ночная лихорадка чувств оберегает ее от вопросов слишком яркого и слишком ясного утра, которое уже подступает. Она взвинчивала себя, распаляя и торжество, и досаду, и упоение собственной дерзостью – клубок противоречивых переживаний, в которых следовало бы еще разобраться. Губы ее шевелились, и слышались невнятные восклицания.
Пораженная этим клокочущим чувством, где-то под боком в тесном мраке кареты затаилась без звука, без дыхания одна из сенных девушек – Зимка не помнила, кто это, и не видела необходимости напрягать память.
Горячечно перебирая свои намерения и замыслы, кругами возвращаясь на прежнее, Зимка настойчиво убеждала себя, что поступила правильно, можно сказать, безупречно. И она нашла, наконец, слово, которое разом все объясняло, все приводило в порядок, придавая метаниям Зимки законченные и строгие очертания.
– Обмануть всех! – молвила она в темноту и прыснула оборванным смехом. Сразу она вспомнила, что не одна в карете и прислушалась. Она уловила только скрипы и шорохи. И топот. Все подавляющий частый топот копыт, словно обрушенный в никуда, нескончаемый камнепад – стонущий грохот быстро бегущей каменной реки.
Присмотреть утром за девкой, отметила для себя Зимка и вернулась к выстраданной мысли. Обмануть всех! Пигаликов со всеми их договорами и соглашениями. Юлия с этим его юродством. Прыткого Ананью. Самонадеянного Рукосила. Очаровательного Дивея. Всех, сколько их ни есть. Всех провести и ускользнуть. Доказать свою правду. Вот как! Обмануть всех – раз они все друг другу противоречат, – это значит утвердить правду более общую и важную, чем все мелкие частные правды мельтешащихся для своей корысти людей. Вот так!
Зимка вздохнула от подмывающего чувства триумфа. Всех обмануть – значит все распутать. Уничтожить ложь ложью. Обманом покрыть обман, и тогда… И тогда установить новое согласие, новый покой и порядок, выше и важнее прежнего. Подарить любовь тому, кто единственно ее и достоин – Юлию! Ибо нынешняя неопределенность, необходимость лгать, изворачиваться убивает искренность, иссушает душу… И тогда я смогу любить до самозабвения. С гордо поднятой головой. Очиститься через испытания, чтобы любить и торжествовать! Не отступать! Не отступать, только вперед, затаив невидимые миру муки, сомнения свои и страх – вперед!
Зимка чувствовала, что размышления ее не совсем обыкновенные даже… сверхчеловеческие. Что намерения ее сродни подвигу, если не самый подвиг уже. Ей хотелось плакать от умиления. Когда-нибудь Юлий поймет и оценит! Что она сделала для него.
На почтовой станции далеко за полночь, когда карета остановилась для смены лошадей, Зимка заснула.
Внезапный, на ночь глядя, отъезд великой княгини в Екшень действительно обманул всех, то есть спутал замыслы и расчеты Золотинкиных друзей и противников – она ошеломила и тех, и других.
Бурная была ночь и долгая. Оставив мысль гоняться за Золотинкой, Юлий и Поплева сидели до утра, разговаривая о прошлом. В дремучем лесном логове мучался бессонницей Рукосил-Лжевидохин. В бесплодном хороводе его тягостных мыслей оставалась не много места для Зимки-Лжезолотинки. Впадая в безумие болезненных надежд, Рукосил все же не сводил свои далеко идущие расчеты к помощи очутившейся на слованском престоле Зимки, потому что Зимка не могла дать больше того, что имела. А имела она только одно – любовь Юлия. Такую вещь, которую можно использовать только раз – на одно разовое предательство. А это было уж очень мало для потерявшего все чародея. Явно не достало бы для того, чтобы вернуть молодость и могущество. Первые отчеты Ананьи из Толпеня разочаровали Рукосила, и он отставил на время Зимку как заботу не первой срочности. Отправленное же после столкновения в харчевне письмо Ананьи с устаревшими, но утешительными вестями еще не дошло, потому что четыреста верст птичьего лету – это расстояние даже для волшебной почты.
Зато пигалики получили сообщение осведомителя еще до полуночи. Принявший перышко секретарь разбудил сначала Буяна, а потом и остальных послов.
– Но мы не успеваем! – озадаченно проговорил Буян, еще раз перечитавши донесение.
Посол Республики, влиятельный член Совета восьми был в белой ночной рубашке, любовно расшитой цветочками и уточками, и в колпаке. Не лучше выглядели его встревоженные, поднятые с постели товарищи.
И к чести ретиво встрепенувшегося при этой тревоге Млина, он оставил неизбежное «я так и знал!» при себе и не сказал Буяну ни слова упрека. Предчувствие беды, размеров и следствий которой невозможно было пока что предугадать, овладело пигаликами, отодвинув в сторону их внутренние разногласия.
– Не успеем обложить Екшень, – сказал Буян, опуская письмо. – Где отряды? Если считать двух самострельщиков на одного едулопа и один к одному на латников полковника Дивея, потребуется двести самострельщиков, не меньше. Столько у нас будет в Екшене через неделю. Не раньше.
– При том же, мы не получили из Республики ответа на наш запрос и предложения, – тихо отметил Млин.
Буян опустился на смятую кровать. Единственная свеча на табурете возле письма, затененная стеснившимися вокруг рубахами, оставляла большую часть комнаты, стены, обстановку и косой потолок в беспокойной и переменчивой неясности.
– Но что она преследует? – заметил кто-то из темноты.
– Нужно предположить худшее, – живо и даже как будто с удовольствием отозвался Млин. – Золотинка бежит от пигаликов к Рукосилу. Тут и будет играть – на поле между ними. Между нами.
Буян тронул ладонью лоб и судорожно вздохнул.
– И когда ходовой монетой в этой игре станет искрень, – уверенно продолжал Млин, – вот тут-то мы все и взвоем.
Никто не возразил. Никто, однако, из толпившихся у освещенной кровати Буяна пигаликов даже в этот час, когда тень неведомого простерла над ними свое крыло, не произнес вслух той простой мысли, что следовало, может, пойти на попятную, отказаться от преследования Золотинки по двухсот одиннадцатой статье. Отказаться, когда преследование стало уже невозможным и опасным. Не загонять волшебницу в угол. Оставив закон, незыблемость и неотвратимость кары, лишь для беспомощных и безответных. Чудовищное это предложение никто не произнес, однако сомнение смутило честные души пигаликов.
– Сколько у нас под Екшенем? – спросил Буян, окидывая взглядом товарищей. Под этим взглядом они взбодрились.
– Разведчики, посол. Восемь самострелов и пять следопытов.
– Ну что же, делать нечего, займемся почтой. Бумаги придется извести много. – Это подобие шутки встречено было подобающими, в меру смешками.
В дороге Зимка держала Дивея на расстоянии, на людях и без людей с казенной вежливостью. Он не настаивал на большем и сам замкнулся, усталый и мрачный. Всадники не слезали с седел по восемнадцать-двадцать часов, полковнику доставалось не меньше прочих. Нечего было и думать, чтобы найти на каждой станции подставы для отряда в тридцать человек – лошади падали прежде людей. А Золотинка спешила, не оборачиваясь назад, и наконец велела охране двигаться своим чередом, не пытаясь угнаться за государыней. В Екшень она вкатила на третий день в карете восьмериком, но, считай, без свиты – несколько витязей на упряжных лошадях с последней станции.
Великие государи не посещали охотничий замок Екшень почти два года, заброшенная усадьба опустела и задичала. Никто не выбежал навстречу. Гайдуки соскочили с запяток, сбили замок и отворили ворота обширного, как лес, сада. Дороги и дорожки застилала прошлогодняя листва. Зеленая плесень лежала на земле, на валежнике, на толстых стволах вязов.
Затхлым духом веяло из студеных помещений особняка. С перекошенными лицами бегали немногие слуги, скрежетали замки, и понадобился особый человек, чтобы открывать перед государыней забухшие, неповоротливые двери.
Зимка оглядывалась, пораженная убожеством великокняжеского замка. Чего стоила бросившаяся в глаза еще на въезде тростниковая крыша! Зимка велела топить все печи и очаги и, пройдя вереницею смрадных комнат, вышла на задний двор к хозяйственным пристройкам, где жили сторожа и челядь, человек десять в общей сложности. За раскрытой дверью небольшого домика – тоже под тростниковой крышей – испуганная женщина кричала на расплакавшегося ребенка, понуждая его молчать. Всполошенные вопли эти тотчас смолкли, и даже ребенок затих, словно ему зажали рот.
Любопытно было проверить, зажали или нет. Но Зимка не остановилась на этой мысли – она приметила склонившуюся к колодцу старуху, которая вопреки всеобщему переполоху не обращала внимания на государыню. Отерши рот, искоса глянув из-под нависшего над лицом платка, она засеменила прочь, тяжко опираясь на клюку.
– Кто это?
– Нищенка, – не совсем уверенно, не тотчас отвечал дворецкий – багровый мужчина в зипуне с заштопанным локтем. – Не хватает людей. Одна ограда у нас полторы версты.
Зимка глянула старухе вслед и… поежилась. Она вернулась в особняк, отослав под пустячным предлогом слуг, прошла настежь открытыми дверями к северному окну в расчете снова увидеть старуху. И увидела, едва отерла от пыли краешек стекла и припала к нему глазом. Обернувшись лицом к дому, старуха откинула низко опущенный платок и цепко оглядывала слепые окна. Зимка отшатнулась.
Несомненно, то была Рукосилова приспешница Торчила, прежняя Зимкина соратница по сорочьей службе. Вырядившись нищенкой, Торчила выслеживала Золотинку, нимало не подозревая, по видимости, кто скрывается под блестящим обличьем слованской государыни.
Выходит, и Рукосил поблизости.
Зимка обернулась и обнаружила на пороге комнаты Дивея. В грязных белых чулках и в танцевальных, рассчитанных на лощеные паркеты туфлях, тоже когда-то белых, а теперь не только грязных, но еще и мокрых. Жижа хлюпала в разрезах, сквозь которые угадывалась совершенно черная стопа. В червленых полудоспехах с выпущенными наружу мятыми кружевами, увенчанный, наконец, высокой черной шапкой с пером, Дивей устало привалился к косяку и не пошевелился, когда государыня обратила на него взор. В развязной вольности молодого окольничего угадывалась не только усталость, но и нечто большее, нечто похожее на вызов, возможный только в отношениях равных или почти равных. Но Зимка, очень чуткая к такого рода шалостям, не видела надобности замечать то, что нарочно выставлялось напоказ. Да и не до того было. Она поманила Дивея и тотчас приложила палец к губам, указывая на особенную, доверительную природу разговора.
– Пошлите надежного человека, – сказала она шепотом, – назад по дороге. Не поднимая шума, тихонько. Пусть скачет и, как встретит отряд, остановит. Нужно собрать всех вместе, коней спрятать в лесу и тайно провести людей в усадьбу. Чтоб ни одна живая душа не знала. Тут нужна ловкость, понимаете, Дивей? – Он слушал с недоверчивым удивлением. – Людей нужно попрятать по задним комнатам. И следите за местными.
– Но от кого прятаться? – не удержался от вопроса Дивей. Впрочем, совершенно не праздного.
Следовало ли посвятить Дивея в замысел? Может, оно было и нужно, но Зимка боялась связать себя далеко идущими объяснениями и не ответила, ограничиваясь опять частностями.
А полковник сдержал любопытство, справедливо полагая, что тайна продержится не долго. Хмурое лицо его несколько прояснилось: в нелепом и сумасбродном путешествии начал проступать занятный зачин, и… и скучно не будет, усмехнулся про себя Дивей. Немедленно принял он самый озабоченный, строгий вид и, потешаясь в душе, как мальчишка, отправился строить козни.
Торчила же, притворно опираясь на клюку, обошла усадьбу, послушала никчемные разговоры вершников и гайдуков – те и сами ничего не знали, подивилась скудной поклаже и прочим свидетельствам спешки. Постояла над сенной девушкой – тоненьким измученным ребенком без кровинки в лице. Девушке стало в дороге плохо и теперь в роскошном, но холодном шелковом платье она лежала на каменной скамье, всеми брошенная, и часто дышала полуоткрытым ртом. Конюхи, озабоченные спасти запаленных лошадей, не трогали девушку, полагая, что она и сама отойдет. А те немногие женщины из местных, что обитали в усадьбе, с тряпками и метелками в руках орудовали во внутренних покоях особняка, не имея времени даже переговорить между собой.
– Заболеешь – умрешь, – прошептала Торчила, низко склонившись.
Впору было испугаться зловещей тени, но у девушки не было сил и на это.
– Будешь лежать на камне – заболеешь. Заболеешь – умрешь, – настаивала ведьма, всматриваясь, поняла ли девушка.
– Да-да, сейчас, – отозвалась та слабым, прерывающимся голосом, словно и сама не верила, что ее услышат. – Укачало. Так это… ничего.
– Как хочешь! – плюнула Торчила. Разлитая в лице девочки немочь, заострившийся носик… Чего от них ожидать, от нынешних?! – подумала Торчила в сердцах и еще раз плюнула, отправившись восвояси.
Чем дальше удалялась Торчила от усадьбы, тем живее шагала. За оградой она и вовсе бросила палку, а потом углубилась в заросший, не прореженный лес, где начала оглядываться среди бурелома, останавливаться и возвращаться с самым искренним недоумением на широком, полном лице. Казалось, она заблудилась – это в ста шагах от опушки!
Не лишенные загадочности ужимки ее смахивали уже и на колдовство: стала она поворачиваться на месте, показывая пальцем туда и сюда. «Вот пень!», – шептала Торчила и, задержавшись на гнилой развалине, внимательно ее изучала. – «Вот поваленная ель!». И в самом деле, она не только показывала пальцем, но испытывала потребность потрогать валежину с осыпавшейся уже корой, чтобы убедиться в ее осязательной, неподдельной сущности. «Вот сморчок!», – радовалась Торчила, признав съежившийся, притворившийся комом грязи гриб. – «А где же эта дрянь?!» – недоумевала она вслух, разумея при этом не сморчок, а нечто совсем иное. Снова она двинулась кругом крошечной, шагов на двадцать, полянки и с омерзением вздрогнула, запнувшись о толстую, заплесневелую корягу, которую как раз и искала.
Не совсем вроде бы и валежина, но и не замшелая кочка – нечто узловатое, и округлое, и корявое одновременно. Торчила пнула это ногой и молвила заветное слово:
– Рукосил!
Коряга дернулась, пробуждаясь, – так оживает оцепенелая змея – захрустела своими слежавшимися сучьями и поднялась во весь рост, оказавшись рослым мохнатым едулопом. Это был прекрасный образчик породы в два аршина пять вершков ростом, с низким и крепким черепом. Покатый затылок и короткая шея едулопа заросли клочковатой гривой, которая распространялась и на спину. Толстые плечи, протертые до зеленой кожи, лоснились.
Последняя подробность имела объяснение в частом употреблении едулопа в качестве верховой лошади. Выломав веточку калины, Торчила отважно задрала юбку и велела лошади присесть, чтобы взобраться на закорки.
– Но! – вскрикнула она, хлестнув едулопа на морде. – Полным махом! К Рукосилу!
Никакие иные указания не требовались – едулоп чуял хозяина через леса, бездорожья и сразу взял направление. Так что дородная, пышущая здоровьем, но не всегда поворотливая Торчила поневоле должна была выказать качества отважной наездницы. Тяжелый бег нагруженного едулопа не многим уступал конской рыси, и Торчила едва успевала покрикивать:
– Левей забирай, поганец! Куда прешь?! Куда, мерзавец! Гляди!.. Ах ты… образина! Трясешь!.. О-о! Мать моя ро́дная!
Обилие крепких выражений не особенно упрощало дело, Торчила только ахала, пригибаясь под толстым суком дерева, который внезапно выскакивал «в самую харю-то!», по собственному определению Торчилы. Она покрякивала и временами как бы завывала – скорее от телесных тягот, чем от восторга быстрой езды.
Удобства и вправду едулоп представлял весьма посредственные. Заученной хваткой он придерживал всадницу за щиколотки, чтоб не свалилась при тяжелых подскоках через рытвины и колоды, и это заменяло худо-бедно стремена. А за неимением узды Торчила принуждена была накрутить на руку жесткие космы едулопа, что позволяло поворачивать тварь, обращая ее взор на заслуживающие внимание препятствия, да и самой не слишком болтаться на скаку.
Скоро ведьма перестала понимать, где они очутились. Она совсем не знала окрестные леса и пустоши, болотистые луговины и мрачные, едва заросшие гари. Тут уж ничего не оставалось, как довериться мерзавцу. И все же она встревожилась, когда тот вывернул на дорогу – отчетливую, натоптанную тропу, со следами тележных колес и копыт.
«Что за притча?» – недоумевала ведьма, озираясь и даже приподнимаясь на плечах едулопа сколько получалось при ее грузных статях и невозможной тряске. Хозяин строго-настрого заказывал держаться подальше от жилья и дорог. Встревоженная совесть подсказывала Торчиле, что, утешаясь ходкой ездой по мягкому песчаному ложу, она роскошествует за счет хозяевой безопасности. А что себе думал едулоп и вовсе нельзя было постигнуть. Торчила же медлила поворотить, тянула, оправдываясь тем, что должна была прежде понять, прет ли мерзкая образина напрямик или в обход. И если все-таки напрямик, то нужно ли в обход? А если в обход, то какая в этом надобность, и не лучше ли тогда напрямик?
Прошла немалая доля часа, когда измученная сомнениями Торчила увидела в открывшемся за кустами редколесье людей.
То были мальчик и девочка, хотя ведьма и не сразу это сообразила – в торжественном положении на плечах уродины она глядела свысока, все люди представлялись ей маленькими и ничтожными. Так что она не сразу, не в первый же миг уразумела, что растерявшиеся человечки эти не просто малы ростом, но дети восьми-десяти лет. Они были в лаптях, в одинаковых грязно-серых рубашонках, одинаково взлохмаченные, так что девочку можно было угадать только по отсутствию штанишек. Ни лукошка, ничего другого в руках, что могло бы объяснить появление детей в лесу, у них не было. Словно они нарочно стояли, дожидаясь ведьму верхом на едулопе, чтобы умереть на месте от ужаса.
– Постойте вы у меня! – взвизгнула Торчила, ничего еще толком не сообразив, но дети очнулись – обратились в бегство. Не врассыпную, как следовало, а вместе, понеслись, не разбирая дороги.
Торчила рванула едулопа за гриву, выворачивая наперерез, но нагруженная многопудовой ношей верховая тварь бежала не многим быстрее ребят. Дети улепетывали высоким бором, шарахаясь разом туда и сюда, как очумелые, потерявшие остатки соображения зайцы. Сокращая путь, едулоп выигрывал шагов десять, да и не могли малыши без конца бежать – они задыхались. И прянули вбок, вломились в заросли малины, потом в орешник. Торчила взвизгнула: малинник едулоп прорвал, как траву, но в орешнике тонкие ветви посекли ведьме грудь и лицо, она рванула гриву, выворачивая едулопу голову, ударила тварь по глазам и только тогда заставила ее остановиться.
Исцарапанное лицо ведьмы окровенилось, Торчила ошалело оглядывалась. Порядочный клок подола висел на кусте.
В лесу прошуршало и стихло. Дети исчезли, будто обратились в зелень. В легкий шум ветра в верхушках сосен. И потом, когда Торчила немного очухалась, тронула саднящую щеку, – обратились в звонкое пение птиц, все более переливчатое и смелое.
– Пропадите вы пропадом! – выругалась Торчила. Однако что-то испуганное, и жалкое, и гадкое, саднило в душе, повторяя толчки боли в исстеганных плечах и щеке. Торчила знала, что Рукосил не похвалит. Если узнает. Едулоп, тот, конечно же, ничего не скажет без особых расспросов. Да и что он сможет объяснить на своем лающей языке из двух сотен слов? Верно, немного. Однако Торчила боялась лгать.
Когда едулоп снова вывернул на дорогу, она испуганно направила его в лес, в чащу, где он описал петлю и опять взялся за старое. Тут уж ведьма пришла в исступление: выломав ветку, принялась стегать образину по глазам. Едулоп жмурился, закрывал переносицу грязной корявой ладонью и шатался, то и дело спотыкаясь да зашибая всадницу. Пришлось оставить мерзавца в покое, и он тотчас, хныкая и подвывая, выбежал на дорогу.
– Тута! Тута! – мычала тварь, пытаясь показать свои благие намерения.
В самом деле, не миновали еще и версты, как послышались вопли… беспорядочный лай едулопов. Верно, и хозяин был «тута».
Лес расступился, показалась деревушка в три двора за общей оградой. На покрытых зеленями полях среди горелых пней десятка полтора вооруженных дубьем едулопов гонялись за стреноженной лошадью. Там и сям можно было видеть вздутое пузо прежде, видимо, поверженной наземь скотины. Людей как будто не примечалось, но вопли и голошение раздавались изрядные.
Торчила сжалась, ибо не выносила крови. Она торопилась отвернуться, когда едулопы начинали зверствовать. Никакими запретами невозможно было удержать их от людоедства; разве держать под надзором, но не приставишь же к каждому отправленному с поручением едулопу по хозяину! Не трудно было сообразить, что теперь случилось: едулопы, должно быть, задрали в лесу мужика или бабу, и Рукосил вынужден был вмешаться. Чтобы дурные вести, ужасные россказни не распространились по Полесью, пришлось ему распорядиться и остальными обитателями деревушки. Хозяин не мог оставить свидетелей, понимала Торчила.
На заросшем лебедой дворе стояли носилки под навесом. Все двери в низеньких длинных избах раскрыты настежь. А Рукосила Торчила приметила у околицы возле небольшого амбара или хлева, где едулопы суетились особенно деятельно. То было единственное строение с запертыми дверями. Чьи-то лица угадывались в узких волоковых оконцах. Едулопы таскали под стены топливо: обломки жердей, тележное колесо, охапку соломы. У амбара стояли длинные, выше крыши, шесты с рыболовной снастью: зависшая в небе, как комок паутины, сеть на обручах из лозы.
Надрывный вой запертых в хлеве людей вызывал омерзительный озноб, желание заслониться, заткнуть уши. В этом стоне не было ничего человеческого, так мычит перепуганная, сбитая в стадо скотина. И тем сильнее испытывала Торчила потребность вытеснить из сознания тех, кто все равно уж не имел надежды на жизнь, отгородиться – говорением слов, суетой – чем угодно.
– Золотинка в Екшене! При мне приехала! – выпалила она, обозначив поклон хозяину.
Сутулый, с округлой бабьей спиной старик поправил накинутую на плечи шубу, засаленную, с широким облезлым воротником. Узкие, в складке морщин глаза, словно придавленные высоким под просторной лысиной лбом, остановились на ведьме ничего не выражающим взором, который как раз и пугал Торчилу своим непостижимым значением. Ложный Видохин был стар, непоправимо стар, так что временами Торчила избегала и смотреть на хозяина, ужасаясь его безобразной дряхлости.
– Сколько охраны? – спросил Лжевидохин таким пустым, равнодушным голосом, что Торчиле показалось, будто старик, несмотря на разумный с виду вопрос, ничего не понял.
– Совсем никакой, – запоздало отвечала Торчила, отведя взор от оконцев хлева – стенания назначенных к сожжению людей мешали сосредоточиться.
– Ты хорошо смотрела?
– А? Да, – вздрогнула Торчила. – Я упустила в лесу детей. Мальчишка и девчонка. Верно, из этой деревни. Бежали. Все равно они разнесут…
Она имела в виду, что раз уж случилась промашка, то не нужно мужиков жечь. Но не только не произнесла этого вслух, но не посмела и додумать толком.
– Ты хорошо смотрела? – повторил Лжевидохин.
– Обошла весь Екшень, – отвечала Торчила, опять запнувшись на чьем-то истошном вопле. – Что-то она без вещей прикатила, в спешке. Одной каретой. Гайдуки и четверо верховых.
– А хвост? Кто отстал? Обоз отстал?
– Не слышно.
– Одна. В спешке, – пробормотал Лжевидохин, поеживаясь под шубой. – Ананья-то пишет… А в храбрость девчонки не верю… нет. Ты хорошо смотрела? Не ври мне, – спросил он в третий раз. С ворчливой старческой дотошностью выпытывал. – Золотинка ли это? Да так ли? Может, это вовсе не Золотинка?
– О! Да! Она, – удивилась Торчила. – Кто же еще? Грива так и горит. Золото.
– В храбрость девчонки не верю, – упрямо возразил Лжевидохин, начиная сердиться. – Чтобы сама себя наживкой изобразила?.. Расскажите это кому другому. Замор! – повысил он голос. – Останови все!
Замора едулопы захватили еще зимой, они начали его мучить, сломали палец и почти свернули шею, когда Рукосил отнял добычу, подивившись отчаянной, храброй злобе человека. Замор, простой бродяга, душегуб и вор, обратился в пленника или раба, однако очень скоро забрал власть, сделавшись при Рукосиле лицом полезным и даже незаменимым. Как это часто и бывает с рабами. Язвительный молчун, чьи высокомерные замашки нельзя было объяснить никакими известными Торчиле достоинствами, выказывал неутомимое усердие и достойную даже Ананьи преданность. Почему и потеснил Ананью.
Извиняло ослабевшего умом Рукосила только то неоспоримое обстоятельство, что выбирать особенно не приходилось: Торчила, Ананья да Замор – всё!
И на этот раз хозяин обошел вниманием испытанную служанку – оставил захваченную деревню и десяток едулопов для охраны запертых людей на Замора, а Торчиле ничего не приказал. Собравши до полусотни буро-зеленых тварей, Рукосил взгромоздился на носилки и велел держать на Екшень. Четыре дюжих урода ходко помчали возлежащего на подушках чародея, остальные бежали плотно сбившейся стаей; слышался мягкий топот да сиплое дыхание.
«Какое ничтожество!», – думал Рукосил, покачиваясь вместе с поставленным на длинные жерди ложем. Великий волшебник, выдающийся книжник не имеет под рукой человека для поручений. На Торчилу какая надежда? И Замору доверять нельзя. А уж в таком предприятии, где на кон поставлена собственная безопасность… «Э! В какое я впал убожество!»
Мысли чародея были полны горечи, озлобленного самоедства и той слезливой раздражительности, которая уже почти не оставляла его после сокрушительного поражения в Каменце полгода назад. «Какими ничтожными целями и достижениями должен я теперь тешиться, – думал Рукосил. – Оставить с носом нескольких пигаликов, которые играют со мной в прятки, – это успех. А величайшее несчастье – столкновение с заблудившимися в лесу бабами. Из-за чего приходиться жечь деревню. И вот могучий волшебник и книжник ломает голову, как призвать к повиновению свою собственную служанку, которой удружил он в лучшие времена слованским государством и не столь уж дурным хахалем».
– Плевать! – воскликнул Рукосил вслух.
На случай предательства со стороны Зимки он имел при себе быстрое волшебное перышко, предназначенное для того, чтобы вызвать из засады вооруженных дрекольем, топорами и вилами, камнями, наконец, едулопов. Но это ведь было и все, чем располагал теперь один из самых талантливых и удачливых (до несчастья в Каменце!) волшебников современности!
Озлобленное самоуничижение оставалось для Рукосила единственной сладостью, последней опорой вывернутого наизнанку самолюбия. И он слишком хорошо еще помнил прошлое, чтобы находить утешение в рабском испуге полудиких полещуков. Обитатели трех десятков завшивевших деревень жили под властью страха – вот и все достижение. Оно не заменяло Рукосилу общеслованского господства, которое доступно было ему в мечтаниях еще вчера!
– Мразь! Пакость! Ничтожество! – выкрикивал Лжевидохин слабым голосом и постукивал немощным кулаком о закраину носилок. По бокам маячили сосредоточенные в тупом усердии бега зверские рожи едулопов.
Рукосил оставил свою орду в сухом бору рядом с оградой Екшеня. Велел едулопам залечь и замереть, отчего толпа чудовищ провалилась, исчезла по волшебству, обратившись в груды поваленных наземь древовидных конечностей и тел. Впадая в оцепенение, едулопы теснились и лезли друг на друга, сплетаясь, как клубок змей. Два недремлющих урода охраняли это мерзкое кубло, а носилки Рукосил отослал назад в чащу.
Скинув шубу и кафтан, стащив с помощью едулопа сапоги, оборотень остался в белой рубахе да портках крестьянского полотна, и в этом нищем одеянии, прихватив палку, двинулся шаркающим старческим шагом к расположенному не дальше версты замку. Он берег силы и не раз останавливался, пережидая тошнотворные приступы сердцебиения.
Калитка оказалась не заперта, не видно было охраны и за оградой. Прошуршала по земле всполошенная белка, перекликались птицы. Когда Лжевидохин добрел до хозяйственного двора – вымощенной кое-где площадки, – то нашел лишь служанку возле колодца, которая и сказала ему, перехватив ведро:
– Прочь! Прочь! Уходи, дедушка!
– Ась? – Лжевидохин приложил к уху ладонь.
Женщина только махнула рукой да поспешила, расплескивая воду, к замку. Возле конюшни, за углом, можно было видеть задние колеса большой кареты, великокняжеской, очевидно. И никого… Все это выглядело до невозможности странно. И странную порождало надежду, навевая предчувствие неясной, нечаянной удачи.
Однако – совсем некстати – почудился Лжевидохину оборванный гогот. Нечто похожее на всплеск разнузданных кабацких голосов, приглушенный и сразу стихший, как будто оборванный приказом.
Почудилось?
Нарочито понурившись над упертой в грудь палкой, Рукосил постоял, прислушиваясь, не повторится ли смех? И, еще подумав, не соблазнился открытой в особняк дверью (Рукосил отлично помнил расположение внутренних помещений замка), а повернул назад, придерживаясь заросшей плющом стены. Многие окна были раскрыты, но и там ничего особенного не примечалось, сколько Рукосил ни поглядывал. И только за углом уже, у восточной стороны дома, под сенью вековых вязов, он замер с неприятным ознобом в сердце. В зеленом сумраке сада среди редких стволов мелькнули в отдалении латы. Рукосил попятился.
Ратники двигались спорым шагом, гуськом, в направлении особняка. И было их, ясное дело, не четверо, как утверждала безмозглая Торчила, а много больше. Невозможно сказать сколько.
Рукосил почувствовал, что вязнет в каком-то липком страхе. Трусцой, задыхающимся бегом устремился он под прикрытием тени от особняка – к конюшням. Нужно было преодолеть не столь уж широкий двор, чтобы уйти за хозяйственные постройки, где помнилась Рукосилу в зарослях калитка. Прежняя, какой попал он в усадьбу, была отрезана набегавшим с того боку отрядом.
Как во сне, среди сдавившего грудь ужаса все оставалось покойно и тихо – пустынно. Обмирая от слабости, старик остановился, дергающейся рукой пытаясь попасть за отворот рукава, где припрятал волшебное перышко, и пошатнулся так, что ударил плечом о стену. Ноги не держали, сердце зашлось, как разодранное.







