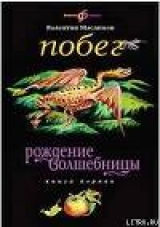
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
– Да, позволено, – отрывисто возразила государыня, не поворачиваясь к собеседнику. И на этом опять о нем забыла, повергнув в еще большее недоумение.
Краска разлилась по нежным щекам Дивея. В повадке обнаружилось нечто деревянное. И при сильном толчке кареты, как деревянный, не умея сохранить равновесие, он неловко привалился к Золотинке, попав губами на открытое плечо. И еще раз ткнулся – в лилейную шею.
Она глянула распахнутыми глазами… но ничего, казалось, не поняла. Хотя последовавшие затем слова противоречили этому впечатлению:
– Если вы так меня любите, – Золотинкиным голосом сказала Зимка, – можете вы убить человека? Для меня.
– Кого? – с облегчением встрепенулся Дивей. В деревянной голове его все шло кругом, он мало что понимал.
– Этого… который в харчевне.
– И только-то?
– Но требуется ловкость, – заговорила она со страстным напором и горячностью, как если бы объяснялась в любви. – Все должно произойти вроде бы случайно, никто не должен и заподозрить…
– Понятно! – воскликнул Дивей и попытался повторить поцелуй, но государыня отстранила вздыхателя локтем.
– Чтобы и тень подозрения не пала на мое имя. Да и на ваше тоже. Наймите людей, возьмите надежных слуг… какая-то пьяная ссора. Не знаю, как это делается. Кувшином по голове, ножом под ребро… в суматохе. И все. Этот человек проходимец. Он оскорбил меня.
– Но это ведь не ваш отец?.. – Вновь возникшая доверительность давала как будто бы право и на такого рода вопрос, но Дивей запнулся, сообразив, что очень уж далеко зашел.
Она нахмурилась:
– Как это в голову пришло! Конечно же, нет. Проходимец и вымогатель. Сделайте, что я сказала, вот и все. – Необходимость вступать в объяснения злила ее.
Посольский особняк на Варварке, где разместились Буян с товарищами, представлял собой небольшой белокаменный дворец о двух этажах, с высокой крышей и остроконечными башенками по углам. Огромные окна, нехоженые пространства покоев и затерянные в вышине потолки – там среди нарисованных облаков отсвечивали толстые ляжки парящих, летящих кувырком прелестниц – изрядно смущали, если не сказать угнетали, привыкших к разумной тесноте пигаликов. Все шесть послов Великой республики и четырнадцать младших сотрудников посольства поселились, в конце концов, на чердаке, где нашли приятную сердцу умеренность. Несуразных очертаний угловатые коморки с прорезанными на скатах крыши окнами, узкие коридоры с часто поставленными дверями, надо полагать, возвращали пигаликов к мысли о выкопанной в горах родине, ее скученном уюте и возделанном очаровании. А взгляд из окна, с непривычной, резко бросающейся в глаза высоты, не позволял забыть об ответственном положении на чужбине.
На чердаке угловой башни, окна которой открывали круговой обзор на посольский двор и крышу, пигалики собрались на совещание. Толстый слой пыли, который укрывал тут позабытый с незапамятных времен хлам, заросшие паутиной стекла – все было исследовано на предмет следов, птичьих ли, крысиных, все равно каких. Осмотр удовлетворил пигаликов, после чего они и начали разговор, поглядывая в окна, по сторонам и вниз, на широкие наружные подоконники, где мог бы пристроиться крылатый оборотень. Сотрудник посольства стоял за дверью, еще один расположился этажом ниже в круглой комнате под чердаком. Не были забыты, разумеется, и дальние подступы к башне.
– Есть у меня предчувствие… – сказал Буян, окидывая взглядом празднично наряженных товарищей, которые с осуждением присматривались к ломаным стульям и ящикам, но все не решались использовать их как сиденья. Пигалики даже ступали здесь, среди развалов, вкрадчиво – неосторожный шаг поднимал тучи пыли, которые роились в косых столбах света. – Такое предчувствие, – повторил Буян, перебирая пальцы, – что выйдет из этого разговора в харчевне нечто весьма занятное, и это пойдет нам на пользу.
– Каким образом, Буян? – резко возразил Млин.
Это был узкоплечий пигалик, с каким-то бабьим, несмотря на большие бакенбарды, лицом; нечто бабье скрывалось, возможно, в сварливом выражении всех его рыхлых, текучих черт. Неприязненные отношения Буяна и Млина, их недоброжелательная манера изъясняться, огорчавшая многих пигаликов, не помешали, однако, назначению последнего товарищем посла.
– Каким образом наличие двух опасностей уравновесит друг друга и принесет нам облегчение? Я что-то не улавливаю, – говорил Млин, похмыкивая. – Мы вовсе не знали бы хлопот, если бы взяли под стражу Золотинку еще в ту пору, когда это не грозило войной со всем слованским государством. Не слишком ли дорого обходятся Республике личные чувства и переживания ответственного члена Совета восьми? – он взглянул на Буяна, недвусмысленно показывая, кому назначается упрек.
Лицо посла омрачилось:
– Да, ты уж не раз ставил на вид, что я привношу в политику слишком много чувства. Верно, так оно и есть.
– Но никто не требует от тебя бесчувственной политики, – возразил Млин с особым, несомненно, излишним нажимом.
– Нельзя требовать невозможного, – тотчас же отвечал Буян. – Признаться, теперь, по прошествии восьми месяцев, – продолжал он затем мягче, как бы извиняясь, что осадил собеседника, – я понимаю меньше того, что, казалось мне, понимал, когда первый раз встретился с Золотинкой. Опасно полагаться на предчувствия и домыслы, и все же до последнего дня я сохранял уверенность, что нынешняя слованская государыня не Золотинка – мы имеем дело с оборотнем.
– Тебя переубедил Сорокон? – спросил Хван, один из молодых послов, получавший, как видно, тайное, но вполне невинное удовольствие всякий раз, когда имел случай, пользуясь своим нынешним служебным положением, обратиться к члену Совета восьми на ты.
– Да, это уже не домыслы и не предчувствия – Сорокон, величайший в свете волшебный камень. Не обойдешь, не объедешь – как лбом об стену. Сейчас вот, на празднике Морских стихий, я ощутил излучение Сорокона уже в двух шагах. Словно давление… самый воздух давит. Озноб по коже. Мурашки. Странно, что не все это замечают. – Выразительное заявление не сопровождалось ни намеком, ни взглядом в сторону Млина, который, однако, заерзал. – Самопроизвольное излучение. Такая мощь!.. Сорокон, разумеется, и есть то орудие, с помощью которого Золотинка запустила искрень. Искрень в руках неуравновешенной красавицы… Жутковато. Мы имеем дело с величайшим волшебным камнем, с величайшей волшебницей и, как это ни прискорбно, с величайшей опасностью, которая когда-либо угрожала пигаликам.
– Это преувеличение, Буян, – не утерпел Млин, усевшись в расстройстве на пыльный, почти черный от грязи ящик.
Буян запнулся.
– Да, пожалуй, что так, – протянул он. – Прими только во внимание, что это общая ошибка мышления, Млин. Нам свойственно преувеличивать значение настоящего в ущерб прошедшему и будущему. Опасность, во всяком случае, очень велика. Чрезвычайно велика. Угрожающе велика. Я правильно выразился?
Млин только крякнул да неопределенно повел рукой.
– И конечно же, нам показали Сорокон не случайно. Такими вещами не красуются и не хвастают. Такими вещами угрожают. Отсюда следует, что Золотинка не выполнит договора. Это раз. И второе: приходится отвергнуть предположение, что мы имеем дело с оборотнем. Рукосил никогда бы не доверил Сорокон своей ставленнице, простой сподручнице – исключено. Воображения не хватает, чтобы представить себе Рукосилова оборотня, который походя, знаете ли, поигрывает Сороконом. С другой стороны, тот, кто владеет Сороконом, огражден от насильственных превращений. И приходится признать, что это Золотинка.
– А если сам Рукосил? – вскинул глаза Тарлан, задумчивый губастый малый с легкомысленными золотыми кудряшками на вытянутой от постоянного умственного усилия головы.
– Не вяжется, – возразил Лысун.
– Не говоря уж о трудностях перемены пола, – заметил Хван.
– Нет никаких сомнений, что Рукосил – это Лжевидохин, – согласился Буян. – Не вижу причин заново поднимать вопрос. Вернемся к «Красавице долины». Мы пока еще не знаем, что там на деле произошло. И все же ясно, что, несмотря на Сорокон, Золотинка в сильнейшей степени зависит от Рукосила. Так это нужно понимать.
– По-моему, это было ясно еще восемь месяцев назад! – заметил как бы сам себе Млин.
– Чего она боится? За себя? За Юлия? Что здесь мимолетная взбалмошность, а что глубинные свойства натуры? Что искренность, а что напускное? Мы многого не знаем. Тогда, при первой встрече, я почувствовал в Золотинке… Теперь я начинаю думать, что ошибался. Чудилась искренность и та душевная щедрость в сочетании с мужеством и силой страсти, которые порождают великих людей. Но ничего этого нет и в помине…
В дверь постучали, и сразу же, не дожидаясь ответа, вошел Вертун, сверкнул против солнца очками и прижмурился.
– Огромная простыня! – весело объявил он, протягивая Буяну исписанный с двух сторон лист. – Только что получили: большое послание Ананьи к Рукосилу.
При общем молчании Буян углубился в чтение, а когда закончил, передал письмо Млину.
– Она едет в охотничий замок Екшень на встречу с Рукосилом, – объявил он среди напряженного ожидания. – Ананья утверждает, прошу прощения, что «привел засранку в чувство». К сожалению, не указывает, каким именно способом. Она дала согласие на съезд в Екшене. Обещала отправиться на следующей неделе. И как всегда обозначена только буквой – «З».
– Следует расстроить встречу, я полагаю, – возбужденно заметил Тарлан, заглядывая через плечо Млина в письмо.
– Напротив. Есть соображение, – возразил Буян. – Сдается мне, нужно способствовать встрече в Екшене всеми возможными способами. Придется поторопиться, однако. Где сейчас разведчики, кто у нас поблизости от Екшеня?.. Вот что, Вертун, – повернулся он, обратившись к ожидавшему у двери очкарику. – Перепишите письмо на подлинное перо Рукосила. Сколько их осталось?
– Одиннадцать.
– И немедленно отошлите. Да! Постойте. И предыдущее, разумеется.
Обстоятельное, с подробностями письмо задержало Ананью допоздна. Отказавшись от мысли покинуть «Красавицу долины» сразу после ухода Зимки, он положил дождаться вечера, чтобы воспользоваться темнотой, если обнаружится слежка. Так что в пору томительного бездействия кстати оказались чернильница, перо и бумага.
Сочинительский труд отвлек Ананью от сомнений, однако, покончив с письмом и пустив в небеса перышко, он ощутил неладное. Он подошел к раскрытому на вздыбленные крыши окну. Над сумрачным провалом улицы блуждали беспутные голоса. Ничего не значащий смех вторил слезливым жалобам, и чей-то надрывный крик сзывал потерявшихся на ночь глядя детей. Неприкаянный час, когда день доживает последние свои минуты. Горькое сиротское чувство нашептывало Ананье беду.
Он выложил на стол несколько серебряных монет, поколебавшись, добавил еще две, а потом бесшумно отворил дверь. В смрадной и теплой темноте различался доносящийся снизу гомон.
За коротким столом у основания лестницы галдели четыре засидевшихся за кувшином вина бездельника. Они составляли не совсем понятное сообщество, по главе которого помалкивал важный господин. В барственной повадке его проступало что-то брезгливое, когда, откинув толстую голову с тонкими усиками, он оглядывал своих случайных товарищей.
То был доверенный человек окольничего Дивея Бибич. Да и прочие принадлежали к кругу зависимых от Дивея людей. Широкоплечий громила с маленькой головой известен был в полку окольничего Дивея под именем Чернобес. Сняв меч и доспехи, он остался в грубом жилете воловьей кожи, единственным украшением которого служил широкий усеянный тусклыми бляхами пояс с подвешенным к нему ножом мясницких размеров – более чем убедительный довод во всякой кабацкой стычке. Двое Чернобесовых однополчан – отличавшийся порочным смехом потаскухи мальчик с падающими на плечи волосами и его разговорчивый напарник с изрытой оспой кирпичной рожей – тоже не полагались, как видно, на изменчивую кабацкую удачу и разоружились лишь частично, оставив при себе мечи. Отчего, впрочем, они не выглядели более воинственно, чем молчаливо налегавший на вино верзила.
Впрочем, если и было что неестественное в этом разномастном содружестве, заметить это мог лишь особенно внимательный или особенно подозрительный человек. Такой, как остановившийся на ступеньках лестницы Ананья.
К несчастью, верные наблюдения не всегда влекут за собой верные выводы и тем более соответственные выводам действия. «Да нет, какие это соглядатаи – почудилось», – неизвестно почему решил вдруг Ананья и вознамерился проскользнуть к выходу.
И вправду – то были не соглядатаи. То были убийцы.
Когда занимавший торец стола детина застиг взглядом кривые ноги Ананьи и глянул выше – непроизвольно отодвинул кружку. Обернулись все четверо. Быстро спускаясь, Ананья вышел из тени, и молодой человек, который сидел лицом к залу, откинув за спину завитые волосы, воскликнул:
– А вот умный человек! Сейчас он нам скажет!
Ананья не поднимал глаз. На пути к воле нужно было обогнуть стол. Последним сидел верзила.
– Да мы тебе говорим! – Чернобес перегородил рукою проход и сграбастал невольно прянувшего вбок лазутчика. – Тебе говорим, слышь?!
Он слышал. И видел. И сердце его упало.
– Простите, не слышал. Без всякой обиды… – молвил он елейно, схватывая мечущимся взглядом непробиваемый кожаный панцирь, весь в шрамах и пятнах, и мясницкий нож на поясе, и чьи-то щербатые зубы в оскале… И опрокинулась под ретивым локтем кружка – хлоп!
Вино хлынуло и растекалось по столу, капало на колени.
– Ну, коли ты не глухой, так выпей с нами! – усмехнулись Вельможные Усики.
– И делу конец! – хохотнул Потасканный Мальчик.
– Поверьте, друзья, с дорогой душой…
– А ты, браток, часом не брезгуешь? – требовательно полюбопытствовала Кирпичная Рожа.
– Ни в коем случае, – жарко отвечал Ананья. – Я вижу вас первый раз. Зачем же мне вас не уважать? – он оглянулся и, когда застывший с полотенцем в руках кабатчик Синюха отвел глаза, понял, что дело швах.
– А ты, значит, кого второй раз видишь, то уж не уважаешь? – хмыкнув, высказали предположение Вельможные Усики.
– С удовольствием… стаканчик вина не помешает. С удовольствием выпью за ваше здоровье, уважаемые господа и друзья.
– Хозяин, еще кувшин! – обронили Вельможные Усики.
С суетливым облечением Синюха ринулся вон. Зашевелились и вернулись к своим кружкам питухи за другим столом, их было немного.
– Да ты, видать, умный человек! – непонятно из каких соображений приветствуя это редкое качество смехом, хохотнул Потасканный Мальчик.
– Своего не упустит! – подтвердил Кирпичная Рожа. – Парень хват!
А тот, с ножом – Мясник – безмолвно припечатал Ананью рукой, так что умный человек завалился на скамью, прежде чем успел сообразить, что в этом и состояло его намерение.
Если после ухода Зимки Ананью задержали чернильница и зуд сочинительства, заставившие его терять время, те немногие доли часа, что отпущены были ему для спасения, то Поплева просто маялся дурью – пусть даже и не своей. Не расчет и не верность долгу, не страсть к чистописанию, а болезненные ощущения в низменных частях тела лишили его предприимчивости. Опозоренный и обескураженный, он, по правде говоря, не чувствовал расположения к немедленной встрече с Золотинкой. Тащился зачем-то вдогон за поездом и с облегчением оставил эту затею, как только убедился, что поздно и все равно заблудился.
И так, промаявшись остаток дня, Поплева вернулся к мысли о «Красавице долины», где следовало искать источник недоразумений, а, может, сверх того, и ночлег. Солнце уже зашло за крыши, когда, миновав шепоты и шорохи полутемного перехода, Поплева отыскал вывеску, изображавшую простертую на каком-то запрокинутом ложе женщину, которая, как видно, пыталась покончить с собой, воткнув себе ниже горла что-то вроде стрелы или короткого копья. Что там случилось на самом деле, что за злой рок преследовал «Красавицу долины», Поплеве было все равно.
– Дай я! Ну, дай я! – взвопил вдруг знакомый голос. Внезапный рев, захлебнувшийся крик, стук опрокинутой скамьи: – Дай я!
Поплева проскочил в дверь: верзила с маленькой головой размахивал кувшином над упавшими на пол людьми – двое питухов подмяли под себя третьего, а верзила расталкивал нападающих. Он искал случай пустить в ход кувшин – в суматохе все отчаянно мешали друг другу.
– Господа! Господа! – голосил кто-то из непричастных – немногие посетители харчевни повскакивали, не понимая, однако, на чей стороне правда.
Поплева же знал ответ. Ему не нужно было ломать голову. Он отгадал ответ в тот самый миг, когда узнал верзилу с маленькой головой – Мясника, – гнусный голос которого живо обращал мысль к обожженным ягодицам. И Поплева выскочил на подмостки:
– На! – выпалил он, когда верзила, раскидав шушеру, взмахнул убийственным своим кувшином: дай мне! – На! – выдохнул Поплева, старый кабацкий боец, и двинул Мясника в висок.
Кулаком этим можно было бы ошеломить быка. Верзила екнул на просевших ногах и в совершенном тумане повернулся, отыскивая противника. А, может, и самый удар отыскивая, – удар звенел в его тесной головке, создавая впечатление отделившейся от материального мира сущности. Во всей полноте изумления верзила протягивал куда-то кувшин.
Так что Поплеве осталось только перенять предусмотрительно поданный сосуд и этим орудием хватить противника по лбу.
Пространство треснуло – и Мясник скользнул в бездну. Закатившиеся глаза его заливало кровавого цвета вино.
Бойцовский опыт, почерпнутый Поплевой по кабакам в допотопную еще – дозолотинкину – пору, позволил ему избежать ответного удара. Он не расслабился ни на мгновение и резво прянул, когда, вскочив, кинулся на него с мечом гривастый юнец. Спасаясь, отчаянным прыжком Поплева перескочил через стол в пустой закуток перед лестницей, а запоздалый меч рубанул оловянное блюдо. Поплева перехватил высоко подскочившую с блюда курицу за ногу и страшным броском запечатал разинутую выкриком пасть – безголовая птица врезала юнцу по зубам. Не в силах переварить такой кусок, он рухнул.
Вольно разметавшиеся кудри обрамляли обращенную в нечто жаренное, с тощей костью посередине рожу.
После двойной победы Поплева получил некоторый выигрыш – сзади ему не могли угрожать, там была лестница, а стол отделял его от немедленного нападения двух новых противников. Один из них, дородный, с вельможными усиками господин, похоже, не рвался в бой, уступая честь кабацкого поединка своему простоватому товарищу, сутулому детине с угреватой в красных прожилках рожей. Этот в поощрении не нуждался – обнажив меч, он скинул перевязь, отбросил ножны, а потом, не сводя глаз с Поплевы, перехватил рукоять двумя руками. Стесненный в движениях поверженными на пол соратниками, отделенный от противника столом, краснорожий притопывал и подрагивал в нетерпении.
Нечего было ждать, когда он возьмет разбег. Поплева подхватил скамью и швырнул, заставив краснорожего отпрянуть, заградившись мечом, что и спасло его. Скамья обрушилась ему под ноги – сухо стукнула в темя ожившего уж было верзилу. Тот силился оторвать от полу мокрую, в потеках красного голову – и тюкнулся ниц. Тогда как отрыгнувший, наконец, курицу юноша судорожно передернулся под упавшей на него скамьей, застонал и заворошился в попытке освободиться от тяжести. Скамья же, мало что тяжелая, отличалась значительной протяженностью, потому лишившийся сил юноша напрасно мыкался отличить длину от ширины; едва приподнимая скамью, он снова ронял ее на себя, не уразумевши, с какой стороны за столь пространный предмет браться.
Но Поплева, вторично упокоив верзилу и задав загадку вертлявому юноше, остался беззащитным перед стиснувшим меч детиной. Попятившись, Поплева уперся спиной в боковину лестницы, и не было надежды ускользнуть в другую сторону, к выходу, – блокируя проход между столами и середину зала, краснорожий легко доставал противника при всякой попытке искать спасения в бегстве.
Случайные посетители харчевни, пять или шесть испуганных горожан, жались к стенам и не выказывали ни малейшего поползновения вмешиваться. Хозяин заведения и присные его теснились у входа на кухню, скрываясь друг за друга. Исход неравного поединка не трудно было предугадать, и потому лица потрясенных зрителей выражали ту крайнюю степень ужаса, какую только способна вызвать чужая беда: если худшее – то скорее!
Внезапно перепрыгнув скамью, краснорожий оттолкнулся от другой и вспрыгнул на стол, а Поплева, заранее готовый, нырнул вниз и под столом остался. Громоздившийся над ним противник вслепую ткнул мечом под столешницу и сразу перекинулся на другой край, да все попадал то в пол, то в доски. И опять соскочил на поваленные скамьи. Все менялось мгновенно – под надсадный сип и хрип, удары клинка о камень и дерево, под топот, лязг сбитой посуды, бессвязные вскрики. Поплева выкатился к загородке под лестницей и, не успев толком подняться, принужден был броситься вновь под стол, когда краснорожий снова на него вспрыгнул.
Он вскочил, взмахнув для равновесия мечом, и дробно переступил на всколыхнувшемся основании. Упершись головой и руками в столешницу снизу, Поплева встал – так резко, что подбросил ходуном заходившего противника и сверг. Матерый детина грохнулся среди града кружек, тарелок и кувшинов, а вслед ему чудовищным толчком Поплева забросил и стол, который опрокинулся, перегородив харчевню. При таком потрясении покатилось всё, что стояло на втором столе, протянувшемся от окна до дверей кухни. Какой-то чернявый человек подхватил кувшин – большой медный сосуд о двух ручках. Распаленный всеобщим непотребством, мирный посетитель харчевни потрясал своим орудием, не зная, как приспособить его к делу.
Вельможные Усики, господин в кружевах и лентах, обнажил, наконец, клинок. Может быть, он имел в виду защищаться, решив, что пришел черед оправдать воинственное значение его колких и острых усиков. Поплева зато как раз успел подхватить застрявший в нагромождении лавок под опрокинутым столом меч. Но тут нечаянный взгляд на входную дверь обратил помыслы Вельможных Усиков в другую сторону. Дивеев человек Бибич кинулся вон из харчевни и, никем не задержанный, обрел свободу.
Тем временем дважды поверженный верзила, отличавшийся младенческой головой Мясник-Чернобес, мычал и ворочался. Не вернув еще ясности взора, потянулся он к оказавшемуся поблизости мечу, а Поплева замешкал, не зная, как обойтись с беспомощным, но уже опасным противником. Верзила поднялся, ударившись спиной о край стола, но не успел выпрямиться, как горожанин с медным кувшином, поджидавший только случая, чтобы найти ему применение, сильнейшим ударом сверху насадил кувшин на голову Мясника – по самое донце. И потом провернул за ручки с хрустом – словно завинчивая!
В гулком сосуде Чернобес окончательно потерял голову. Ослепленный и оглушенный, торопливо толкнул он левой рукой застрявший на черепе кувшин и, убедившись, что одним-двумя движениями это не снять, решил дорого продать жизнь. Как с цепи сорвавшись, принялся он разить направо и налево, ничего не видя, не имея возможности разобрать, что только и служило ему извинением.
Перво-наперво рубанул он ногу опрокинутого стола и снес ее начисто. Стремительный оборот медноголового бойца заставил вскарабкавшихся на скамью зрителей шарахнуться от клинка с воплем. Окруженный разбегающимися голосами, медноголовый метался из стороны в сторону резкими выпадами. Он вышиб мечом окно – под восторженный стон скопившихся на улице зевак. И немало наколол щепы из открытой вовнутрь харчевни двери, в то время как у ног его, обмирая от ужаса, проползал на волю какой-то любитель пива.
– Да будет! Довольно! – кричал Поплева, шарахаясь от неистово сверкающего клинка. – Остепенись!
Но, верно, ослепленный и страхом, и яростью, оглушенный звенящим эхом, трижды уже пострадавший головой, кувшиннорылый столь сложных понятий не разбирал – остепенись! Чудилось его медной чушке нечто вроде: остерегись! При том же и Поплева не выдержал: и раз, и два, не проявив достаточно изворотливости, чтобы уйти из-под удара, отбил слепой клинок, отчего спятивший под кувшином боец ринулся напролом. Поплева бежал от противника, не переставая кричать «остепенись!», в то время как рассыпавшийся по безопасным углам народ не склонен был к милосердию: со всех сторон в медноголового летели объедки и кружки. Ослепленный и оглушенный, верзила работал мечом, как мельница крыльями, но редко случалось ему отразить удар. Происходивший от попаданий в медную его башку звон лишал страдальца возможности правильно оценить собственную долю участия во всеобщем безобразии.
Попирая поверженных, он преследовал взывающий к примирению голос Поплевы, но крушил только перила и балясины, добивал опрокинутый стол и особенно зверским ударом вдребезги расшиб стоявшие на полке бутылки.
Поплева замолчал и нашел убежище на том длинном столе, где приплясывали между посудой зрители, а медноголовый ринулся на громкие проклятия кабатчика. Не попавши, однако, башкой в широко распахнутую кухонную дверь, верзила угораздил в стену и, сокрушенный столкновением, опрокинулся на подрубленную ножку стола. Полулежа, не переставал он отбиваться от наседающих призраков.
– Что за молодец! Аки лев рыкающий! – заметил Поплеве косоглазый сосед, тот самый молодой человек, который малую долю часа назад оснастил верзилу медным кувшином. Отскакивая при особенно неистовых выпадах ничего не разбирающего меча, зрители высились на столе, немного только не доставая до потолка харчевни. – Который убежал, – продолжал отрывистый разговор юноша (временами он смолкал, чтобы кружкой какой или блюдом добавить звону в кувшинной голове Мясника), – то важный господин. Лопни мои глаза, это Бибич, человек окольничего Дивея. Побежал за подмогой. Когда приведет еще десяток таких богатырей… Пора и ноги уносить.
В самом деле, ничего иного не оставалось. Кувшинноголовый безостановочно колотился, не нуждаясь для поддержки своего неестественного возбуждения ни в каком противодействии или в противнике. Порочный Мальчик, порозовев щеками, очухался уже настолько, что почел за благо переползти под стол, ни с кем не вступая в пререкания. Кирпичная Рожа вяло кряхтел в углу. А тощий малый в смуром кафтане, тот самый, что пал жертвой кабацкой потасовки еще до появления Поплевы, шевелился на полу – и прибитый, и придушенный, и затоптанный. Он мычал в потугах что-то осмыслить и шарил вокруг себя.
– Сдается мне, тут нечисто, – заметил собеседник Поплевы. – О-о!
Они отшатнулись, потому что Кувшинное Рыло, отличая голос, рубанул наугад и продолжал бы крушить стол, если бы не споткнулся, – падая, он высек из каменного пола искры.
И чудом только не отсек руку тупо копошившемуся рядом малому в смуром кафтане. Поплева спрыгнул, за ногу оттащил того от опасности, в ворохе пыли, сгребая рассыпанную по полу мяту, выволок доходягу на порог и вместе с бросившимся на подмогу косоглазым вынес из харчевни на волю, в расступившуюся толпу. Вдвоем повели они жертву кабацких страстей прочь, отбрехиваясь от расспросов.
Случайный товарищ Поплевы, косоглазый молодой человек, был прежний Поплевин провожатый, которого тот непременно бы признал, когда бы лучше разбирался в лазутчиках да зорче озирался, вступая в город. Теперь уж сама нужда заставляла Поплеву настороженно вертеть головой – да не туда глядел!
Скоро они попали в гнилую щель между домами, но услужливый молодой человек знал выход и не затруднился его показать. Доходяга в смуром кафтане едва волочился, голову обронил на грудь и никакими признаками осмысленности своих спасителей не баловал. Наконец они остановились, безмолвно вопрошая друг друга: что дальше?
Сползающие по склонам оврага улочки превращались здесь в сплошные лестницы, которые петляли в нагромождениях беспорядочных пристроек под грубыми сланцевыми крышами. Негде было тут задержаться глазу, чтобы выделить хоть одно вполне законченное строение, которое не служило бы добавлением, приделом к другому и еще более непостижимому сооружению, что и само лепилось в край и торец чего-то. Среди разбросанных без порядка кривых окошек нельзя было встретить и одного ладного, тем более двух похожих! А в довершение картины противоестественно вознесенная на крышу коза пощипывала чахлый кустик, произраставший прямо из бока пристроенной еще выше халупы.
– Куда ж нам его девать, бедолагу? – пробормотал Поплева, немало ошеломленный разнообразием открывшихся перед ним видов.
– Ладно, ребята, я бы уж сам, – заговорил тут слабым голосом доходяга. Поплева нагнулся, пытаясь заглянуть в завешенное упавшими космами лицо.
– Да где ты живешь?
– Лады, ребята, лады! – упорствовал в нежелании понимать несчастный. – Сколько раз зарекался… Нехорошо пить, ребята, не пейте, ребята, не надо…
– Так что, сам дойдешь? – сердито спросил Поплева, слегка обиженный философическими изысканиями спасенного. Ибо из всех видов неблагодарности особенно безнадежна, по видимости, неблагодарность тупая.
– Да уж верно говорят, кто пьян да умен, два угодья в нем, – многозначительно заметил тут Поплевин товарищ, молодой человек с глазами врозь. И начал высвобождаться от лежащей на плече руки. – Прощай, братец. Не моего ума дело, на трезвую голову-то и не сообразишь, отчего эти наладились убивать этого, а этот тех покрывает.
– Да ты про что? – начал уж свирепеть Поплева, которому изрядно надоели недомолвки и экивоки.
– Этот-то, выходит, государев тесть, Поплева, – остановился молодой человек с глазами врозь, каковая особенность позволяла ему глядеть и на того, и на другого сразу, то есть держать двух Поплев за одного. – Кабатчик сказывал. Да что-то не сладилось. Вот люди окольничего Дивея и хотели его прибить.
И, покосив на прощанье глазами, пигаликов лазутчик легко, как это свойственно человеку с чистой совестью, поскакал вниз по ступенькам.
Недоверчивое изумление Поплевы, которое естественно следовало за ускользающим лазутчиком пигаликов, обратилось теперь своим чередом на Рукосилова лазутчика. Но и этот ускользал. Захрипел при осторожной попытке Поплевы его встряхнуть – глаза закатились, на посиневших губах проступила пена.
И Поплева остался ни с чем. Никакой пользы нельзя было извлечь из бездыханного, костлявого и тощего мертвяка, в какого обратился вот только что еще живой лазутчик.
– Да это Ананья! – воскликнул Поплева, повторно его встряхивая. Увы! голова лазутчика безучастно болталась.
Несомненно, это и был Ананья. После памятного столкновения в Колобжеге для Поплевы прошло всего три месяца – там, где весь остальной мир считал годами. И тот день был для него словно вчера: Ананья… крошечный волшебничек Миха Лунь с роковым Асаконом…







