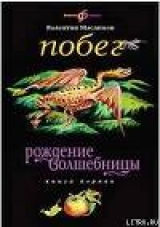
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Настоящего жара Дивей еще не ощущал, прикрывал его надетый под латы кафтан, но предчувствие чего-то чудовищного заставило его обмереть в приступе внезапной тоски. Он попятился под взглядами остолбенелых ратников – нагрудник уже калился светлым, текущим жаром, запахло паленым. Может статься, Дивею пришла мысль о колодце, залить жар водой – он шарахнулся к выходу, наскочив на одного из стеснившихся там людей. От мимолетного столкновения огненная зараза перескочила на железный локоть, которым парень пытался защититься от прокаженного полковника. Багровое пятнышко прыгнуло; толстые щеки парня, зеленые в испепеляющем свете Сорокона, озарились неестественным мертвенным румянцем.
Лжезолотинка дрожала, потеряв голос, утратив волю: она шаталась вместе с чародеем и камнем, который увлекал их обоих к железу. И кто-то пытался еще достать укрытого за государыней чародея, сверкнул мечом, стараясь заскочить сбоку, – судорожным рывком Сорокон развернул их навстречу угрозе и клюнул замедливший в ударе клинок. Кончик лезвия вспыхнул, клинок начал плавится, и меч выпал из безвольной руки, брякнул оземь.
В то же мгновение раздался животный, душераздирающий рев – Дивей горел в раскаленных до красного сияния доспехах, кроваво-черными пальцами он судорожно хватал пряжки, чтобы освободиться от панциря, и отдергивался, обрывая сгоревшую, залипшую на пылающем железе кожу. Человек уж не мог метаться, объятый нестерпимым, умопомрачающим жаром, то был сплошной озноб, дрожь и вопль – обезумевшее страдание. Латники ломанули вон, шарахаясь от прокаженных и сталкиваясь на входе. Там, у солнечного проема, где топтали они упавшего товарища, проскакивали, как искры от кремня, огоньки.
Рев и крики, лязг железа и зловещее шипение при ядовитом блеске зеленого камня – ужас этот невозможно было остановить ни мольбой, ни остервенелой бранью. Зимка шаталась, подаваясь назад, на чародея, сверкающий перед лицом изумруд жег ей глаза. Ноги не держали, а старик наваливался на нее как на опору. Он вскинул цепь вверх, продернув ее через объемистую прическу. Освобожденная, Зимка пала на карачки и поползла по озаренному всполохами сараю – не ко входу, где корчились в дыму латники, а на рассыпанную груду поленьев в не затронутый огнем угол.
Рукосил кричал. Мелко перебирал он ногами, переступая, чтобы удержать Сорокон, как рвущую повод овчарку, и кричал что-то бессвязное. То была восторженная брань, словесный понос торжествующей злобы.
Охваченный жаром и дымом, заживо горел Дивей, он уж лишился голоса, лицо с разинутым ртом чудовищно исказилось, но держался еще на ногах, сотрясаемый мукой. Кто-то бился об пол, пытаясь затушить раскаленный панцирь, кто-то уползал через порог, остальные вырвались и заполнили своими воплями двор. Сарай клубился дымом и гарью, начали заниматься дрова.
Надсадно закашляв, Лжевидохин одолел увлекающий его в сторону, на железо, Сорокон и вырвался, наконец, вместе с дымом на волю. Двор был полон рассыпавшихся врозь людей: ратники, набежавшая отовсюду челядь, кто-то с метлой, женщина в переднике и с блюдом в руках, на котором высилась посуда; потерявшийся от изумления босоногий малыш. Одни метались, судорожно скакали, пытаясь освободиться от железа, и горели заживо. Другие в полнейшем столбняке наблюдали эти ужасы, словно испытывали потребность до мельчайших подробностей уяснить себе положение дел, а уж потом обратиться в бегство. Крошечные золотые шарики искреня, оставляя гарный след, бросались на разбросанные по двору шлемы, мечи, поножи, нагрудники и спинные панцири; иные из них уже плавились и текли, теряя форму.
– Вот он, колдун, вот! Убейте! – появление Лжевидохина в грязных портках и рубахе, с Сороконом в руках встречено было воплем. – Убейте его, что же вы?! – кричала женщина с обеденным подносом, но никто никого не слушал, всё заглушали жуткий рев и стоны заживо горящих людей.
И тогда – словно очнулись – все, кто способен был, обратились в бегство. Женщина бросила загремевший посудой поднос, малыш упал наземь и заревел. Всей толпой они и шарахнулись – прочь от чародея, под сень вязов. Объятые дымом и жаром, человек пять или шесть корчились во дворе.
Дряхлый безумный старец вопил, потрясал Сороконом. Он хрипел, изнемогая в диком торжестве. Он шатался, как пьяный.
Истошные вой и визг держали Зимку в сарае, пока можно было спасаться от дыма на полу. Она отворачивалась, чтобы не видеть обугленных, еще живых людей, но не могла не слышать удушливой вони. Путь к двери преграждал распростертый у порога труп; клочья одежды дымили на нем чадными огоньками, пузырилась изъязвленная плоть, а раскаленное добела железо оплавилось и свернулось огненными клубками. Один из них прыгнул во двор, другой, минуя ничем не примечательную Лжезолотинку, наскочил на ржавый треснутый топор у стены и начал его распалять до огненного совокупления.
Но больше уж нельзя было терпеть, опаленная жаром, Зимка задыхалась и кашляла. Местами горел пол, занимались дрова, потолок терялся в густых клубах. Зимка поползла к порогу, перебралась через обугленное тело, которое под ней дернулось, и вывалилась меж огней на воздух – невозможно было вместить его в легкие.
Она лежала, задыхаясь и не совсем владея головой, совершенно отуманенной; кашель разрывал горло. Потом – сразу или нет – Зимка поднялась на колени и осознала, что происходит вокруг. В безобразной пляске скакал рехнувшийся Лжевидохин, вонючим дымом исходили трупы, несколько разбухших тяжелых искреней пожирали остатки разбросанного по двору железа. Сизый дым струился под притолокой двери, что вела в задние комнаты особняка, и занимался огнем колодец. А дальше за усадьбой катился по лесу шум подступающей бури, набегающий гам и шорох – тот тяжелый, быстро растущий стон, какой приносит грозовой порыв ветра: зачинаясь с далеких окраин, буря быстро перебирает и гнет верхушки деревьев… и вот уже – оглушила обратившегося в слух путника.
– Бейте их! Перебить всех! Загоняйте! – кричал невменяемый Лжевидохин.
За спиной жахнуло, как взорвалось, Зимка резко обернулась: широкий язык пламени прорвался из-под тростниковой крыши сарая. Не задержавшись на этом, Зимка повернула голову к лесу. Оттуда, где поднимались высоченные вязы, сыпанули люди, они неслись во весь дух, самые крепкие впереди. И скоро – порождение мрака! – среди солнечных прогалин замелькали бурые чудовища едулопы, которые гнали людей, как стадо дичи, сокрушая отставших дубинами. Едулопы объявились повсюду, рассредочившись для широкой облавы.
Выпучив глаза, бешено отмахивал сапожищами бородатый малый, влетел на двор, не глянув даже в сторону скачущего колдуна, и дальше понесся без остановки, дальше!
Неведомо как оказавшись на ногах, Лжезолотинка рванула туда же, к конюшням, и с первых шагов поняла, что пропадет. Из распахнутых ворот длинного низкого строения, над которым уже витала гарь, хлынули лошади, выпущенные, как видно, конюхом; следом вылетел в одной рубахе и сам конюх, охлюпкой, на неоседланной, но взнузданной лошади.
– Стой! Куда! Я! – сорванным голосом завопила Лжезолотинка. – Государыня твоя! Стой!
Величественная ее прическа, из которой свисали, распутавшись, драгоценности, задранное на бегу платье, все в золотных прошвах, мелькающие чулки и туфли на каблуках заставили малого засовеститься.
– Садитесь, государыня! – отчаянно крикнул он, натягивая поводья, и протянул руку с намерением втащить государыню на круп лошади себе за спину. Но Зимка не поняла, не захотела понимать и резко рванула парня за руку вниз. Тот не посмел сопротивляться и послушно свалился, несмотря на опасность промедления, несмотря на бегущих уже к конюшне людей, за которыми гнались зелено-бурые, в тине чудовища. Узду он не упустил и присел, подставляя спину подножкой; Лжезолотинка ступила, плюхнулась животом на лошадь и заелозила, задирая платье, чтобы перекинуть ногу по-мужски.
Конюх помог ей, все обошлось, она устроилась в один миг, перехватила узду и ударила каблуками атласных туфелек. Лошадь прянула, оставив парня за собой.
Может быть, он рассчитывал, что государыня хотя бы оглянется.
Да куда там оглядываться! Зимка едва помнила себя от страха. К тому же упряжная лошадь хотя и не шибко неслась, да без стремян, без седла Зимка подскакивала мешком и только одно средство имела, чтобы не свалиться, – сцепить зубы. Она едва правила, заметив сразу, что лошадь сама косит глазом, чует ужасную погоню и прет напролом в чащу леса, где хлещут в лицо ветви, стегают по ногам кусты.
Как бы там ни было, Зимка оставила всех позади и уже натягивала узду. Страх, однако, заставлял оглядываться и понукать лошадь, едва появлялась хоть какая полянка или просека, где можно было перейти на рысь. Надо было подумать, пожалуй, и о большой дороге на Толпень… как вдруг Зимка выехала на глухую каменную стену, которая неприятно ее озадачила. Государыня и не подозревала, что Екшень обнесен стеной вкруговую. Въезжая утром в усадьбу, она вообще не заметила стены и теперь поневоле испугалась, поставленная перед загадкой.
Сложенная из дикого камня, кое-где обваленная по верху – но не настолько все же, чтобы можно было без труда перелезть, – стена терялась в зарослях, сколько доставал взгляд. После недолгих колебаний Зимка взяла вправо и скоро заметила, что гуляющие по лесу шорохи, вой, вопли, рычание оказались теперь сбоку, то есть она не уходит от погони, а блуждает.
Это открытие не прибавило ей выдержки, она опять натянула узду (не подозревая, что в пятидесяти шагах впереди ждет ее открытая калитка), повернула назад и тогда же заметила высоко в небе дым – усадьба горела. По лесу всюду шуршала и ломила нечисть, стонали люди, самый лес стонал. Зимка ударила каблуками, пустившись рысью; в чаще низкорослых деревьев она зажмурилась, что было бы полным самоубийством, если лошадь и сама не разбирала дороги. Оставалось только бросить поводья и вцепиться двумя руками в гриву, чтобы не свалиться на скаку.
Долго она так не выдержала, раскрыла очи и выпрямилась поглядеть дорогу. По правую руку маячила все та же проклятая стена, она сводила с ума своей бессмысленностью, а впереди…
Жестокая сила ударила ее в голову, отбрасывая назад, тогда как ноги взлетели вслед за скользнувшей из-под седалища лошадью.
И Зимка закачалась между землей и небом, невредимая, кажется, но совершенно обомлевшая.
Она висела на сухом дубовом суку, обломанный конец которого, очевидно, пробил голову, хотя Зимка этого как будто не чувствовала. Наконец она уразумела, что сук торчит в волосах, пронзив высокую прическу насквозь чуть выше лба. Заводя глаза вниз, Зимка видела под собой землю – не дотянешься. Убегающий топот копыт замирал.
Нельзя сказать, чтобы это было совсем уж невыносимо – висеть на собственных волосах, но неловко. Зимка подергалась, болтая руками и ногами, – прорвать прическу оказалось невозможно. Переплетенная жемчужными нитями и шелковой тесьмой, она представляла собой прочное, искусно уложенное мастерами целое. Сооруженное третьего или четвертого дня утром, – вон когда! в преддверии праздника рыбаков – это творение толпенского цирюльника Яхонта пережило превратности путешествия и последующие несчастья без большого ущерба. Без такого, во всяком случае, какой следовало бы ожидать, если бы ущерб справедливо соразмерялся со степенью нравственных потрясений, которые постигли слованскую государыню. Прическа оказалась прочнее.
Беспомощно покачиваясь, Лжезолотинка косила глаза в сторону тянувшего над лесом дыма; в зеленых зарослях разносились быстрые, пропадающие шорохи… что-то похожее на удары в тугую перину… и холодящий сердце вопль. Все это перемежалось разнузданным, бесноватым лаем. И кто-то ломился совсем близко. Во весь дух, себя не помня, продирался через кусты здоровенный мордоворот в алом кафтане.
– Помогите! – вполголоса вскрикнула Лжезолотинка, пытаясь повернуть голову больше, чем позволяли насажанные на сук волосы, но от этого только сильнее раскачивалась. – Умоляю! Помогите мне слезть! Я вишу! Я висю…
Но парень лишь блудливо вильнул, выразив свое уважение к государыне каким-то несуразным подскоком на бегу. Рожа красная, глаза дикие – конечно же, он не имел никакой, решительно никакой возможности высказаться подробнее – низкорослый, широкий в плечах, как чемодан, едулоп гнал его вдоль забора. С необыкновенным проворством ухватившись за сук, Лжезолотинка подтянулась рывком и забросила ноги вверх – искривленный сук повышался в сторону ствола. Она попыталась провернуться, чтобы лечь на опору, но это удалось лишь частично, прическа туго ее держала. Ноги Лжезолотинка кое-как устроила, но головой застряла – ни туда, ни сюда – и пребольно выгнула шею. Тяжелая юбка соскользнула на пояс, до самого паха, и провисла, как скомканная занавесь.
Это, увы, и привлекло едулопа. Прогнавши было мимо, он оглянулся и резко, с неправдоподобной внезапностью остановился. Темная губастая морда с безобразными клочьями бороды на подбородке как будто силилась что-то выразить… Едулоп застыл, пристально вглядываясь, широкая лапа его в выпуклых зеленоватых жилах стиснула тяжелую, с корневищем палку.
Шагов с тридцати трудно было разобрать в Лжезолотинке двуногое существо. Продетый на сук соломенно-золотой сноп там, где можно было бы ожидать голову… белые в чулках и коротких штанишках ноги, которые надо было скорее признать за руки, так ловко оплетали они ветвь… и главное – чудесный, живописно провисший, переливчатый, серый с золотом хвост. Он-то и захватил воображение неискушенного едулопа. Чудовище сгорбилось, подавшись вперед, озадаченно почесало поясницу, подвинулось на шажок-другой ближе и опять замерло.
Что ж оставалось Зимке? Изображая собой сонную жар-птицу, ожидать, когда впавший в созерцательный идиотизм едулоп наберется духа пощипать ей перышки! Ничего иного. Она слышала громкое сопение, едулоп тяжело вздыхал и сокрушенно чмокал губами. Но, однако, он приближался и, сколько ни медлил, ступил уж под сень дуба. И вот – опасливо тронул юбку. Легонечко потянул вниз, испытывая Зимку на прочность. Белыми ногами, в кружевных чулках и штанишках она оплела сук, словно вросла в него; и чувствами одеревенела, и телом.
Восхищенный едулоп проявлял себя все более и более разнузданно. Вдоволь подергав юбку, он начал испытывать ее палкой, принялся колотить, наслаждаясь гулким ухающим звуком. Взялся терзать ткань лапами, а потом вцепился зубами и принялся вертеть, обвиснув всей тяжестью. Толстый, но не особенно прочный, быть может, сук ощутимо потрескивал.
Развязка приближалась. Зимка дернула головой, пытаясь ее высвободить, но только глубже насадила прическу. Тогда с томительными предосторожностями, под хрип и урчание едулопа, перенесла руку к затылку и ощупала затейливое творение цирюльника. Это был вплетенный в волосы парик. Прошлым летом Зимка сама же Золотинку и остригла – налысо, с тех пор отросла уж порядочная гривка, но не такая все же, чтобы соответствовать смелым замыслам выдающегося толпенского цирюльника Яхонта. Что он там натворил, Зимка смутно себе представляла, то есть она совсем не понимала частных хитростей ремесла. Не глядя, на ощупь и в догадку, замирая при особенно свирепых рыках – едулоп начинал беситься, – она принялась распутывать и развязывать, а где и просто рвала. Дело пошло живее, чем можно было ожидать, и вот уже Зимка получила возможность вытащить голову из оставшейся на ветви золотой копны.
Занятый яркой тряпкой едулоп не замечал осторожной возни на ветке. Он раздирал юбку, наслаждаясь звуками рвущейся ткани, терзал ее лапами, кусал, плевался и рычал. В любое мгновение ярость эта могла перекинуться и на Зимку. И надо было стеречься, чтобы не свалиться при внезапных, непредсказуемых рывках. Освободив голову, Зимка получила лишь то облегчение, что переползла на верхнюю сторону сука и держалась теперь всем телом, заметно упрочив свое положение. Надолго ли?
Припомнилось ей тут, что серое с золотом платье, которое надела она после праздника рыбаков и не снимала в дороге, состояло из раздельных частей: корсаж с рукавами и юбка. Пользуясь короткими передышками, когда едулоп ослаблял напор, не тянул вниз, Зимка нашла застежки, которые прятались под золотой прошвой спереди. Она расстегнула юбку почти до колен, стянула и вот – одним рывком едулоп опрокинул полотнище на себя, запутавшись с головой. И пока он катался по траве, безрассудно мотая рваную юбку, Лжезолотинка, в тончайших кружевных штанишках и в чулочках с подвязками, перебралась к стволу раскидистого дерева и нашла простертую до ограды ветвь. С самого ее конца она скользнула, поймала ногами полуразрушенный верх ограды – и сиганула на ту сторону, где приняли ее густые заросли бузины.
Раздумывать не приходилось. Выломившись с хрустом на простор, Лжезолотинка помчалась что было мочи по обширному низменному лугу, продолжавшемуся до леса на полверсты и больше. Темный дремучий лес стоял надежен и нем как вожделенное спасение, но на половине пути Зимка напоролась на широкую, затопленную грязью канаву, которая косо рассекала низинку в сторону речки. Зимка оглянулась – и плюхнулась в жижу.
Там, на оставшемся позади заборе, сверкнул золотой клок. Не расставаясь с добычей, едулоп, как видно, забрался на стену или, быть может, вскарабкался на дерево, чтобы обозреть окрестности. Зимка не успела заметить этого наверное, да и вообще не сказала бы в точности, чем занимался едулоп и как сидел. Свалившись в грязь, она поплыла, вернее, поползла, быстро-быстро, как ящерка, работая руками и ногами.
Уже через пятьдесят шагов, каждый из которых пришлось перещупать коленями и локтями, Лжезолотинка устала до изнеможения, сердце зашлось, она задыхалась, отплевываясь тиной. Сорванные с подвязок чулки сползли и напутались на туфли невообразимыми комьями, короткие тончайшего полотна штаны едва держались, отяжеленные пластами тины, и можно было представить, как выглядит остальное, глядя на широкие с оборками рукава, когда-то серебристо-серые и золотые. Лжезолотинка выползла на откос и припала без сил к траве; болезненные удары сердца заставляли ее вздрагивать.
Крепкой молодой женщине понадобился десяток вздохов, чтобы прийти в себя. Она стала прислушиваться, едва поутих в висках шум, ничего не разобрала, и решилась выглянуть. Не долго думая, зачерпнула она перед этим пригоршню тины и шлепнула ее на темя, размазав спереди, сзади и особенно по вискам, где предательски густо сверкало червонное золото волос. Последнее из того, что оставалось еще на Зимке блескучего. Потом с величайшими предосторожностями она приподнялась над краем канавы и долго высматривала забор, где действительно что-то посверкивало… Что-то совсем неподвижное.
То был пробитый дубовым суком парик, догадалась, наконец, Зимка. Витое из золотых нитей, переплетенное жемчугом, унизанное золотыми заколками сооружение радужно сверкало на солнце.
Выше огражденного каменным поясом сада медлительно поднимался в небо исполинский столб дыма. Посередине он лениво и нерешительно переламывался, менял направление, расширяясь, и расползался, принимал очертания грузного, мутного облака. Дымы поменьше занимались и в других местах сада. Мерещились как будто и крики… такие далекие и неясные, что походили на птичий гомон и на лесной шум… Нечто обыденное и почти не страшное.
Лжезолотинка поднялась и пошла пологим откосом канавы, часто оглядываясь, пригибаясь с намерением нырнуть в грязь при первом намеке на опасность. Немного погодя она встретила отводок канавы, который повернул к лесу, но кончился довольно быстро, так что последние сто шагов до опушки она бежала, напрягая силы. Пошатываясь, вошла она, наконец, под спасительный покров леса…
И остолбенела.
Из светлого полумрака, сминая папоротник, возник одетый в зеленое человечек. Заряженный самострел он направил в сторону и, когда уверился, что произвел впечатление, откинул капюшон куколя, чтобы показать лицо, словно наигравшийся в разбойника проказник. Но был это не проказник, а настоящий пигалик, к шуткам нисколько не расположенный, хотя и чрезвычайно зоркий и чуткий, как и все представители его племени – то есть, отличали его преувеличенные глаза и оттопыренные уши.
– Великая государыня и великая княгиня Золотинка? – торжественно спросил он, нечаянно зыркнув вбок, так что выдал взглядом и товарища – точно такого же, в зеленой куртке с карманами, в зеленом наплечнике-куколе с капюшоном, при самостреле и прочем походном снаряжении.
– Ну да… – протянула Лжезолотинка. – А что такое?
Она прекрасно понимала, что такое важное и торжественное начало при встрече с полураздетой, безобразно грязной, не в себе – и без парика! – женщиной ничего хорошего не сулит. Преувеличенная учтивость пигаликов поразила ее хуже воровства. Не трудно было догадаться, что коротышки не замечают жалкого состояния слованской государыни, потому что внутренний взор – и совесть! – застилает им приговор Совета восьми. Ведь, кажется, оставила Зимка этот приговор в Толпене, бросила его на стол Юлию, и вот – обнаружила его перед собой в обличье двух зеленых, как кузнечики, недомерков.
«Ладно, посмотрим!» – сказала про себя Зимка, скрывая слишком отчетливую, словно бы вслух произнесенную мысль чарующей улыбкой, неуместность которой в Зимкином растерзанном состоянии немногим уступала несвоевременной торжественности пигаликов.
– Ну да! – сказала она, все еще отдуваясь. – Государыня. Слованская. Ну да, Золотинка. Княгиня… И такое несчастье. Рукосил сделал этот… знаете, искрень. Горит железо и всё-всё. – Измазанной в тине пястью Лжезолотинка показала достигающий облаков дым. – Всё-всё погибло! Всё! Ужасно! Не знаю, как я спаслась! Буквально я вырвалась… это чудовище едулоп! Чудовище! – Она закрылась ладонью с искренним намерением разрыдаться, несчастная и униженная, горько закусила губу.
Пигалики переглянулись.
– Мы отведем вас в безопасное место, – сказал один из них с лицемерным участием.
– Там не достанут едулопы, – уточнил второй, не особенно, впрочем, распространяясь.
– Ну да, конечно! – кивнула Лжезолотинка, простодушно не замечая ловушки. – Это ужасно! Великий Род, что я пережила! От одной мысли пройти это еще раз, заново… не знаю…
Бросив взгляд на тяжелые дымы пожаров, пигалики повернули в чащу, и Зимка вынуждена была поторапливаться, приноравливаясь к их частому и скорому шагу. По дороге они расспрашивали ее – то один, то другой, как-то вперемежку и словно бы между делом, но настойчиво, последовательно и довольно жестко. И хотя, казалось, не возражали против путаных и противоречивых объяснений, вежливо улыбались, все равно с упрямой, совсем нелюбезной настойчивостью пытались добиться ответа, как же все-таки так случилось, что Рукосил запустил искрень. Как это было? Но Зимка чувствовала, что нельзя признаваться. Нельзя говорить о волшебном камне, который так запросто, бездарно – необъяснимо! – уступила она Лжевидохину. Она безбожно врала и сама уставала от вранья, потому что чем больше путалась, тем больше постигала размеры постигшего ее несчастья.
Не оставляя пленницу, пигалики не забывали осматриваться и следить за дорогой, изредка обменивались между собой двумя-тремя непонятными полусловами. Через малую долю часа они привели ее к ручью, светлой песчаной речонке в зарослях тальника.
– Умыться.
– Да! – обрадовалась возможности замолчать Зимка. – Я хотела… надобно умыться и постираться.
– Мы отойдем. Но, если можно, скорее, здесь опасно.
Они разошлись шагов на двадцать по разным берегам ручья и затихли. Большего, наверное, и нельзя было потребовать, хотя Зимка рассчитывала все же, что один берег очистят ей целиком. Да и так ладно. Вряд ли они будут стрелять, а какие из них бегуны посмотрим. Коротышки не представлялись ей стоящими соперниками, и Зимка решилась.
Она разделась, полусознательно сожалея только, что впечатлительные пигалики не воспользовались простотой военных нравов, чтобы не сводить с нее глаз, а пугливо зыркали по сторонам. Она наскоро выкупалась в ледяной воде, щедро плескаясь и взвизгивая. Потом взялась простирнуть белье, нарочно не скрывая при этом своей наготы, чтобы довести пигаликов до пренебрежения долгом, который предписывал им не отвлекаться на постороннее. Вынужденные присматривать за пленницей хотя бы в полглаза, бедняги с шумом лезли в кусты, пытаясь скрыться от сияющего видения. Но Лжезолотинка достала их и там.
– Дайте мне нож! – сказала она, бесстыдно выпрямившись. Закинула руку за голову, тронув затылок. И, конечно же, нельзя было не расправить плечи, слегка изогнув стан. Нагая, осыпанная сверкающей росой, стояла она в мелкой чистой воде, и вода стекала беглыми струйками по лицу, по впадине меж грудей, по внутренней поверхности бедер…
Ослепленный, жмурясь и спотыкаясь, бедный пигалик подавал кинжал, издалека еще обратив его рукоятью вперед, но забывши в ошеломлении спросить, зачем это смертоносное орудие пленнице.
Кинжал шлепнулся в воду и упал на мелкое дно, возмутив песок. А пигалик не сказал ни слова, оттопыренные уши его горели пламенем.
Что ж, то была расплата за унизительный допрос, которому самонадеянные коротышки подвергли слованскую государыню.
Лжезолотинка развесила отжатое белье на ветках и промыла туфли прежде, чем отламывать каблуки. Бежать она рассчитала, не совсем одевшись и в тот момент, когда сторожа ее будут держаться в приличном отдалении, не смея лишний раз оглянуться, но об обуви следовало позаботиться особо. От этого, может статься, зависел успех предприятия. На счастье, расшатанные беготней каблуки отделились без затруднений, хотя Лжезолотинка и порезалась, слегка вскрикнув. Сердце стучало в предчувствии испытания. В это время разволновались чего-то и пигалики.
– Чихан, пойди-ка сюда! – негромко позвал тот, который давал нож. Что-то он поймал, словно бабочку на лету, и рассматривал. – Письмо.
Бегло глянув на голую женщину, Чихан перескочил ручей; он черпнул сапогом воды, не задержался на этом, а достал на ходу белую костяную пластинку, какой пользуются, чтобы раскрыть почтовое перышко. Пигалики отложили самострелы, Чихан бросил развязанную котомку – засуетились. Заторопилась и Лжезолотинка. Час ее пришел, промедление грозило потерей всякой надежды на успех.
Сколько понадобится пигаликам времени, чтобы раскрыть перышко и углубиться в чтение? Чтобы пробежать глазами три-четыре строки немногословного приказа или известия?
Искоса поглядывая на склонивших головы сторожей, попрыгивая, Лжезолотинка лихорадочно натянула влажные штанишки, оставила порванные чулки без употребления, так же как верх платья, застегнула туфельки и, едва прихватив рубашку, бросилась во весь дух в редкий высокий бор.
Сторожа спохватились сразу же, на мгновение лишь замешкав, но и за этот миг Лжезолотинка проскочила шагов двадцать, далеко оставив их за собой.
Вот вам! Вот вам! Вот вам! – дышала она со злостью и неслась, разметая заросли папоротника, размашисто прыгая через валежник и корни. Оглядываясь, она не всегда примечала отставших коротышек, но появлялись они опять и опять и так свирепо молотили ножками, что, кажется, выбивали из земли пыль.
Лжезолотинка наддала, сколько могла, и скоро начала задыхаться, исчерпав силы. Она изнемогала, а коротышки не уступали, что было и удивительно, и тревожно, потому что Лжезолотинка делала ставку на свои длинные ноги: пигалики не доставали ей до груди. И она неслась налегке, тогда как преследователи не бросили ни самострелов, ни заплечных котомок. К тому же неистово болтались у них на поясах сумки, кошельки, кинжалы, да и сапоги, уж верно, были потяжелее атласных туфелек без каблуков. Чего Зимка не учла – погорячилась! – не надела хотя бы рубашки, если уж некогда было возиться с застежками тесного платья. Кончики веток пребольно хлестали по обнаженным плечам и по груди, приходилась петлять, выбирая лес пореже, а пигалики не боялись ни зарослей, ни колючек.
Так они гнали не одну версту, не меньше получаса, пожалуй. Лжезолотинка уступала, теряя упорство и волю, она уж не закрывала рта в хриплом сбитом дыхании. А за спиной маячили серые, взмокшие лица преследователей, не меньше того измученных, тоже с разинутыми ртами…
Задыхаясь, в крайнем утомлении, Лжезолотинка споткнулась и не пыталась удержаться на ногах – грохнулась. И, приподнявшись, судорожно дышала в землю. А пигалики, шатаясь на подгибающихся ногах, ходили кругами, облитые смертельной бледностью, отдуваясь, хватались за грудь.
– Вставайте! – произнес Чихан, едва сумевши заговорить. – Нужно… походить!.. Вредно… Нельзя… Не лежите!
– Оденьте… рубашку… – с мучительным кашлем простонал второй.
– Простудитесь! – выдохнул Чихан, шатнувшись к Лжезолотинке. Он вынул из-под ее руки скомканную жгутом рубашку и, когда обнаружил, что она влажная, в сосновых иголках, бросил полотно на сук, стащил с себя куколь и накрыл молодую женщину.
– Великая… государыня… Золотинка… – заговорил первый, перемежая каждое слово вздохом, – он продолжал ходить. – Вы обвиняетесь в преступлении, предусмотренном статьей двухсот одиннадцатой частью третьей Уложения о наказаниях. Мы имеем распоряжение взять вас под стражу.
– Чушь! – выдохнула Лжезолотинка таким же сбивчивым голосом. – Я… никуда… не пойду…
– Распоряжение… применить силу.
– Применяйте!
Однако они и после этого ничего не применили, а продолжали ходить, описывая неровные круги и петли, а Лжезолотинка стала на колени, стянув на вздымающуюся грудь накидку пигалика.
– Что письмо? – спросил вдруг Чихан. – Я не понял.
– Да, хорошо бы понять, – с необъяснимой усмешкой отвечал второй. Они остановились за шаг от пленницы, чтобы прочитать сообщение, уже, очевидно, раскрытое… И читали долго, словно в толк не могли взять несколько строчек, которые уместились на малой костяной пластинке.
– Ну? Теперь усек? – спросил Чихана товарищ.
– Ага… Вот так.
– Всё?
– Так, а что?.. Да.
Оба посмотрели на пленницу особым, оценивающим взглядом. Словно примеряли ее на указанный в сообщении начальства образец или… прикидывали назначенную ей участь. Что-то нехорошее было в изучающих, враждебных взглядах.
Они убрали пластинку, стерев перышком запись. И задвигались как-то раскованно, будто все уже для себя решили.
– Наденьте свою рубашку, – вежливо, но сухо сказал Чихан, забирая куколь, причем Лжезолотинка пыталась ее удержать.
Потом Чихан подобрал с земли настороженный самострел, изящное и грозное изобретение пигаликов, поправил в замке стрелу, и Зимка невольно похолодела. Она заторопилась встать, чтобы прикрыться рубашкой, хотя, конечно же, понимала недостаточность защиты. Другой пигалик (она различала их не столько по лицам, сколько по пряжкам на ремнях и покрою куколей) развязал котомку и тощий мешочек, который там нашел, положил на пенек. Зачем?







