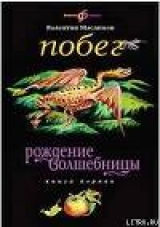
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Но если Зимка держала Нуту, помогая ей не упасть, то некому было облегчить Юлию его трудное положение. Он пытался вести разговор, но запинался взглядом, наткнувшись на Золотинку там, где следовало ожидать Нуту, и тщился возвратиться глазами к жене. Стараясь не видеть никого, кроме Нуты, Юлий и в самом деле мало что видел – он ухитрился не заметить разительных перемен к лучшему, которые произошли в ее внешности. Ни слова не сказал о прическе и ушел, пробормотав напоследок что-то невразумительное. Отуманенные глаза Нуты блестели слезами.
А Зимка уже не выпускала подругу. И когда нежной своей рукой она угадывала учащенное биение крови, нечто бунтарское мерещилось в сильных толчках Нутиного сердечка… тогда целовала государыню в висок, еще лучше в шейку – в самую жилочку.
Единственное, о чем Зимка жалела, – трудно было найти благовидные основания, чтобы держать Нуту в объятиях даже ночью.
Такие основания и, сверх того, необходимость появились, когда весь расползшийся по холму стан с бесчисленным уже обозом пришел в движение: двинулись берегом Белой в столицу. По воде, в лодках, везли женщин, золото и припасы. Тут уж естественно было потесниться. Как только Зимка обнаружила, что супруги ночуют раздельно, залезла к Нуте в постель и там уютно устроилась.
Войско и весь разношерстный сброд тянулись короткими переходами не спеша. Говорили, что наследник писал отцу, великому государю Любомиру, и получил ответ, вполне благожелательный, и что все недоразумения разрешились. В том смысле, вероятно, что великий государь Любомир и наследник Юлий обошли молчанием главную статью разногласий – Милицу. Но она была, Милица, великая мачеха. Разоблаченная ведьма, проклятый принародно оборотень. Она вернулась, воспользовавшись первой же оплошностью престарелого государя, чтобы возвратить себе его дряблое сердце и вместе с ним ложе, престол и власть. И если Любомир умалчивал об этом общеизвестном событии, то потому, вероятно, что испытывал в глубине души нечто вроде смущения. Почтительный сын не смел тревожить отцовскую совесть. Это нужно было понимать так, что он смирился.
Но вооруженные толпы, возраставшие в числе по мере того, как медлительный поход приближался к Толпеню, понимали намерения наследника как-то по-своему. Ничем иным нельзя было объяснить разудалое зубоскальство у костров, оскорбительные для чести Любомира и Милицы запевки и словечки – непонятно с чего возникшее ощущение победы в не бывшей еще битве.
Явственно ощущавшийся в войсках дух отваги замещал порядок. При всякой попытке распределить людей по полкам концы не сходились. Так, ставши у моста через реку, Юлий насчитал в течение часа четыре тысячи вооруженных людей, но во всех пяти наличных полках по отчетам начальников не набиралось и полутора тысяч ратников.
– Остальные миродеры. Бездомные собаки войны – миродеры, – сумрачно заметил Чеглок, наблюдая застеленную пылью дорогу. Там, где прошли войска, далеко за речкой над синей чертой леса поднимался ленивый туман, который походил и на дым.
– Что горит? – спросил Юлий, сдерживая чалого иноходца. Юлий был в легких доспехах без шлема, а спутники его, воевода Чеглок, полковники и полуполковники вовсе не имели на себе лат. Вокруг пестрели легкомысленные кафтаны с весьма уместными при жаре разрезами и шляпы cо свисающими с них перьями. Нигде вообще на дороге не видно было людей в кольчугах и латах – тяжелое железо, а также щиты и копья везли обозом. Из тарабарской военной истории Юлий знал, что такая беспечность – верный признак грядущего поражения. Однако он ничего не сказал полковникам.
– Что горит? – повторил он, присматриваясь к далеким дымам.
– Чему там гореть? – буркнул кто-то из спутников.
И в самом деле, чему там было гореть, кроме двух деревушек на лесных росчистях? Юлий нахмурился, уголки губ подернулись, но настаивать на дальнейшем разбирательстве не стал.
– Как навести порядок? – повернулся он к боярину Чеглоку.
Седой вельможа с обманчивой внешностью простоватого мужика – здоровые щеки, нос картошкой, густые разросшиеся брови, которых никогда не касались щипчики цирюльника – имел готовый ответ:
– Повесить пятьдесят человек, государь.
– Почему ж именно пятьдесят?
– Вряд ли вам будет по силам повесить пятьсот.
Юлий вскинул глаза. Взгляд его выражал укор, которого даже Чеглок, давно огрузневший душой и телом царедворец, не мог не почувствовать. Впрочем, умение читать в сердцах государей всегда входило в число обязательных учебных предметов для придворных, а Чеглок уж был далеко не школьник. Последние дни и недели боярин присматривался к наследнику со все возрастающим удовольствием.
– Государь, – негромко молвил он, оглянувшись так, что полковники сразу же сообразили придержать коней, – государь, – повторил он, когда спутники отстали, – люди пойдут за вами, если поверят, что вы готовы идти до конца. Они ждут, что вы снимите с них груз сомнений, неопределенности, да и совести тоже. Да – совести. Это участь вождя – все принять на себя. Разъяснить народу, что хорошо и что плохо, и принять ответственность за преступления – свои и чужие. Мало сказать двойная ноша – стократная.
– Я понял. А кто снимет с меня мои грехи? Тяжесть преступлений, которую вы хотите на меня навьючить?
– Они и снимут.
– Кто?
– Да они же – толпа. Они простят вам все за успех.
Юлий сдернул светлую шапочку с пером, обмахнул ею испарину с лица и натянул ее снова, еще плотнее, на самый лоб.
– Чеглок! Я не буду воевать с собственным отцом. Ни при каких обстоятельствах.
– Я это уже понял, государь, – вздохнул Чеглок. Они встретились взглядами, юноша и матерый, почти седой мужчина: посмотрели так, словно не было между ними пропасти в тридцать лет. – Только прошу вас, государь, – молвил воевода, еще раз оглянувшись на отставших спутников, – не говорите об этом никому, кроме меня.
Юлий хмыкнул, не удивившись просьбе.
– Боюсь, Чеглок, вы ошиблись, если сделали на меня ставку.
– Поживем – увидим.
Государственные заботы тем временем не занимали княгиню Нуту и ее нежную подругу Золотинку. Занятые собой или, что то же, друг дружкой, они не имели времени отвлекаться и, конечно же, не могли облегчить невысказанных сомнений Юлия. Если случалось им оглянуться на широкий и беспокойный мир, успевали заметить за недосугом лишь самые объемистые предметы.
Вроде большой белой кареты восьмериком, что подкатила к войсковому стану на исходе четвертой недели похода. Карета прибыла из столицы.
Кони стали, проворные гайдуки разложили подножку, и тогда, глянув по сторонам, бледный, как от морской болезни, выбрался на волю из атласного чрева колымаги молодой человек в черном.
Наряд его составлял пышный, с широкими плечами полукафтан черного бархата и черные чулки под самый пах, шею обнимал узенький воротник накрахмаленного полотна. Вместо меча или другого оружия юноша имел для обороны от мирских напастей свисающие из-за пояса четки.
Рудого цвета кораллы на тесьме, увязанной в золотое колесо Рода, составляли единственный предмет роскоши, который позволил себе прибывший. Если не считать, конечно же, похожей на исполинское изделие ювелира резной кареты – предмета слишком громоздкого, чтобы он попадал в поле зрения благочестивого юноши, который редко отрывал взор от земли. Из тех же соображений не следовало, очевидно, принимать во внимание наряженных в желто-зеленый атлас вершников, внушительного кучера, природное величие которого усугублялось высоченным снопом павлиньих перьев на голове. Не шла в счет серебряная сбруя и великолепные жеребцы из великокняжеской конюшни. Словом, бледный молодой человек с припухлыми веками и вялым подбородком, избегая роскоши, не поднимал глаз.
Это был младший брат Юлия, сын великого князя Любомира Святополк. Ступив на твердую землю, он обтер кисти рук друг о друга, – так тщательно и неторопливо, что в этом случайном как будто движении угадывалось нечто от ощущения греховной нечистоплотности. Потом оглядел стоящий на дороге и по обочинам ее в потоптанной пшенице обоз и тогда уже, распознав в толпе брата, направился к нему, улыбаясь тоненькими морщинками.
Люди Юлия и спешившаяся свита Святополка отступили, чтобы не мешать родственному свиданию, а когда гость из столицы вручил брату письмо и тот взломал печать, смолкли последние разговоры. Напрасно, однако, искушенные царедворцы пытались что-либо понять по лицу наследника. Пробежав глазами послание, он безмолвно спрятал бумагу и подвел Святополка к незатейливой повозке, где восседала княгиня Нута и рядом с ней на такой же кожаной подушке волшебница.
Приветствуя Нуту пространными учтивостями, Святополк, однако, не мог удержаться, чтобы раз и другой, словно бы против воли, не глянуть на златовласую ее соседку. И слишком заметно, до неприличия воодушевился, когда получил возможность обратиться к Золотинке непосредственно:
– Сударыня! Толпенский двор гудит, как… как растревоженный улей. Только и говорят, что о чудесном исцелении наследника. Великий государь и великий князь Любомир Третий, напутствуя меня, подчеркнул особо, что считает себя в неоплатном долгу перед той, сударыня, которая сделала… То, что вы сделали для наследника и для всего народа слованского будет записано в летописях нашего государства. Матушка Милица со своей стороны просила засвидетельствовать глубочайшее почтение и восхищение – подлинные ее слова, сударыня! Помяните мое слово, говорила матушка принародно, что слованский народ еще придет в немалое изумление от этого юного дарования… Подлинные ее слова, сударыня, подлинные слова. Матушка Милица, не чинясь, готова уступить вам славу первой волшебницы государства. Так она сказала, и ваш покорный слуга не посмел бы тут ни прибавить, ни убавить.
– Нет, ну это слишком… Зачем? – пролепетала Лжезолотинка, демонстрируя смущение.
Но на самом деле это было не смущение и не застенчивость – озноб. Ледяной озноб и оторопь при виде открывшейся бездны. Словно дернул кто: куда ты лезешь, опомнись, Зимка! Дохнуло неведомым, и Зимка встряхнулась, чтобы вернуть себе ощущение действительности: ясное небо и эти люди с покорно склоненными обнаженными головами.
Неумеренные славословия не производили впечатления только на Нуту. Напротив, потупившись, она впала в задумчивость, почти оцепенение и временами, казалось, ничего не слышала. Несколько оживилась княгиня только в карете, куда они все втроем перебрались, чтобы продолжить путь, – Нута, Золотинка и Святополк. Под скрип колес, балансируя на подрагивающем сиденье, благочестивый юноша развлекал дам дворцовыми новостями, а Нута сводила разговор к семейным делам, пытливо расспрашивая о новых родственниках. Золотинка с притворным равнодушием выскочки присматривалась к убранству кареты: атлас, бархат, лаковое дерево, серебряные застежки. Ничто здесь не напоминало те походные удобства, которые Юлий мог предоставить своим женщинам. Сколок столичного великолепия. Напоминание о тех безмерных утехах, о том предельном наслаждении, которые дают человеку власть, всеобщее поклонение и любовь – никогда уже не прекращающиеся, раз уж он поднялся на головокружительную до истомы в сердце высоту.
– Лебедь… – проникновенно повествовал Святополк, перебирая четки. – Открою вам семейную тайну, сестрица. Между нами…
На губах Нута играла слабая улыбка.
– В юных летах Юлий и Лебедь были необыкновенно привязаны друг к другу. Собственно… что только естественно: брат и сестра. Как оно и следует. Род Вседержитель повелел нам возлюбить ближнего. Они настолько сдружились, что собрались бежать из дому. Так они и сказали на заседании государевой думы. Пойдем, мол, взявшись за руки, скитаться по дорогам, будем питаться милостыней доброго народа нашего.
– Милостыней? – дивилась Нута, не вполне уверенная, что правильно понимает по-словански. Она протянула руку, подражая жесту, каким просят подаяние. – Милостыня?.. Такая ужасная… ужасная…
– Шутка, – подсказал Святополк.
Нута безотчетно кивнула, но вряд ли это было то, что она хотела сказать. Глаза ее увлажнились от щемящего чувства. Быть может, Нута и сама ощутила тут сладостную тягу дороги: вдвоем и вечное небо над головой.
– К счастью, они никуда не пошли, – сказал Святополк с вялой, обозначенной тонкими морщинами улыбкой.
– Почему? – простодушно спросила Нута.
Святополк вскинул глаза в утомленных веках.
– Великий государь не мог допустить, чтобы его дети побирались по дорогам, – помолчав, обстоятельно объяснил он.
В этот день войско прошло немного. Великий князь Любомир указал наследнику остановиться вместе со своими людьми в пятнадцати верстах от столицы. Рубеж обозначила небольшая, но топкая река Аять, левый приток Белой. На обширной поросшей ракитником луговине прибывших дожидался обоз из столицы с вином и съестными припасами, а на той стороне реки глазели из-под руки конные лучники – сторожевой разъезд человек в двадцать. Они охраняли недавно починенный деревянный мост, который соединял низменные берега речушки. Посередине моста высилось примечательное сооружение из свежеструганных досок. Это был балаган для семейной встречи.
Дойдя до середины моста, Юлий к своему удивлению обнаружил под тесовым навесом дубовую решетку, которая наглухо преградила проезд и проход. Устроенная в этой преграде дверь оказалась заперта. Юлий резко отодвинул засов и дернул еще раз – дверь не поддалась.
– Не хлопочи, братец, – молвил Святополк, невольно краснея под пронизывающим взглядом брата. – С той стороны такой же засовчик из кованого железа. С обеих сторон по засову. Что, по-моему, справедливо. И надежно.
– Я, кажется, не давал повода подозревать меня в вероломстве! – бросил Юлий.
Святополк, чье лицо пошло жгучими багровыми пятнами, как это нередко бывает с худосочными людьми, оглянулся и понизил голос до шепота:
– Так, может, тогда они? Отец и Милица. Может, они подозревают в вероломстве сами себя?
Солнце стояло еще высоко, когда на том берегу реки, на петлявшей среди лесистых пригорков дороге, засверкали латы всадников, и вот показались одна за другой тяжелые, запряженные вереницами лошадей колымаги. На знаменах можно было различить цвета великокняжеского дома. Сытый и пьяный по милости великого государя Любомира люд высыпал со всего стана к реке, грянуло раскатистое «ура!» Вверх полетели шапки. Мятежное войско с воодушевлением приветствовало законных государей Любомира и Милицу.
В образовавшейся сутолоке Золотинка потеряла Нуту, и пока оглядывалась она встревожено в разгоряченной толпе, дорогу ей заступил нахальный оборванец со смешливыми искорками во взоре.
– Бедному лицедею на пропитание! Подайте, царевна! – протянул он руку.
По правде говоря, Зимка не нашлась с ответом. Но это как раз и уберегло ее от ошибки, от резкого слова, почти уже сорвавшегося с языка. Потом она сообразила, что именно заставило ее проявить сдержанность: у этих выходцев из чужого прошлого имелась примечательная особенность, по которой их можно было распознать. Обращаясь к волшебнице, босяки, вельможи, медведи, дворецкие заранее почему-то улыбались, словно ожидали от Золотинки сладостей. Вот и этот бродяга, красивый юноша с выразительными темными глазами, разве что не подмигивал.
– Ну, что смотришь?! – молвил он свойски. – Я и есть Лепель! Ну да, Лепель. И сейчас я тебе это в два счета докажу.
– Докажи, – отозвалась Зимка, ухватившись за возможность помолчать и послушать. Склонивши голову, делано нахмурившись, она слушала так, словно пересчитывала и оприходовала пустячные, давно известные ей обстоятельства. Как она болела в палатке у скоморохов, а Лепель (Зимка припомнила, что это было имя скомороха) сидел там-то и насвистывал то-то – бродяга принимался насвистывать. Беспокойно поглядывая на ту сторону реки и на мост, где стояли Юлий, Нута и Святополк, Зимка успела узнать немало любопытного (и весьма полезного для себя) о событиях в Каменце, о Золотинке. Наконец открылось и то, из-за чего беспокоился этот странный парень с многодневной щетиной на щеках: захваченный Рукосилом в Каменце, он попал в темницу, а на его месте потешным царем праздника на свадьбе Нуты и Юлия очутился оборотень – как приманка для Золотинки.
– Короче, – оборвала парня Зимка и оглянулась на дальний берег реки, где великокняжеская стража занимала подходы к мосту.
Удивительно, что старый знакомый Золотинки, не слишком обремененный приличиями шут, потерялся, наткнувшись на резкое слово. Загорелые щеки его потемнели, а веселый блеск глаз, наоборот, потух. Однако, что бы их там ни связывало в прошлом, Лепеля и Золотинку, Зимка не видела надобности сдерживаться – слишком коротких отношений она опасалась. К тому же ее намеренная грубость остановила скомороха как раз вовремя – как только он успел выложить главное.
– Короче, – юноша помрачнел, – в общем… освободили меня пигалики, когда начался потоп. Они хозяйничали по всему замку.
– А Рукосил? Что с ним? – быстро спросила Зимка и отвернулась, не совладав ни с голосом, ни с лицом.
– Пигалики его упустили из-за того, что не могли остановить потоп, – скучающе пожал плечами Лепель. – Как они утверждают, на вершине горы ты раскупорила море. То есть сначала ты пигаликов сожгла, а потом затопила. Так что трудолюбивые жители гор передают тебе привет.
– Но Рукосил? Ложный Видохин, что с ним?
– Ушел.
– Как ушел? Такая развалина, как ему уйти?
Значит, совершивший Зимкино превращение чародей ускользнул от пигаликов и, несмотря на крайнюю свою дряхлость, возможно, жив и по сию пору, – жив и остается, следовательно, хозяином ее, Зимкиной, судьбы, соучастником ее будущего успеха… владельцем этого успеха, которым он сможет распоряжаться, нисколько не сообразуясь с ее самонадеянными мечтаниями. Это известие огорошило ее. Она облизнула губы, по-простецки утерлась ладонью и сказала еще:
– Как ушел? Совсем?
– Нет, частично остался, – грубо отрезал Лепель, но тут же устыдился резкости, потому что тревога Золотинки представлялась ему вполне оправданной. – Леший его знает, как ушел. Пигалики были не настолько словоохотливы, чтобы посвящать меня в подробности. У них и без меня забот хватало. Буян только… Знаешь Буяна? – неожиданно спросил он, и Зимка кивнула (что ей еще оставалось?), – Буян велел передать, что помнит о соглашении, и они делают все возможное. Но пока ничего. Скажи ей, пока ничего, она поймет. Вот были его слова.
– Хорошо, – заторопилась Зимка, опасаясь неудобных вопросов, ибо понятия не имела, о каком соглашении идет речь. – Что ты собираешься делать?
Он глянул искоса, с насмешливым любопытством, но Зимке было не до тонкостей. Она выгребла из кошелька несколько червонцев, которые юноша принял без смущения и даже без благодарности.
– Пойду в столицу, – молвил он, взвешивая в горсти наличность. – Сначала постригусь, потом куплю волынку.
– Как знаешь, – не дослушала Зимка. – Прощай. – И повернулась спиной.
На том берегу реки между спешившимися латниками отсвечивал шитый золотом кафтан государя, различались синее платье и темная накидка государыни. Их не трудно было найти по сутолоке в толпе придворных, теснившихся возле царственной четы. Еще дальше опустевшие кареты, съехав с дороги, поворачивали на обманчивую зелень луга и крепко вязли. Лошади бились в постромках, челядь хваталась за спицы высоких колес, слышался свист бичей, лошадиный храп да чавканье копыт. Примечательно, что мужественная борьба с грязью совершалась без крика и брани в многозначительном молчании надрывающих пуп дворян.
Что и говорить, место родственного свидания государевы советники выбрали не самое лучшее. Уязвимое во всех смыслах. И, верно, Любомир поглядывал по сторонам не без досады, воображая себе лихой налет спрятанной неведомо где конницы, которой ничего не стоило бы опрокинуть в болото застрявшие кареты и потоптать блестящее собрание слованских вельмож и дам. Окруженный плотной толпой приближенных, он мешкал в полуста шагах от поджидавших его на мосту сына и снохи.
Юлий застыл у решетки, ухватившись за перекладину, Нута жалась к мужу, а Святополк перебирал четки. За спиной их образовалась пустота, и Золотинка, миновав охрану, остановилась на полпути: от общей толпы оторвалась и к Шереметам, природным слованским князьям, не решилась присоединиться. Так она и мешкала, кусая губы. Подвинула тяжелый изумруд, который неприятно холодил грудь, взметнула раз-другой волосы… сделала шаг – и не посмела, осталась в одиночестве, наблюдая, как приближаются с той стороны великий князь с княгинею.
– Ну, здравствуй, сынок! – молвил Любомир за три шага до решетки. – Вот, получается, мы с тобой встретились. – Взгляд его опустился на засов, надежно задвинутый и прочный. – Вот, получается, встретились. Хорошо. А то все не получалось, – он развел руками.
Нута, прижавшись к мужу, жадно вглядывалась в новых родственников. Она достаточно много слышала о великой волшебнице Милице, чтобы ожидать чего-то необыкновенного, и все равно уставилась на прекрасную, словно сама юность, женщину со смешанным чувством недоверия и тревоги, к которому примешивалось ощущение собственной ничтожности. Шесть чудесных девушек, наряженных в нежные розовые, голубые, палевые цвета, держали отороченный мехом хвост накидки – великая государыня не боялась окружать себя молодостью и красотой. Милицу невозможно было затмить, самые свежие щечки блекли в соседстве с ее волшебной, можно сказать, неестественной прелестью.
И как же было не обмануться безупречными чертами несколько удлиненного, изящно, мягко обрисованного лица? Как же можно было не обмануться этой краденой красой, краденым – о чем вся страна знала! – обличьем? Нечто унылое в облике Любомира, его голое, словно обваренное, лицо с выбритыми висками и провисшим носом свидетельствовали, что старый государь обманулся и вполне это сознает. Глядел он ехидно и недобро, но как-то безнадежно, не заблуждаясь и насчет себя, очевидно. Словно хотел сказать: да, вот я – старый дурак, но и вы не лучше; хотел бы я посмотреть, как вы перед ней устоите! Он смотрел и таких не видел.
Среди детей, четырех девочек разного возраста, Нута сразу узнала Лебедь, младшую сестру Юлия, славную девушку с немного нечистым от преходящих прыщиков лицом и таким внимательным спокойным взором. Лебедь чудно укладывала волосы, и Нута приглядывалась к ее прическе, стараясь запомнить, – наверное же, сестра знала, что нравится брату! Волосы она заплетала вкруг головы, выпуская по сторонам вольные пряди; и будто сама собой пристроилась возле ушка простенькая зеленая веточка.
Три другие девочки, очень похожие и одинаково одетые, держались настороженно и скромно. Не видно было, чтобы они чувствовали себя избалованными дочерьми великих государей.
Взвинченная до шума в висках, Нута плохо понимала, что говорили друг другу Юлий и Любомир, и с болью замечала только, что разговор выходит какой-то нервозный, отрывистый. А Милица, оставаясь в стороне, смущала ее пытливым взглядом… и вдруг вмешалась в мужскую беседу:
– Да посмотрите вы на нее! – звонко воскликнула великая княгиня, указывая на Нуту. – Что за душка! Любомир, глянь, какая лапушка! Для чего мы сюда приехали? Посмотри!
Мужчины смолкли, недовольные друг другом, равно как и Милицей, но она, своевольная красавица, не унималась.
– Дайте мне невестку поцеловать! Что это за запоры такие? В самом деле! Нута, хочешь сюда, к нам? Хочешь к нам?
– Да, очень хочу! – отозвалась Нута неверным от волнения голоском – так страстно хотелось ей всех примирить. – Да-да! Я хочу вас любить!
Милица добродушно рассмеялась – словно услышала нечто забавное, Любомир кисло улыбнулся, княжеские дочери как будто бы удивились. Один из латников ступил к двери, чтобы отомкнуть засов, и вслед за ним телохранители Любомира, матерые витязи в полудоспехах, настороженно подались вперед.
Нута впорхнула на толпенскую половину моста… И – прежде чем она успела оглянуться, призывая за собой Юлия, – грянул затвор. Железный лязг словно под сердце ударил.
Поспешно запертая дверь напрочь отделила Нуту от мужа… а там, дальше, воспаленная косо падавшими солнечными лучами, чего-то ждала волшебница. Смутное ощущение беды прохватило Нуту, она растеряно озиралась. Но мало что от нее уж теперь зависело.
Расслабленно улыбаясь, государь протянул руки невестке. С каким-то судорожным порывом Нута бросилась на колени и поймала сухую унизанную перстнями пясть. На глазах ее засверкали слезы, она ловила губами пальцы и перстни, а свекор, не столько растроганный и смущенный, сколько обескураженный, бормотал довольно равнодушно:
– Ну будет… будет, получается… Полно, дочурка. Чего уж там. Довольно.
В изнеможении чувств Нута поднялась, едва не шатаясь. Последовали поклоны, приседания, объятия, Нута переходила из рук в руки и крепко ухватилась за Лебедь. Она успела шепнуть сестренке Юлия в ушко «я тебе люблю!», но и это не осталась тайной для окружающих.
– А меня, меня кто любить будет? – дулась государыня, ревниво скривив губки. – Нехорошая! Меня ты будешь любить?
Милица освободилась от накидки, скинув ее на руки девушкам, и опять поймала Нуту в объятия.
– Больше я тебя не выпущу! Дудки! Все, Юлька! – своевольно бросила она глядевшему из-за решетки пасынку. – Увожу твое счастье в Толпень. До завтра. Мы поедем с Нутой в Толпень, хочу, чтобы она меня полюбила. – И Милица прижимала к себе невестку, тиская и пощипывая ее от избытка чувства. – Съем тебя, моя лапушка. Ам!
Нута поняла, что ее увозят, когда очутилась возле кареты. Ее подсадили на подножку, она отчаянно оглянулась, пытаясь различить Юлия в балагане на мосту, но ничего не увидела и осталась наедине со снисходительно улыбающейся государыней. Сидение вздрогнуло, колымага тронулась под ужасающий скрип круто вывернутого передка. Нута ухватилась за стойку и опять сунулась в окно, все еще пытаясь что-то высмотреть.
– Я ревнива, – молвила Милица с игривым недовольством. – Сядь! Я тебя люблю и хочу, чтобы ты меня полюбила. Мы будем друзьями.
Подавленная, несчастная Нута, кажется, не способна была соображать.
– Да понимаешь ты, что я говорю? – спросила государыня, раздражаясь, и хлопнула невестку по запястью, чтобы привести в чувство.
– Да, понимаю, – отозвалась Нута.
– Когда ты успела выучиться по-словански?
– Это язык моего мужа. Я начала учить его давно. На родине, в Мессалонике. Я очень хотела.
Милица хмыкнула, оглядывая маленькую принцессу:
– Хотения одного мало, чтобы держать мужа в руках.
Закусив губу, Нута застыла, все еще держась за стойку. Лошади пошли рысью, и карета ощутимо дергалась на рытвинах.
– Ну-ну! – сухо сказала Милица. – Полно, не убивайся. Что-нибудь да придумаем. Вставим мы этой стерве шпильку. Доверься мне, научу.
Высказав эти важные соображения, Милица откинулась в обитый стеганым бархатом угол. Нута тоже отвернулась. Прошло, однако, немало времени прежде, чем она начала замечать, что за окном: скирды снопов на полях, склоненные спины жней, башни господского замка на холме… и босоногий пастушок с лохматой собакой, которая уставилась на княжескую карету с таким же бессловесным восхищением, как и хозяин. А над пригорками опрокинуто высоченное переложенное горящими облаками небо, немногим отличное своим обожженным цветом от желтеющего жнивья и пожухлых пастбищ.
Прикорнув у окна, где билась и хлопала на ветру занавеска, Нута рада была не двигаться и не говорить. Спутница ее напоминала о себе ледяным шуршанием шелка и скрипучими вздохами, которые вызывали неприятные ощущения на щеках Нуты и меж лопаток. Но и то, что видела мессалонская принцесса за окном, не приносило отдохновения. То было чужая и чуждая земля, и она отторгала Нуту, заморскую принцессу, обманчиво мирная, оставалась враждебной и опасной. Казалось, если бы выпрыгнула Нута из кареты, то и тогда не сумела бы далеко уйти, возвратилась бы назад, не решаясь углубиться внутрь страны даже ради собственного спасения. Не было ей нигде места, ни покоя не было, ни безопасности. Тяжело на сердце, и податься некуда.
Великая княгиня, делившая с Нутой тесное пространство кареты, не напоминала о себе больше ни словом. Неестественное молчание начинало тревожить Нуту, как прежде тяготил разговор. Преодолевая скованность, она оглянулась со смутным ощущением неладного…
И вздрогнула, ухватившись за грудь. Дряхлая ведьма ощерилась ей в лицо: молчи! Сдавленный крик замер на устах Нуты.
Не было больше Милицы! На том самом месте, где оставила Нута, отвернувшись, прекрасную мачеху Юлия, скорчилась безобразная старуха, которая сохранила на себе яркий и легкомысленный наряд государыни. Из-под обложенной светлыми перьями шляпки, где каких-нибудь полчаса назад струились, свиваясь локонами, тяжелые кудри, топорщилось нечто невообразимое – жидкое и всклокоченное, какая-то неопрятная пакля. Обнаженные плечи и грудь ссохлись, так что платье повисло на старухе. Круглое зеркало с ручкой, которое ведьма сжимала костлявой пястью, наводило на дикую мысль, что она затихла, чтобы любоваться собой.
– Зенки-то что вылупила? – прохрипела ведьма незнакомым, севшим, как у запойного пьяницы, голосом, и Нута, словно опомнившись, дернулась выскочить из кареты. Казалось ей, дернулась, тогда как на деле она не способна была пошевелить рукой. – Что смотришь? – сказала старуха тише, когда увидела, что нет надобности добивать и без того онемевшую от страха женщину. – Ты что воображаешь – я сама это над собой совершила? Чародейство. Золотинки твоей чары, вот что. – Переходящее в злобу отчаяние прорывалось в каждом слове.
– Не-е-е… – промычала Нута, сама не соображая, что хочет сказать.
– Стерва эта, паскуда. Подруга твоя – стерва, – продолжала Милица как бы через силу, сквозь зубы, испытывая отвращение от необходимости объясняться. – Изумруд. На груди Золотинки золотая цепь и зеленый камень, видела? Все зло – от него.
– Позвольте мне вернуться! – пролепетала Нута, не слушая.
– Цыц! – вскинулась ведьма, задыхаясь в припадке немощной злобы. – Сидеть! Только пикни.
Молодая женщина онемела, не позволив себе поправить съехавшую набок при толчке шапку.
Старуха с кряхтением нащупала в ногах выдвижной ящичек и достала шкатулку с шитьем. Испуская сиплые вздохи, неверными трясущимися руками она отмотала длинную черную нитку, слишком длинную, чтобы ее можно было употребить для какого-нибудь полезного дела, и завязала петлю-удавку.
– Нагнись-ка сюда цаца, заморыш ты мой заморский, – препакостно просюсюкала старуха.
Уловив общий смысл сказанного, Нута наклонилась, но старуха долго еще моталась рядом с ней на сиденье, не в силах расправить и накинуть петлю на шею спутницы.
– Да этот чурбан прочь! – рассердилась она наконец и сбросила на пол злополучную Нутину шапку, которая вызвала в свое время решительное неодобрение Золотинки. Потом ведьма затянула таки петлю вокруг тоненькой шеи, а коренной конец нитки примотала себе на запястье.







