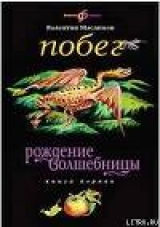
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Лазутчик казался мертв. Совершенно мертв. Насколько может быть мертв знающий свое дело любитель. Нужно заметить, что среди достоинств и умений Ананьи не последнее место занимало искусство обмирать до полной безжизненности. То было одно из немногих развлечений, которыми Ананья разнообразил свою скудную, полную трудов жизнь. Может быть, в настойчивых упражнениях этих проступало нечто большее, чем простое любительство, – неудавшийся колдун, безнадежно не способный к созидательному волшебству человек, выказывал тут свои потаенные притязания. Бездарный волшебник Ананья умел не много, но то, что умел, потрясало. Самоубийственное его искусство ничего не стоило в смысле каких-нибудь положительных последствий, но много ли волшебников более счастливых в творчестве могли похвастать таким талантом самоуничтожения? В этом и черпал Ананья свое достоинство.
Полуприкрытые глаза его глядели бессмысленно, зрачки расширились. Безвольная голова с давно немытой гривой падала, синюшные губы пузырились мыльной слюной.
Беспомощно оглядевшись, Поплева положил тело вдоль каменной ступени и припал к груди – сердце не билось.
Поплева выругался. Прохожие спускались по лестнице и переступали тощие ноги Ананьи, едва глянув. Здесь, на Вражке, удивительное искусство Ананьи не производило большего впечатления. Ни на кого, кроме огорченного до раздраженности Поплевы.
Правда, курившая у открытого окна женщина с опухшим лицом выказала некоторое любопытство. Недолгое, впрочем, – внимание ее отвлек далекий заунывный крик, который слышался где-то там, поверх крыш. Небритый мужчина из глубины комнаты отстранил женщину, попутно отняв у нее трубку, и высунулся слушать.
– Поплеву, кажись, ищут, – молвил он некоторое время спустя не без сомнения.
– Это какого Поплеву? – спросила оттертая от окна женщина.
– Иди, иди! – буркнул мужчина и с треском захлопнул обтянутое драной мешковиной оконце.
Ошалевший от смены впечатлений Поплева, казалось, не твердо помнил и собственное имя. Он глянул на распростертого Ананью, уставившегося ввысь недвижными, побелевшими глазами. Ананья не выказывал жизни, но и мертвее как будто не становился – сколько можно было понять, потряхивая его для испытания, – оставался он все в том же межеумочном состоянии «хоть брось!» До этого, однако, дело еще не дошло. Поплева вдруг подхватил тело под мышки, вскинул на спину и трусцой побежал по лестнице, заторопившись за донесшимися сюда перекатами барабана.
Лестница вильнула налево, потом направо, спутавшись по дороге с совсем уж непотребным переулком. И когда Поплева, отдуваясь от тяжести на плечах, отыскал подходящий перелаз, барабан рассыпался дробью где-то за спиной. Нисколько не помедлив, Поплева повернул назад, туда, где различались бессвязные вопли глашатая, и потерялся в заплутавшем среди теснин эхе.
Намаявшись с мертвым телом Ананьи в тупиках и уводящих не туда улицах, Поплева опознал между крышами семиярусную, сплошь составленную из сквозных окон и арок башню соборной церкви. Он стал держать на примету, не обольщаясь более барабанами и придурочными выкликами глашатаев.
В конце концов он был вознагражден за упорство и выбрался на просторную площадь, посреди которой, окруженный порядочной толпой зевак, завывал государев вестник.
– …И тому доброму человеку, что сообщит нам о судьбе названного отца нашего любезного и досточтимого Поплевы, положена будет щедрая наша награда! – заключил возвышавшийся над толпой дородный мужчина в высокой круглой шапке с пером. Он мало походил на известного Поплеве колобжегского глашатая, превосходя своего городового товарища настолько, насколько столица вообще превосходит по всем признакам прочие города и веси страны. Это был хорошо одетый, представительный господин с окладистой бородой, роскошными усами и необыкновенно зычным, переливчатым голосом – особым, столичным голосом, вероятно.
Презирая любопытство зевак всей своей важной повадкой, (что было даже и удивительно, если принять во внимание, что это были все ж таки как никак столичные зеваки), глашатай принялся скатывать лист, потом небрежно ударил в заброшенный на бедро барабан.
– Я могу сообщить о судьбе досточтимого Поплевы! – запыхавшись от спешки, воскликнул Поплева.
Дородный глашатай без всякого одобрения оглядел всклокоченного самозванца с мертвым телом пьяного человека на закорках.
– Ты можешь сообщить о судьбе названного отца нашего? – уточнил он тем же раскатистым голосом и вернулся взглядом к дохло повисшему головой Ананье.
– Могу! – подтвердил Поплева, полагая более безопасным и надежным выступать в качестве свидетеля и доносчика, чем самого Поплевы.
– Возлюбленного тестя нашего? – спросил глашатай, нисколько не смягчаясь.
– Надо полагать, возлюбленного, – пробормотал Поплева.
– Почтенным ремеслом которого был вольный промысел морской рыбы? – придирчиво продолжал глашатай, не минуя взглядом безжизненного тела Ананьи.
– Он был рыбак, – подтвердил Поплева, испытывая известную неловкость говорить о себе самом в прошедшем времени.
Но глашатай удовлетворился этим, оставив сомнения при себе.
– Тогда пойдем, – сказал он, не особенно примиренный. Внутренние возражения его выдавали брезгливая складка губ и важный поворот головы. А более всего сказывались они в том, что глашатай ни разу не обернулся на спутника, пока не пришли они все к тому же Чаплинову дому, где стояла у подъезда стража, пропустившая и глашатая, и Поплеву, и даже совершенно не уместного во дворце мертвяка.
Тем временем встревоженный донельзя Дивей ожидал государыню, чтобы шепнуть ей два-три слова наедине.
Что? – заглянул он в очередной раз в преддверье библиотеки, где томились две девушки и неизвестный Дивею придворный чин. Сенная девушка Лизавета, на которой остановил он вопрошающий взор, оглянулась на подругу и поднялась к выходу, стараясь не выказывать того удушливого волнения, которое вызывало у нее появление молодого окольничего. Она нашла его в боковой комнате, где Дивей нетерпеливо ощипывал растрескавшийся лист фикуса.
– У государя на коленях, – молвила Лизавета, обратив к юноше свое округлое лицо. И добавила, предупреждая вопрос: – Только что я глядела. Целуются. Я не могу соваться туда каждый час.
Полнолицая красавица с налитыми плечами, Лизавета носила тяжелые свободные платья, открытые на груди и на спине, а голову венчала округлым тюрбаном горячего багряного цвета, особый жар которому придавало золотое шитье.
– Ты должна мне помочь, – сказал Дивей, отворачиваясь. – Я должен видеть государыню тотчас, как только станет возможно.
В ухватках его сказывалась готовность свернуть на свое всякий час и в любом месте разговора.
– Но что случилось? – спросила она низким, теплых оттенков голосом. Дивей не отвечал, пощипывая фикус. А девушка перебирала гриф и деку круглой мандолины, которую прихватила с собой, когда покидала библиотечные сени. – Ты уже не любишь меня? – сказала она с каким-то непостижимым простодушным удивлением.
Дивей раздраженно покосился на мандолину, слабенький звук случайно тренькнувшей струны заставил его передернуть плечами.
– Тогда на празднике в Попелянах… Не знаю, я готова была княгиню убить, – сообщила Лизавета все с тем же, никогда, казалось, не изменявшим ей добродушием.
– Напрасно. В высшей степени неосмотрительно. Это было бы государственное преступление, – возразил Дивей, бросив недобрый взгляд на мандолину.
И еще погодя юноша болезненно вздрогнул, но не от мандолины уже, от поцелуя – от едва слышного, исподтишка прикосновения влажных губ – в шею.
– Я в опасности, – сказал Дивей, помолчав в ожидании нового поцелуя. – В большой беде. Не удивлюсь, если и жизнь моя под угрозой.
Жалобно брякнула мандолина, выскользнув из расслабленных рук.
И почти тотчас тихо приотворилась дверь, впустив круглую голову с острыми усами – это был Бибич, дворянин окольничего Дивея.
– Государь мой! – сказал он зловещим полушепотом. – Этот человек… – последовала жуткая, но невразумительная гримаса, – здесь! И он принес на спине того… А тот… хуже некуда.
Дивей невнятно выругался.
– Глянь государыню, – нетерпимым тоном велел он Лизавете, и бедная девушка не посмела ослушаться. Оставив шептавшихся мужчин, она заторопилась к выходу, но Дивей снова настиг ее на пороге: – Государь не должен знать, что я здесь! – предупредил он таким трагическим голосом, что девушка разве не пошатнулась.
Лизавета готова была на крайность, но не было ни малейшей возможности обменяться с государыней взглядом. Золотинка не слезала с колен, а Юлий отвечал ей блуждающей улыбкой, не замечая, как онемели ноги. На рабочем столе его лежали вразброс бумаги пигаликов.
Лжезолотинка встряхнула головой, обмахнув мужа щекотным потоком золотых волос, и припала на грудь:
– Юлька! Ага! Юлька! Лебедь мне все сказала, теперь уж знаю! Я тоже буду звать тебя Юлька! – и она залилась звонким, самозабвенным хохотом. – Да, решено! Буду звать тебя Юлька! Ю-юлька!
Кое-как справилась она с новым приступом смешливости и принялась терзать волосы мужа, взъерошивая их, как потоптанную траву.
– А Лебедь пусть не зовет! Издам указ, чтобы никто-никто не смел называть тебя Юлькой! Никакие Лебеди, никакие гуси, куры и утки! Нечего! Хватит! Пришло мое время и Юлька мой!
От смеха переходила она к забавной важности, а Юлий, мимолетно поморщившись от усталости в коленях, бережно пересаживал Золотинку и слушал, застыв лицом, словно ему нужно было сдерживаться, чтобы не размякнуть в счастливой и глупой улыбке.
– И велю глашатаям, – чеканила она с вновь прорезавшейся строгостью, – чтобы объявили по площадям, на торгу и на перекрестках, по кабакам, чтобы кликали не по один день. И весь народ чтобы, сколько его ни есть, зарубил себе на носу строго-настрого. Под страхом жесточа-айшего, – протянула она со сладострастием, – жесточайшего наказания! Вот. Пусть все усвоят, что никто не может называть тебя Юлькой. Никто, кроме меня! Никто, чтобы и думать не смел, про себя даже: Юлька! Что в самом деле?! Я запрещаю!
Бумаги пигаликов, однако, не были забыты вовсе, и Юлий под градом упоительных поцелуев косил взглядом на расползающиеся по столу строчки – целые полчища выстроенных в колонны строчек, от которых холодело на душе и замирал смех.
– Ты и вправду дала пигаликам обещание? – спросил он невпопад. Золотинка изменилась в лице… и спустилась с колен.
Она прошлась по комнате, заставленному по самый потолок книгами просторному покою, вернулась к столу и оперлась на разбросанные бумаги, обратив к Юлию ясные, до того ясные, что ничего уже не выражающие глаза. Она молчала.
– Знаешь что… – Юлий осторожно – словно боялся упустить мысль, подвинулся. – Пигалики безжалостный народец. Если уж чего вздумают, то не отступят…
Зимка молчала.
– И вот я думаю, – медлительно продолжал Юлий, – этот упрямый народец не остановится и перед войной… Вот я и думаю, если пигалики поставят нас перед выбором… война или суд… чтобы ты явилась на суд… Давай тогда уйдем.
– Куда? – шевельнула губами Зимка.
– Куда глаза глядят. Я оставлю государство на Лебедь. Она девочка добрая и мудрая. – Он остановился, и хотя Зимка промолчала, возражения ее угадал. – Все лучше, чем война. По тарабарским понятиям война есть самое тяжкое преступление… – сказал он, не пытаясь смягчить свои слова ободряющей улыбкой или притворной легкостью в голосе. – А с Лебедью пигалики воевать не будут. Зачем? Мы бежим с тобой за море. Это будет вторая жизнь, совсем иная. Разве плохо прожить две жизни? Начать все заново…
Вдруг Зимка поняла, что он это уже решил.
Пыталась Зимка возразить, но наспех не могла придумать даже пустого замечания. И что ей помогло, наконец, собраться с духом, так это привычка лгать.
– Ты святой человек, Юлий! – воскликнула она со всем пылом искреннего испуга. – Чудный, чудный, необыкновенный человек!
С неловким смешком Юлий пожал плечами, не особенно как будто польщенный.
– Ты святой человек! – настаивала Зимка, в лихорадочном вдохновении не совсем даже понимая, куда ее несет. – Ты не знаешь людей! Люди гадки! Лесть, лицемерие, неискренность! Эта низость, готовность подольститься… Если бы ты только знал, как я устала от лести… Ах, Юлька, Юлька, если бы ты понимал, чего ты стоишь! Ты необыкновенный! Таких, как ты, нет! Таких просто не существует!
Когда жена упорно называет мужа святым человеком, это верный признак, что она готова ему изменить и, скорее всего, уже изменила. Супружеского опыта Юлию, может быть, и не хватало, но, чтобы почувствовать себя неуютно в таком положении, достаточно ведь простого здравого смысла, который сродни скромности. Он поскучнел, тяжело привалившись на стол.
– Ты сердишься! – заметила Зимка, выказывая больше наблюдательности, чем ума. Остановившись в двух шагах, она подергивала холодный изумруд на груди. – Ты сердишься на меня за Дивея, я знаю! А его и не так надо было наказать! Он гадкий! Двуличный! Он за мною ухаживает.
– Это не преступление, – медленно проговорил Юлий.
– Вот как! А если я скажу, что он меня целовал?
Юлий вскинул глаза, и взгляд этот, долгий и пристальный, заставил Зимку поправиться:
– Пытался поцеловать.
Но он и после этого ничего не сказал. И Зимка уверилась, что уязвила Юлия, вышибив из его головы премудрые рацеи. Он мучался, как любой портняжный подмастерье, обиженный своей девчонкой. Ничего святого там уж, во всяком случае, не наблюдалось.
– Он ко мне пристает, – добавила Зимка расхожее словечко своей богатой событиями юности.
– А если любит? – тихо сказал Юлий.
На это Зимка лишь хмыкнула.
– Можно ведь сделать так, – трудно продолжал Юлий, – чтобы без грубости объяснить и… и… не оскорбляя. Когда человек любит… ему тяжело. Мне кажется, ты должна извиниться перед Дивеем.
– Ты это говоришь? – воскликнула Зимка. – Это ты говоришь? Да ты должен был стереть соперника в порошок!
– Хорошо, – вздохнул Юлий и бессмысленно подвинул по столу бумаги, – тогда извинюсь я.
– Как хочешь, – надменно обронила она, ощущая неприятное сердцебиение.
Но слова уже обесценились, и Зимка отлично это понимала. Она молчала, когда Юлий выглянул в сени и, наткнувшись у входа на Лизавету, сказал ей с пугающей мрачностью:
– Гляньте начальника караула, Лиза. Пусть разыщет окольничего Дивея. Да. Пусть приведет. Сейчас же, – заключил он и хотя заметил особенную бледность девушки, безжизненно ему внимавшей, не нашел сил обеспокоиться еще и этим.
Государь вернулся в библиотеку, а Лизавета, не ответив что-то спросившей у нее подруге, прошла в коридор и здесь ослабела… Прошло, однако, не много времени, когда каким-то припадочным движением она затрясла головой и с лихорадочным блеском в глазах повернула обратно, рванула высокую дверь библиотеки.
– Государь! – воскликнула она с порога. – Государь, я жду ребенка!
Лжезолотинка кинула быстрый взгляд на Юлия – вопросительный.
– Чего же лучше, – пробормотал тот.
– Мы назначены друг другу судьбой! – Лизавета сделала несколько шагов и опустилась на колени. – Простите его ради нашей любви, государь!
– Прощаю, – невольно улыбнулся Юлий. – Кого?
– Он и сейчас у меня, я укрыла его, опасаясь вашего гнева. Простите Дивея, государь, мы готовы умереть друг за друга!
– Вот как… – протянул Юлий, оглянувшись на Золотинку. Она застыла, прикусив губу. – Ты уверена в чувствах Дивея?
– Уверена ли я? – Лизавета озиралась, не зная, кого призвать в свидетели. – Это самый нежный и преданный влюбленный! Скорее небо разверзнется и высохнет море…
– Я очень рад. Оставим море в покое, – рассудительно сказал Юлий, опять покосившись на Золотинку.
Перебирая золотую подвеску, она поднялась рукой под горло и остановилась – иначе ей пришлось бы душить себя. Обычный ее румянец обрел багровые тона и расползался пятнами.
Лизавета же по-прежнему стояла на коленях. Она не сознавала свое молитвенное положение.
– Никто, насколько я знаю, никогда и не помышлял препятствовать вашей свадьбе, – заметил Юлий, наклоняясь к Лизавете. Он принял ее под мышки и, ничего не сказав, подтянул, чтобы поставить на ноги. Она не сопротивлялась, но и не помогала ему, тяжело обвиснув; так что Юлий хорошенько крякнул, прежде чем возвратил девушке стоячее положение. – Очень рад вашему счастью. Позовите теперь Дивея, если вы и вправду схоронили его у себя под кроватью.
Успех слишком быстрый и легкий смущал готовое к самопожертвованию сердце. Девушка колебалась, поглядывая на государей, но ничего не успела высказать – все оглянулись. На пороге обнаружился долговязый придворный в желто-зеленом наряде.
– Простите, государь! – запнулся он, уловив нечто неподобающее во взаимном расположении персон. – Простите, глашатай только что привел человека, который имеет сообщить нечто важное о досточтимом Поплеве. И принес э… другого человека, на мой взгляд, совершенно мертвого.
– Как это мертвого?! – выпалила Лжезолотинка, в памяти которой возник обреченный на смерть Ананья.
– Простите! – пролепетал придворный. – То есть, если сказать точнее, фигурально выражаясь, мертвое тело неживого человека.
– Кто его принес? Приведите сюда немедленно! – громко сказала Лжезолотинка, скрывая гневливым голосом радость. Она и сама двинулась было вслед за придворным, но одумалась, не вовсе еще успокоенная насчет Лизаветы, от которой можно было ожидать новых сумасбродств.
И скоро ход событий показал, что Зимка явила немалую прозорливость, когда отказалась от мысли покинуть место действия. Едва удалился долговязый придворный чин, как с известной осторожностью, скользящей, словно бы даже танцующей походкой вошел Дивей. Серебристо-белый наряд придавал ему особенную, изысканную бледность. Юлий взял Лизавету за руку.
– Ага, Дивей! Вот славно! Вы пришли, – сказал государь чуть громче обычного. – Я хотел спросить, – он придержал Лизавету за плечо, – скажите, Дивей, в чем вы чувствуете себя виноватым?
Порою заносчивый, часто высокомерный, Дивей, однако, не отличался храбростью. Он терялся при всякой неясности, когда нельзя было искать опоры в заранее установленном, общепринятом способе поведения. Конечно, он не дрогнул бы принять вызов – потому что хорошо знал, чего ожидает общество от принародно оскорбленного человека благородных кровей. Но теперь, в положении полнейшей неясности, молчал, переходя в мыслях от опасной и ненужной искренности к глупому запирательству.
– Зачем это нужно? – воскликнула Лжезолотинка, нарочито себя взвинчивая, и сверкнула глазами в сторону Юлия с прижавшейся к нему Лизаветой. – Недавно я слышала другие речи! Что старое ворошить? Не понимаю! Дивей, я готова перед вами извиниться.
Окольничий приложил руку к груди, полагая вопрос исчерпанным. Голос Юлия неприятно его поразил:
– И тем не менее, Дивей.
Растревоженная Лизавета в руках у Юлия глядела горящим взором, будто чего-то ожидая. Ждал государь. Золотинка сдерживала взволнованное дыхание. Дивей знал за собой несколько вин, но никак не мог сообразить, какая из них тяжелее, чтобы тут-то как раз и запираться. Заказное убийство в харчевне представлялось ему, во всяком случае, делом более определенным и очевидным – потому-то тут и следовало молчать. К тому же Дивей внезапно вспомнил, что связал себя обещанием хранить тайну.
– Да, государь, я виноват! – объявил он не без торжественности. – Вина моя тем ужаснее, что не имею сил раскаяться! – Взгляд на Золотинку показал Дивею, что лучше было бы закруглить красоты красноречия, пока не запутался, но он уж не мог остановиться – он сочинял на ходу. – Грешен я в том, государь, что безмерная моя любовь и обожание к великой государыне Золотинке переходят установленные и предписанные придворным обиходом пределы. В сердце своем… пылая возвышенной страстью… к своей повелительнице и государыне, страстью, которую разделяет при дворе всякий, у кого есть сердце… да что там сердце – всякий, у кого есть глаза, пылая страстью, я… я не находил в себе сил ни вырвать из груди сердце, ни выколоть себе глаза.
Сказал и одним только взглядом, коротеньким вопросительным взглядом позволил себе обратиться к Золотинке за одобрением. Она же не отвечала даже беглой, тенью на губах улыбкой, она как будто не признавала между собой и Дивеем ничего общего. Зато, задохнувшись слабым стоном, обомлела Лизавета, безвольно привалилась к Юлию, который вынужден был ее поддерживать.
– Виноват, государь… – окончательно сбился Дивей, закончив неопределенной, может статься, даже вопросительной интонацией: виноват? государь?
– Ничего, ничего, Дивей, – произнес Юлий, крепко стиснув девушку, которая прижималась к нему, казалось, более страстно, чем почтительно. – Я слушаю вас с величайшим любопытством. Продолжайте.
Дивей решился еще раз переспросить взглядом Золотинку, и стало ему тут совсем нехорошо – распрямившись, государыня отгородилась от него темным, клокочущим презрением.
В поисках выхода обернулся он тут на дверь – дверь и в самом деле приотворилась. Под действием взгляда Дивея, не иначе… Потому что возникший в проеме долговязый чин лишился последних сил, и трудно было заподозрить, что он причастен к такому чрезвычайному действию, как вмешательство в разговор царственных супругов.
– Государь! – объявил долговязый чин слабым голосом. – Тот человек, что был мертв, ожил и теперь отрицает, что он Поплева.
– Как это ожил? – вскрикнула Лжезолотинка. И быстро, с испугом поправилась: – Разве он утверждал прежде, что Поплева?
– Никак нет! – вытянулся чин. – Будучи вполне мертвым, не утверждал. Насколько можно понять, государыня, этот человек пострадал в пьяной драке в кабаке «Красавица долины». А тот человек, что его притащил, утверждает, что этот называл себя Поплевой. Но этот ожил и все отрицает. – И желто-зеленый чин выразил сожаление неизъяснимым, но вполне убедительным телодвижением.
– Понятно! – воскликнула Лжезолотинка с прорвавшейся злобой. – Гоните обоих в шею! Негодяй, которого притащили из харчевни – Ананья. Тот самый, из Рукосиловой дворни. Он представил себя Поплевой. Услышал, я разыскиваю названного отца, и выдал себя за Поплеву. Не знаю, на что рассчитывал.
– Простите, государыня, самое время кое-что объяснить, – с непринужденностью старательно владеющего собой человека вмешался Дивей. – Могу объяснить дальнейшее. Когда вы покинули харчевню «Красавица долины» – в гневе покинули! – и когда я уяснил, что случилось, я взял на себя смелость… короче, я велел своим людям хорошенько проучить наглеца. Как видно, они перестарались.
Лжезолотинка выслушала окольничего с настороженно неподвижным лицом и тотчас же обернулась к придворному чину:
– Гоните в шею! – повторила она.
Рыдания Лизаветы между тем, уже вполне внятные, придавали происходящему нечто лихорадочное. Припавши на грудь государя, девушка мочила слезами белую рубашку в разрезе полукафтана, то и дело задевала щеку Юлия объемистым жестким тюрбаном. Юлий принужден был держать голову на отлете и поглаживал не столько волосы, сколько более доступный ласке и утешению тюрбан. Однако, как ни мало он различал то, что попало под руку, ничего из происходящего вокруг не упускал:
– Подождите! Я хочу видеть этих людей.
– Это что? Назло мне? – воскликнула Лжезолотинка после заминки, которая понадобилась ей, чтобы решиться на ссору. – Назло? Это, в конце концов, утомительно!
Несколько резких, по-настоящему грубых слов, не сильно как будто отличных от всего, что было уже сказано, много на самом деле значили – загнанная в угол Зимка рвалась из пут своей и чужой лжи.
– Гоните бездельников в шею! – повторила Зимка, точно зная, что Юлий не стерпит.
– Приведите! – возразил он, страдальчески поморщившись.
– Если этот мерзавец переступит порог, я уйду! – топнула ногой Лжезолотинка.
Ответом ей были рыдания. Лизавета вздрагивала, давилась слезами, а Юлий, играя желваками, попеременно ее оглаживал и потискивал – так яростно и порывисто, что эти знаки расположения заставили наконец задуматься размякшую в слезах девушку: во всхлипах ее появилось нечто вроде недоумения.
Лжезолотинка, описав лихорадочный круг, опустилась на кожаный топчан, где раскинула подол серого с широкими золотыми прошвами платья. Рука ее подобралась вверх, зацепила случившийся на пути к горлу изумруд, и государыня уставилась на дверь в сдержанном возбуждении.
Ананья и в самом деле ожил. Его ввели кольчужники из караула, которых сопровождал все тот же придворный чин. Истерзанный и мятый, с мутным взором, оживший мертвец, кажется, с трудом разбирал представших ему персон. Раз приметивши Лжезолотинку, он больше в ту сторону и не глянул.
– Государь! – проговорил он, остановившись окончательно на Юлии. – Верно, вы меня помните. Мы встречались с вами – в охотничьем замке Екшене. При других обстоятельствах, конечно. – Последнее можно было бы не уточнять, теперешние обстоятельства напоминали о себе потрепанным обликом Ананьи; он криво держал голову, словно повредил шею и не мог ее распрямить.
– Отлично помню! – возразил Юлий, отстраняя от себя девушку; белая рубаха его и такой же шарфик остались в мокрых разводах.
– Я хотел бы поговорить с вами наедине.
Не чуя под собой ног, поднялась Зимка. Она поняла, что у нее есть несколько мгновение, чтобы решиться на поступок, потому что словами, никакими словами и ссорами ничего уже не поправишь. Невозможно было предугадать, что скажет этот готовый на все сморчок наедине с Юлием. Скорее всего, он скажет все.
– Хорошо, я уйду! – воскликнула Зимка с пафосом. – Раз так – я уйду! Оставляю на твое попечение эту… – недвусмысленный взгляд отметил потерянно вздыхающую Лизавету с заплаканными глазами. – Оставляю на твое попечение эту страдалицу. Уверена, ты сумеешь ее утешить. Не буду мешать! Да! А я сейчас же уеду! Ах, боже мой!.. Чего еще ждать?! Подальше, подальше… Куда угодно, только подальше! В Екшень, вот куда! Сейчас же! – Она не удержалась бросить взгляд на Ананью, но тот не выдал себя, по бескровному грязному лицу его нельзя было угадать, понял ли он значение этих роковых слов.
– Екшень далекий медвежий угол, – возразил Юлий с замечательным спокойствием. – Не взять ли тебе Дивея в охрану?
– Да! Дивей! – вспыхнула Лжезолотинка. – Мы уезжаем сейчас же! Идите за мной!
Подобрав подол, она кинулась было к двери, но лихорадочное вдохновение подсказало ей еще одну выходку – блестящее завершение всего трагического представления. Зимка метнулась к обморочно застывшей Лизавете. Несколько звонких оплеух вернули девушке румянец.
– Дрянь! Дрянь! Дрянь! – яростно повторяла Лжезолотинка, впадая в безнаказанное бешенство. Лизавета зашаталась от звонких частых ударов, и, едва государыня оставила девушку, та сделала несколько слабых шажочков назад, отыскивая кушетку. – Утешайся с ней! – крикнула Лжезолотинка.
Куда там утешаться! Впору было спасать, но даже этим никто не озаботился, хотя Юлий и Дивей глянули на подкошенную Лизавету с некоторой оторопью. Они позволили ей упасть. Мимо кушетки. Дивей кусал губы. Мгновение, другое… и третье он колебался, отчетливо понимая, в какую дурную передрягу попал. Потом поклонился государю, расшаркавшись по полному образцу, и твердой стопою последовал за яростно шуршащей шелками Золотинкой, – откинув увенчанную костром волос голову, она шагала вереницею поспешно распахнутых перед ней дверей.
Зловещее молчание воцарилось в заставленном книгами покое. Долговязый чин с кем-то из желто-зеленых догадался, наконец, оказать помощь Лизавете, которая, впрочем, и не теряла сознания, а только мычала – как зажавший рану боец.
Юлий дышал трудно, будто избитый. Он сделал несколько шагов непонятно куда и наткнулся на скособоченного Ананью, который глядел на разыгравшиеся перед ним страсти с недомыслием постороннего.
– Что вы хотели мне сообщить?
– Я, государь, хотел объяснить. Во всем виноват кабатчик, он дурак.
– М-да… – рассеянно протянул Юлий. Еще описал круг и присел на ту самую кушетку, где прежде сверкала глазами Золотинка. Упершись одной рукой с намерением не засиживаться, он забылся.
Некоторую долю часа спустя Юлий обнаружил перед собой терпеливо ожидавшего вопросов Ананью, но нисколько не удивился, не задержал на нем внимания и позвал людей.
– Где государыня? – спросил он ровным голосом.
– Она взяла заложенную карету и только что отбыла, – виновато сообщил долговязый чин.
– В Попеляны?
– Я слышал распоряжение насчет Екшеня, – признался придворный.
– Так прямо, среди ночи?
На это и вовсе не последовало никакого ответа, ничего, кроме виноватых телодвижений.
– Хорошо, – сказал Юлий, отпуская придворного.
Однако в мятежном противоречии придворный чин опять всколебался телом.
– Простите, государь, простите великодушно! Но тот человек назвался Поплевой.
– Да-да, я знаю, – равнодушно отвечал Юлий, глянув на Ананью.
– Нет, простите, не этот. Тот, что этого приволок. Он-то и есть Поплева. Так он сейчас сказал.
– Вот как? – слабо удивился Юлий. – Ну что же… давайте и этого, что ли… Давайте всех.
Юлий успел забыть, кого тут должны были позвать, и с некоторой растерянностью уставился на явившегося перед ним старца. Высокого бодрого старика, мужчину с окладистой полуседой бородой. Без шапки, но с котомкой в руке, которой он небрежно помахивал. Бородач огляделся.
– Юлий? – спросил он, указывая просторным таким мановением.
– М-да, – пробормотал Юлий, поднимаясь.
– Ну здравствуй, мой мальчик! – сказал бородач, кидая котомку на пол. Как если бы на траву в час привала.
– Здравствуйте, – непонятно оробел Юлий, остановившись на полпути, потому что бородач от него отвернулся и кивнул придворному, указывая на Ананью:
– Этого заберите. Держите под крепкой стражей. Очень опасный человек.
Придворный чин, чье гибкое телосложение удивительно соответствовало придворным надобностям, изобразил собою недоуменный вопрос… который плавно, без единого слова перешел в почтительную сосредоточенность… Еще мгновение – и чин склонился перед «любезным тестем нашим, высокочтимым и благородным Поплевой».
– Ну, здравствуй! – повторил Поплева, открывая объятия, в которых Юлий и утонул.
Стиснутый, потрясенный, поцелованный, взъерошенный… Горло перехватило, он задыхался и ничего не сказал вовсе.
– Ах ты, божечки! – чутко удивился Поплева. Так трогательно и понятно, что Юлий резко мотнул головой и спрятал лицо. – А что Золотинка? – спросил Поплева. – Где она?
Почудилось, будто Юлий вздрогнул в руках – как зарыдал без звука.
– Девчонка плохо себя ведет?.. Что за притча… Смотри-ка!.. Высеку как сидорову козу!
Поплева никогда не сек Золотинку розгами, ни в качестве сидоровой козы, ни в качестве человеческого детеныша – ни в каком качестве! Когда была Золотинка глазастой и проказливой девчушкой, он наказывал неизбежные по младости лет прегрешения особым, прекрасно известным малышке укором: выговаривая внушения, не повышал, а понижал голос, разве на шепот не переходил – Золотинка же трепетала. И можно представить, что делалось с ней, стоило Поплеве прикрикнуть! Что бывало, разумеется, в исключительных случаях. И уж по пальцам можно пересчитать те не заслуживающие снисхождения происшествия, когда по результатам чрезвычайного расследования приходилось ставить девочку в угол. Так что розги – было только иносказание, которого Юлий не понял. Ничего ведь не знал он о детстве и юности Золотинки, ничего совершенно. Потому и принял риторическую фигуру за нечто осязательное, умилился надеждой, что можно Золотинку и в самом деле высечь!







