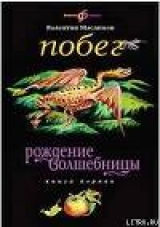
Текст книги "Побег"
Автор книги: Валентин Маслюков
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Сто сорок музыкантов под управлением Ксеня порознь и враз перебирали все мыслимые созвучия, с необыкновенной отвагой переходя от нежнейшего журчания жалеек к общим громоподобным раскатам, которые только и могут выразить совокупную силу стихий и чувств. Действие началось совместным танцем вдов и не утонувших еще мужей в лучах огромного картонного солнца на берегу моря. Тут же, на воде, в танцевальном порядке стояли рыбацкие суда – кургузые тупоносые и круглозадые сооружения, огражденные по витиеватым бортам овальными боевыми щитами. На палубах в понятном нетерпении приплясывали готовые к плаванию кормчие; одурманенные величественными наигрышами, они, по-видимому, забыли о существовании руля и румпеля, изобретенных к величайшему удобству моряков еще шестьсот лет назад, и потому держали с боков кормы допотопные рулевые весла, очень похожие на празднично изукрашенные деревянные ложки.
Когда наряженные в туники рыбаки стали перебираться на свои позолоченные корытца, а вдовы принялись оплакивать мореходные свойства назначенных к утоплению судов, в это самое время стайка прельстительных рыбок, которые красиво извивались по берегам острова, вся враз плюхнулась в воду с твердым намерением попасть в сети рыбаков еще до наступления бури.
Кругом моря радующим глаз цветником стояли зрители – лучшие люди знати и дворянства, – а великая государыня Золотинка, соблюдая верность природе, присела на покрытый бархатной подушкой пенек. Атласное, изменчивого сиреневого цвета платье, отделанное серебристыми кружевами и кисеей, покрывало собой и пень, и корни, оно лежало просторным, роскошно брошенным ворохом, являя восхитительную противоположность беспорядка с определенностью туго схваченного стана и плеч. Трогательная, как лилейный стебель, шейка держала увенчанную тяжелым взмахом волос голову. Волосы – воспылавшее золото – струились вверх, поднимаясь на две ладони, и рассыпались, перегорев. В золотом огне кипело сканное серебро обруча, ледяными брызгами переливались алмазы. Широкие алмазные браслеты обнимали запястья государыни, алмазы сверкали россыпью и гроздьями.
Полуобнаженную грудь Золотинки украшал необыкновенных размеров изумруд на плоской золотой цепи.
Едва замечая бушующие по всему пространству пруда страсти, Юлий смотрел под ноги, возвращаясь к носкам атласных туфель всякий раз, стоило ему бросить короткий, искоса или чуть более долгий взгляд на оживленную сверх обычного Золотинку. Ни удары отбивающих гром барабанов, ни бурные завывания труб, ни смятение вдов, ни отчаяние рыбаков, которые не забывали, однако, раскачивать изо всех сил свои корытца, не смущали государыню, – уставая от сколько-нибудь продолжительного молчания, она принималась болтать. И верно же, с гнетущей трезвостью думал Юлий, глядевший на жену влюбленным и печальным взором, она болтает потому, что не выносит соперничества. Но кто поставит это в упрек женщине, которая не может не сознавать силу собственного обаяния? Пусть даже ревнует она к размалеванным красоткам и красавцам, что танцуют на потеху зрителям, – чрезмерная сосредоточенность увлеченных действием дворян заставляет ее вертеться, чтобы напомнить и о себе.
Трезвые наблюдения влюбленного не умаляли, однако, того сильного чувства, которое заставляло его опускать мрачнеющий взор к носкам туфель. Особый разум любви обращал все горькое и сомнительное, что видел Юлий в суженной, против самого наблюдателя, поражая и без того стесненное сердце.
– Дивей! – оглянулась Золотинка, махнув веером из слоновой кости.
Молодой окольничий Дивей с готовностью покинул товарищей, чтобы расположиться в доверительной близости к государыне: можно было наклонить ухо или самому склониться – по малейшему знаку только. Когда бы явилась нужда. И когда бы не стоял в трех шагах Юлий, на которого прекрасно владеющий собой изящный молодой человек бросил едва уловимый взгляд – почтительный, но с изъянцем, с какой-то непостижимой наглинкой.
Юлий отвернулся, сначала просто отвернулся, а потом двинулся среди расступившихся придворных туда, где стояли сиротливой кучкой пять или шесть маленьких человечков пигаликов – посольство Республики.
Большеглазый Буян, не настолько, по-видимому, увлеченный праздником, чтобы не заметить государя, повернулся в учтивом ожидании, однако на сдержанно-скорбном личике его не явилось даже подобия положенной в придворном обиходе улыбки. Обнажив голову, как при похоронах, пигалик, чудилось, только и дожидался Юлия, чтобы выказать соболезнование.
Они обменялись незначащими словами, товарищи посла и слованские дворяне отступили, чтобы не мешать государственному разговору, но ни Юлий, ни Буян не торопились. Оба повернулись к пруду, с удвоившейся мрачностью наблюдая разыгрываемые на море страсти. Что видел и чувствовал Буян – держал при себе, а Юлий, тот ничего не видел и не чувствовал из того, что полагалось зрителю. Забывшись, молчали они под заунывные стенания труб… И Юлий внутренне вздрогнул.
– Скажите, государь… – молвил пигалик, не отводя взгляда от взволнованной поверхности пруда. – Не знаю, удобно ли спрашивать. Но это не праздное любопытство. Скажите: вы счастливы?
Быстрый взгляд на неподвижное личико пигалика выказал чувства Юлия, и он задумался, не стесняясь молчания.
– Знаете что… – тихо произнес он, уставившись пустым взором на уходящие под воду суда, которые взаправду, совсем не шуточно тонули, имея на борту притворно ломающих руки танцоров. – Знаете, говорят, что хорошая жена сделает мужа счастливым. А плохая – сделает мудрым. Так вот, я и счастлив, и мудр одновременно.
Усмешка на губах юноши не обманула пигалика, он не спросил ничего больше, а чуть погодя заметил:
– А вот и ваша жена.
Лжезолотинка снялась с места и со всем хором почитателей, окруженная избранным обществом выдающихся мужчин и блистательных женщин, направилась к мужу, производя смятение в толпах придворных, стоявших вдоль уреза воды. Поотстав на пару шагов, следовал за государыней и Дивей – воплощение изящной отваги и учтивого остроумия, молодой вельможа, чей серебристый наряд и стройные ноги так хорошо дополняли сиреневое с пышным подолом платье государыни.
Послы склонились, отмахнув шляпами, но Золотинка бросила на пигаликов безразличный взгляд, не дала говорить Юлию, имевшему несколько подходящих к случаю слов, и прямо запретила это Дивею, который не переставал развлекать государыню:
– Вы надоели мне, Дивей! Слышите! Запрещаю вам открывать рот в течение часа. Ровно час!
– Преданный служитель божества со смирением принимает это испытание веры и церковное запрещение!
Плавно поведя рукой, Дивей приложил ее к груди и сразу затем, едва государыня вскинула взгляд, замкнул уста – запечатал их напоследок пальцами. Чистое, тонких очертаний лицо его приняло то несколько напыщенное, «невсамделишное» выражение, какое бывает у играющих детей, когда они изображают взрослые чувства.
– Кто берет над чужой душой такую большую власть – непомерную, – принимает на себя и ответственность, по-моему, тоже непомерную, – заметил Юлий с явно проскользнувшей горечью. И Зимка не замедлила ответить, словно только и ждала случая:
– Ну вот, вот! Послушай себя! Что ты говоришь?! Ты ревнуешь, вот что! Опять ты изводишь меня ревностью! Мещанские штучки! – воскликнула она, резко обернувшись.
Пронзительный голос государыни, напоминавший о домашних шлепанцах, грязной посуде, нечесаных космах и опухшем лице хозяйки, пробудил бдительность придворных – они с особой тщательностью соблюдали легкомысленную и праздничную повадку. Голос государыни заставил пигаликов надеть забытые в руках шляпы. От этого голоса распрямил плечи побледневший Юлий. И даже выбежавшие из глубин дубравы сиротки – мальчики и девочки танцевальной школы, которые назначены были, собравшись вместе, танцевать свое отдельное сиротское горе – затрепетали. Подрастерявшись, не без робости, с обомлевшей душой приступили они к первым коленцам и подскокам отчаяния.
А на вздымавшейся во вздорном чувстве груди зеленым неживым цветом мерцал вставленный в золотой венок изумруд. Буян приметил камень еще издали и теперь, перестав кланяться, приглядывался к нему пристально. Он покосился на соседа своего Млина, не имея возможности высказать вслух догадку, но, похоже, товарищи посла и так уже сообразили, что видят перед собой великий волшебный камень Сорокон.
– Ты нарочно ставишь меня в дурацкое положение! – продолжала Зимка, распаляясь от всеобщего остолбенения, от той особой кликушеской власти над чувствами толпы, которую приобретает впадающий в неистовство человек. – Ты ведешь себя так… Просто смешно! К кому ты ревнуешь?! Ты только сам себя унижаешь ревностью, да!.. Ставишь себя на одну доску со случайным человеком. Кто этот человек? Кто эта мошка, которая посмеет возомнить… я не знаю что!
И вздорные упреки, и грубая лесть больно поражали Юлия в самом его достоинстве, ибо достоинство это включало в себя и уважение к Золотинке. Он мыкнулся было остановить жену.
– Кто эта мошка?.. Ты, Дивей? – обратила она вдруг блуждающий гнев на молодого щеголя, и тот не нашелся с ответом, позабыв устранить застывшую в уголках губ ухмылку. – Это ты, что ли, достоин государевой ревности?! Не смешите меня! – никто и не собирался ее смешить, никому и в голову не приходила такая несвоевременная затея; так что, не имея помощи со стороны онемевших придворных, Зимка хохотнула по собственному почину – весьма неестественно. – Подойди сюда, живо! – велела она Дивею. – Это ты дал повод невесть в чем себя заподозрить?!
Окольничий повиновался, – завороженный пугающим припадком государыни, он вошел бы и в клетку льва.
– Вот! – Золотинка хватила юношу по щеке. Дивей отдернулся, высокая шапка на голове его скользнула и скособочилась. – Вот! Вот! – повторяла Золотинка, нахлестывая щеки. Лицо вельможи исказилось, он отступил и едва сдержался, чтобы не перехватить руки государыни.
Государыня сама его оттолкнула:
– Вот тебе урок! Целуй теперь карающую руку!
Когда оскорбленный юноша получил возможность выпрямиться, пылали у него не щеки, не особенно пострадавшие от поспешных женских пощечин, а более всего уши.
– Целуй! – притопнула Зимка в нетерпении, малейшее промедление было ей несносно. Она горячечно встряхивала пальцы перед самым лицом Дивея.
Высокая твердая шапка наконец свалилась, но юноша сохранял достаточно самообладания, чтобы с непроизвольной ловкостью подхватить ее на лету, и, овладев шапкой, нашел и слова. Нашел он в себе достаточно душевной гибкости, чтобы перетолковать случившееся в галантных понятиях:
– Не будет бесчестья в том, чтобы принять наказание божества… – юноша покрутил головным убором, имея намерение развить удачную мысль в нечто еще более убедительное. Но убедительней не получалось – уши горели, пылали уже и щеки, – и он склонился, чтобы целовать пальцы, которые Золотинка настойчиво совала к его губам.
– Но это!.. – воскликнул вдруг Юлий и, однако, от последнего, непоправимого слова уберегся. Не сказал он «ведь это гнусно!», а махнул рукой, словно стряхивая боль. – Ведь это… А если человек чувствует? Ты никогда не думала, что может человек чувствовать? А если это все не забава? Если и в самом деле?..
А Зимка смутилась от неожиданного упрека, – ей, кажется, и в голову не приходило, что Юлий может оказаться на стороне оскорбленного юноши, который послужил разменной монетой совсем других отношений. Запальчивость оставила ее, и она глянула на мужа почти испугано.
Только Юлий испуга этого уже не видел и оценить не мог. Возмущенный, рванулся было уйти, наткнулся на учтиво поклонившихся пигаликов, – и кинулся быстрым шагом в другую сторону, вглубь дубравы.
– Догоните его! – воскликнула Зимка, схватив изумруд на груди, отчего пигалики насторожились, готовые к худшему – к насильственному и недобросовестному волшебству. Они, разумеется, преувеличивали возможности государыни. – Нет, постойте! – передумала она прежде, чем кто-нибудь решился преследовать Юлия. – Пусть! Мы смотрим представление! Дивей, вы куда?! Стойте здесь! Молчите! Возьмите себя в руки, имейте мужество. Вы наказаны!.. Да что, в самом деле, никто меня не слушается! – воскликнула она в слезах и сердито топнула: – Принесите же мне стул!
Зимка-Золотинка повернулась в сторону пруда, глаза лихорадочно блестели. Подавленные придворные томились в приличном отдалении от государыни, не смыкаясь и между собой, словно бы придворное ненастье само собой разрознило людей. Бегом принесли стул, и тогда государыня позволила себе оглянуться – невзначай обежала глазами окрестности, но Юлия не приметила и, скрывая досаду, обратилась к представлению. Понадобилось ей стоическое усилие, чтобы вникнуть в существо разгулявшихся на суше и на море страстей.
Одни только пигалики, оказавшись рядом, выказали достаточно независимости, чтобы не смущаться чрезмерной близостью к государыне. Некоторое время они с величайшим достоинством наблюдали горестные хороводы вдов и сироток. Прошла известная доля часа, когда Буян, поглядывая на Золотинку, счел нужным нарушить молчание:
– Простите, государыня, что я пользуюсь нынешней, не совсем подходящей возможностью обратиться к вам. Меня оправдывает тут давнее знакомство – нет нужды представляться.
Она вскинула покрасневшие глаза.
– И конечно же, вы догадываетесь, какое дело привело меня в Толпень. – Посол помолчал, заставляя ее ответить. Зимка не выказала достаточно твердости, чтобы этого ожидания не замечать, она кивнула. Это позволило пигалику продолжать в уверенности, что слушать его будут. – Свою часть договора мы выполнили.
– А яснее нельзя? – сказала Зимка, возмещая неуверенность грубостью.
Бесстрастный поклон маленького человечка свидетельствовал, что грубость устраивает его в не меньшей степени, чем любые другие проявления порывистой Золотинкиной натуры.
– Мы обещали найти Поплеву и мы нашли. Там, где вы начинали его искать, пока не поручили это трудное дело нам.
Теперь уж Лжезолотинка слушала и настороженно, и бдительно: невысокая грудь ее вздымалась неровно, а временами казалось, она и вовсе забывала дышать.
– Рукосил обратил вашего названого отца в жемчужину. Такие блестящие тяжелые шарики, вы знаете. Сжатое до сверхвысокой плотности человеческое естество. Квинтэссенция сущности. Предел возможного, государыня, большое искусство. Расчищая развалины Каменца, мы имели в виду, что Рукосил потерял несколько таких жемчужин, когда раскрыл тайник в перстне. С самого начала мы использовали для поиска голубей – у них необыкновенно острое зрение…
– Когда я увижу названного отца? – с волнительным придыханием в голосе спросила Зимка, сообразив, наконец, что давно уж пора обрадоваться. – Вы спрятали его у себя?
– Нехорошее слово «спрятали», государыня. Мы не прячем. Мы выполнили свою часть договора.
Полуобернувшись, Буян протянул руку назад и кто-то из товарищей без промедления передал раскрытую уже сумку. Осталось только извлечь толстый пакет голубой бумаги за пятью печатями красного сургуча и вручить его по назначению.
– Где мой отец Поплева? – спросила Зимка, принимая бумаги.
– Мы опередили Поплеву по пути в Толпень. Но сегодня его уже видели в столице. Он здесь.
Зимка крепко сжала пакет, и это непроизвольное движение не укрылось от внимательных глаз пигалика. Он видел, что известие о радостном свидании, уже близком, произвело на государыню самое судорожное впечатление.
– Я посоветовал Поплеве остановиться в харчевне «Красавица долины». Скорее всего, он так и сделал, – сказал Буян и после короткой паузы добавил: – Это достаточно приличное заведение и вполне Поплеве по средствам.
Чего-чего, а уж упрека в скупости Зимка как будто не заслужила – она воспрянула, мигом вернув себе уверенность. Она презрительно фыркнула.
– Я сейчас же еду! Полковник Дивей, возьмите сотню вашего полка! Музыку, черт побери! Ваши там барабаны и трубы – чтобы все было! Отец великой государыни – о! Едут все, я сказала. С музыкой! – снова она пришла в возбуждение, спасительное для нее возбуждение, и задержалась только уточнить: – «Красавица долины» – это где?
– Неподалеку от Хамовного подворья… Когда мы получим ответ? – успел вставить еще Буян, указывая на пакет.
– Завтра! – отрезала Зимка, не задумываясь. – Дивей, что вы стоите, как обиженный мальчик?! Слышите? Ваш полк сегодня в карауле? Распорядитесь, полковник!
Окруженная взволнованными придворными Золотинка удалилась, обрекая праздник Морских стихий на бесславный конец, чуть-чуть только оттянутый упорством увлекшихся своим делом танцоров. Когда пигалики остались одни на заметно опустевшем берегу пруда, товарищ посла, худой и щекастый Млин спросил осторожным шепотом:
– Ты решился столкнуть их?
– Сорокон. На ее груди – Сорокон, – так же тихо отвечал Буян, оглянувшись по сторонам. – Честно говоря, я сбит с толку. И знаешь, она не вздрогнула, когда я назвал «Красавицу долины». Во всяком случае, не подала виду.
– Думаешь, мы сможем разобраться – что тут вообще происходит?
– Думаю, все-таки заставим Ананью проговориться. Нужно хорошенько его припугнуть.
– А Поплева?
– В «Красавице долины» он не появлялся. Полчаса назад я получил известие, что Поплева добрался до Попелян. Он тут, рядом. Видно, его опять не пустили.
– Чего и следовало ожидать! – обрывая разговор, кивнул Млин, человечек томительных предчувствий, если судить по его унылому, безрадостному наряду.
Гости праздника перетекали по берегу рукотворного моря, нарушая уединение пигаликов.
Немного погодя один из неприметных сотрудников посольства удалился вглубь дубравы и за кустами шиповника немедля достал перышко. С его ладони оно быстро взлетело вверх, закружилось и исчезло из виду, растворившись в голубом клочке неба между верхушками ясеней и дубов.
Скопившийся за оградой Попелян люд состоял не из одних только нищих и бездельников, напротив, большей частью то были добропорядочные горожане. Семьями они гуляли по лугам и держались ближе к загородной усадьбе княгини, чтобы послушать далеко разносившуюся музыку, поглазеть на наряды и выезды знати. Охочий до развлечений народ называл промелькнувших в карете вельмож, люди сидели и стояли на обочинах, пожирая глазами катившее в грохоте и пыли великолепие.
Это представление, текучая выставка атласа, бархата и перьев, тканой упряжи и позолоченных колымаг, играющих статями рысаков и разряженных истуканов: гайдуков, кучеров, ездовых и верховой челяди, – все это являло собой особого рода дань, которую избранные счастливцы платили народу на каждом празднике и общественном действе. И, может статься, избранные предъявляли верноподданным почитателям не худшую часть своего достояния. Оставив себе припудренные морщины, утомление праздностью и оскомину наслаждений, они отдавали народу лучшее из возможного, лучшее из того, чего не имели и сами, – мечту. Они дарили народу отблески роскоши и отзвуки славы, дух довольства и видение счастья – то есть, отдавали несомненное и явное, оставляя на свою долю ускользающее и ненадежное. Ведь отзвуки славы, то есть молва, куда более реальна, чем сама слава, – предмет весьма эфемерный. И точно также видение счастья гораздо предпочтительнее, нежели горечь исполненных желаний.
Так понимал Поплева, пробираясь полевыми тропами сбоку столбовой дороги. С философическим благодушием дозволял он всем этим счастливцам – боярам, окольничим и первенствующим дворянам – развлекать себя зрелищем их любопытного обихода. Предвосхищая долгожданную встречу, Поплева лишь усмехался, когда наблюдал весь этот суетный тарарам, блеск и треск, которым окружила себя одна молоденькая рыбачка из Колобжега. Вчера ведь еще, кажется, хватало ей завораживающей бесконечности волн, которые с грохотом падали на песок и раскатывались, слизывая торопливо нарисованных человечков. «Суй лялю!» – лепетали ее непослушные детские губки…
Поплева вспомнил, и лицо его смягчила улыбка, явившаяся из далекого прошлого, – снисходительная и нежная.
Воспоминания пробуждали в большом бородатом человеке застенчивость, которая мешала ему настаивать на родстве с государыней. Перебросившись словом с несговорчивыми стражниками у тройных садовых ворот, где кончалась дорога из Толпеня, Поплева возложил надежды на случай. В самом умиротворенном настроении он слонялся среди зевак и прислушивался к дуновениям сладостных звуков, доносившихся из-за высокой каменной ограды, заключавшей в себе зелень ухоженного сада. Музыка навевала нечто несбыточное и счастливое.
В празднично настроенной толпе говорили о щедрости юной государыни.
С улыбкой на устах Поплева так и заснул, прикорнув в укромном местечке под стеной. Когда он очнулся, солнце стояло высоко, сместившись только на час или два. Все, однако, переменилось. Степенный народ, что угощался по зарослям своими запасами съестного и выпивкой, с визгом и хохотом веселившаяся на лугу молодежь, коробейники с неуклюжими подносами на ремнях – все устремились к дороге. Вырвавшись из ворот, шибкой рысью скакала в растекающейся пыли конница, за ней грохотала длинная карета восьмериком и разносились крики:
– Да здравствует государыня!
– Золотинка! – опомнился Поплева, вскочил, подхвативши котомку, и бросился бежать, хоть и видно было, что опоздал. В золотистых отблесках стекол ничего нельзя было разобрать, где-то там пропало, растворившись в зеркальных отражениях, родное лицо.
За каретой снова валила конница – латники и легкомысленно разряженные дворяне в лентах, кружевах и разрезах. И другая колымага вылетела из ворот под уханье вершников, свирепые вскрики кучера, щелканье кнута и посвист малых плеток. Набегающим топотом копыт, грохотом и дребезжанием возвещала о себе следующая упряжка – поезд растянулся на полверсты.
– А государь? Где государь? – возбужденно перекликались зрители. Никто ничего не знал наверное.
Поплева заметался, пропуская одну карету за другой, и когда показалась последняя – открытая колымага под навесом, битком набитая какими-то расхристанными людьми с трубами, барабанами, гудками и волынками, – Поплева решился и со всех ног помчался по обочине, подгадывая, как бы это вскочить на ходу.
Шумливая братия в колымаге с одобрением следила за внезапной побежкой прыткого старца. Гудочники, барабанщики и трубачи возбужденно загалдели, заспорив между собой, как скоро «старичок сдохнет». Поплева, приноравливаясь запрыгнуть сбоку, опасался, однако, попасть под огромное, в человеческий рост колесо, что катилось без остановки и послабления, нагоняя его сзади. Наконец, догадался он бросить в чьи-то руки котомку и поотстал, чтобы настигнуть повозку со стороны задка, где, свесив ноги, пристроились не поместившиеся в переполненный кузов скоморохи.
И таково было заразительное действие отчаянных усилий Поплевы, что скоморохи, щедрый народ, не задумались протянуть руку помощи. Некоторое время Поплева бежал на прицепе – задыхаясь, из последних сил, борода встрепанная, глаза безумные – тут подхватили его за пояс и вздернули, недолго проволочив носками сапог по земле. Взвалили животом на перекладину, а потом, не удержавшись от озорства, перекинули кулем под обочину кузова.
– Спасибо, ребята! – просипел Поплева, не разобравшись еще толком, где верх и низ.
Колымага тряслась, не сбавляя ходу, только спицы мелькали и вилась пыль; взгляд встречал смеющиеся лица. Всклокоченные волосы, багровая рожа и открытый рот, точно так же как необычное одеяние Поплевы, придавали ему несуразный вид, который окончательно расположил скоморохов в пользу незнакомца.
– Куда вы так несетесь? – спросил он, едва переменив положение вверх тормашками на обратное.
Ответом был общий хохот.
– Имейте в виду, ребята, это сбежавший из пруда морской бог Переплут. – Сходство с языческим божеством увеличивала, вероятно, обильно проступившая на лице деда испарина.
– Переплут? Ясное дело. Он опять заплутал.
– Плутишка запутался в чужих плутнях! – так быстро перебрасывались они словами, что, вертя головой, Поплева заботился лишь о том, чтобы различать скоморохов между собой.
– Я думаю! Не по доброй же воле плюхнулся Переплут в здешний пруд, где едва хватает места, чтобы окунуть бороду! – сказал обряженный в короткую куртку с пышными оборками на груди и не менее того пышными рукавами юноша, которого можно было принять сгоряча за неряшливую девушку, – по его плечам рассыпались плохо мытые волосы, юноша встряхивал их через слово.
– Ну, а все-таки, без шуток, – с неисправимым простодушием сказал Поплева, – куда вы несетесь?
– Государственная тайна, – важно заметил толстяк – в одной руке он держал жалейку, а другой, не забывая о посверкивающих рядом спицах, цепко ухватился за задок кузова.
– Но поскольку тайна эта досталась нам задаром, по совести говоря, не вижу надобности брать с человека лишку, – возразил чернявый волынщик, выглядывая из кузова. – Мы несемся вслед за Поплевой.
– За каким Поплевой? – вытаращил глаза их нечаянно обретенный спутник.
– А каких ты можешь нам предложить? – живо полюбопытствовал парень с волынкой.
– Вернее всего, – пробормотал Поплева, рукой теребя бороду, – это недоразумение. Я думаю… предполагаю, что я-то и есть Поплева.
– Подумай хорошенько! – воскликнул волынщик, ставши коленями на скамейку, чтобы удобнее было обращаться к устроившейся на задке ватаге. – Если ты совершенно в этом уверен, можешь себя поздравить: ты, значит, поспел вовремя, чтобы участвовать в погоне за самим собой. Ради этого стоило пробежаться.
– Вот как выходит: мы стараемся поспеть за твоей спешкой, – вставил длинноволосый.
– Мы несемся навстречу тебе, – пояснил волынщик из кузова. – Или же на встречу с тобой. Что ничего, в сущности, не меняет.
– Как? – наивно переспросил Поплева.
– В этом мире, видишь ли, нельзя знать наверное, кого ты встретишь там, куда несешься, – сказал Лепель. Ибо чернявый парень с волынкой был, конечно же, Лепель. Кто же еще?
И вот пока в хвосте растянувшегося на версту поезда Поплева тщетно пытался объясниться со скоморохами, впереди всех, одна в карете с открытыми окнами, на продувающем ветру, тщетно пыталась уяснить свое положение Зимка. Бумаги пигаликов скользили с колен, подхваченные сквозняком, падали на трясущийся пол, где уже валялся нетерпеливо разорванный конверт. Зимка хватала одно, принималась читать другое и вынуждена была возвращаться к прежнему.
Прежде всего поразил ее пространный приговор Совета восьми, который в предварительном порядке (за отсутствием подсудимой) рассмотрел дело девицы Золотинки из Колобжега, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 211 частью третьей Уложения о наказаниях «Невежество с особо тяжкими последствиями»… Не дочитав до конца, Зимка бросала взгляд на приложенную к приговору выписку из Уложения. Бралась за составленную как письмо, как личное обращение к Золотинке повестку в суд. И с близкой к ужасу оторопью обнаруживала, что сама себя отдала в руки правосудия, обязавшись явиться для судебного разбирательства, как только пигалики найдут или возвратят к жизни названного ее отца Поплеву.
– Ну, дудки! – воскликнула Зимка в сердцах. – Я вам не Золотинка.
И запнулась, сообразив, что они-то этого как раз и не знают. Раскрасневшись, откинулась она на сиденье, чтобы привести мысли в порядок.
Что же будет, если окажется в конце концов, что Золотинка, вступая в сделку с пигаликами, не придумала для себе никакой лазейки? О себе-то уж могла позаботиться, если на других наплевать!
Ну, нет, я вам не Золотинка! – повторяла Зимка. Тут-то и было, очевидно, спасение – если совсем припрет. Юлий испугается войны… что ж, в крайнем случае – жизнь дороже! – придется признаться, что я – не я. И спрашивайте с той, кто устроил вам пожар, а потом наводнение.
Это соображение вернуло Зимке ощущение конечной своей неуязвимости, и она спокойнее уже вернулась к бумагам пигаликов. Но скоро ехавшая по столичным улицам колымага остановилась, доверенный дворянин, не слезая с лошади, нагнулся к окну:
– Такая гнусная дыра… простите, государыня. Харчевня там, – он махнул рукой за спину, – за крытым проездом; карета, пожалуй, зацепит крышей… И в оси не пройдет.
– Хорошо, – задумалась Зимка. – Позовите Дивея.
Окольничий спешился и с церемонной медлительностью отвесил у открытой дверцы поклон. «Что еще?», – говорил сумрачный взгляд, в ухватке чудилась горделивое равнодушие. Под действием внезапного вдохновения Зимка схватила его за руку:
– Простите, Дивей! – проговорила она тоном очаровательной искренности. – Я виновата. Виновата, может статься, совсем не так, как вы думаете… Но что сказать: я взбалмошная, избалованная поклонением женщина. Злая, себялюбивая… Ну, вы и сами много можете сюда добавить.
Дивей, на мгновение замер, чтобы осмыслить разительное заявление, а потом безмолвно склонил голову, признавая за великой государыней право на самые невероятные и несправедливые суждения. Разумеется, он был покорен, и Зимка, необыкновенно проницательная во всем, что касалось мелкой галантной возни, не нуждалась ни в каких заверениях на этот счет. Они прекрасно понимали друг друга.
– Но у меня есть и хорошие свойства, – сказала она живо и опять тронула юношу за руку, вымаливая прощение лукавым взглядом. – Я признаю свою вину, – продолжала она, не дождавшись подсказки, – и вы можете, как это бывает между людьми чести, потребовать у меня удовлетворения.
На этот раз он глянул так, будто ослышался. Удивление его заставило усомниться и Зимку: что, собственно, она имела в виду? Ничего особенного. Ничего такого, чтобы возникла необходимость покраснеть или значительно пожать руку. Но она сделала и то, и другое: смутилась и легонечко стиснула покрытое шелковыми оборками запястье. Это у нее вышло само собой, естественно и мило – трудно было удержаться.
Словом, глупая растерянность одного из самых остроумных, легких на язык красавцев княжества – он поклонился с дурацкими словами на устах: слушаю, государыня! – доставила Зимке мимолетное, хотя и не лишенное червоточины удовольствие.
– Вы проводите меня в харчевню, – велела она обыденным голосом. Но, собравшись оставить карету, по внезапному наитию, схожему с острым ощущением опасности, остановилась, бросив взгляд на разбросанные по сиденью бумаги пигаликов. Предчувствие говорило ей – а Зимка считала себя необыкновенно тонким знатоком предчувствий! – что опасность рядом.
– Вот что-о-о, – протянула Зимка. – Поставьте стражу вокруг харчевни. Чтобы не пускали толпу. Не нужно праздных зевак. И еще… – Зимка додумывала на ходу. – Отправляйтесь, Дивей, в харчевню и спросите там моего названного отца Поплеву. Если найдете его, со всем возможным уважением, которого заслуживает государев тесть, Дивей! скажите почтенному… любимому старцу, что преданная дочь его сейчас будет. Если… если что не так, хорошенько расспросите кабатчика и возвращайтесь. Хорошенько расспросите, – повторила она с нажимом, не зная, как внушить то, что нужно. – Я жду вас. С нетерпением.







