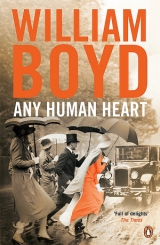
Текст книги "Нутро любого человека"
Автор книги: Уильям Бойд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
– Понимаешь, мне кажется, я никогда ее по-настоящему не знал, – озадаченным тоном произнес он.
– Господи-боже, ты же был ее мужем.
– Да. Но я думаю, тут было скорее упоение сексом. Никогда не встречал другой женщины, способной так, как Глория, ну, ты знаешь, растормошить меня.
Мы заказали в номер сэндвичи и продолжали атаковать бутылку виски. Я обратил внимание на то, что лакей назвал Питера „мистером Портманом“. А чем тебя Скабиус не устраивает? – спросил я.
– Я не должен был здесь появляться – если мой финансовый управляющий узнает, что я в Лондоне, его хватит сердечный приступ.
– А, налоги. Как мило, что ты приехал. Глория была бы очень тронута.
– Просто хрен знает что такое, эти налоги. Я вот подумываю об Ирландии. Похоже, писатели там подоходного налога не платят. А с другой стороны, рискованно – все-таки ИРА.
– Не думаю, Питер, что ИРА изберет тебя своей мишенью.
– Ты шутишь. Да там любой с таким профилем, как у меня, подвергается риску.
– В Ирландии отличные дома, – сказал я. Не стоило продолжать этот разговор.
– А почему тыне уедешь? – спросил он. – Как ты можешь жить здесь, при таких-то налогах? Два месяца работаешь на себя, а следующие десять на сборщика налогов.
– Я веду очень простую жизнь, Питер. Очень простую.
– Так и я тоже, черт подери. Ох, пожалею я об этом виски. Если бы мой доктор увидел, как я его пью, он умыл бы на мой счет руки… Как дела у Бена?
– Рак. Простата, – но, похоже, он выкарабкивается.
Эта новость Питера удручила и он принялся перечислять собственные невзгоды – артериосклероз, стенокардия, все возрастающая глухота. Мы разваливаемся, Логан, все повторял он, мы жалкие старые развалины.
Я не мешал ему пустословить. Я себя старым не ощущаю, хоть, должен сказать, признаков старения у меня более чем достаточно. Ноги мои отощали из-за того, что ссохлись мышцы, – и стали почти безволосыми; ягодицы исчезли, пустое седалище штанов теперь свободно свисает с меня. И вот еще занятно: конец с яйцами выглядят более дряблыми, отвислыми, свободно болтающимися между ног. Мало того, когда вылезаешь из горячей ванны, кажется, будто они увеличились в размерах. Это нормально или присуще только мне?
Забыл сказать, что в разгар всех горестей с Глорией получил из конторы Ноэля Ланджа письмо, сообщавшее, что по завещанию месье Кипрена Дьюдонне [209]209
Кипрен Дьюдонне умер в 1974-м, в возрасте восьмидесяти семи лет.
[Закрыть]я стал владельцем собственности во Франции. На какой-то безумный миг я решил, что речь идет о загородном доме Кипрена в Керси, однако, приглядевшись к адресу и сверившись с атласом, понял, что это дом в Ло, maison de maître [210]210
Родовое поместье ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]близ деревни, носящей имя Сент-Сабин. Ну я и написал в ответ – продайте все. Глория тоже оставила мне все, чем владела, а это сводится к 900 фунтам на ее счете (спасибо, Пабло), двум чемоданам с одеждой и содержимому контейнера, хранящегося на складе в Сиене. И что я буду с ним делать? Что мне действительно требуется, так это завещатель побогаче.
[В понедельник 7 июня, в 11:30 утра, ЛМС, переходивший Люпус-стрит, был сбит ехавшим с недозволенной скоростью почтовым фургоном и получил серьезные увечья. Скорая помощь отвезла его в больницу Св. Фомы, где ему сделали срочную операцию. Помимо разрыва селезенки и трещин в черепе, он получил три серьезных перелома левой ноги, не говоря уже о множестве ссадин и ушибов по всему телу.
После операции (ему вставили в ногу стальные спицы) ЛМС перевезли в больницу Св. Ботольфа, в Пекхэме, где его поместили в палату № 3. Дневник возобновляется через четыре недели после несчастного случая.]
Понедельник, 5 июля
Одна из старых дам, что бродят по палате со сборниками головоломок и комплектами принадлежностей для вышивания, снабдила меня шариковой ручкой и блокнотом, так что я смогу, наконец, записывать мои впечатления от этого адского места. Швейцарский рулет и комковатый заварной крем, в третий раз на этой неделе. Простите, но швейцарский рулет это не пудинг; швейцарский рулет это такой сладкий пирог. Кто-то в отделе поставок прикарманил деньги, которым предстояло пойти на покупку нормального пудинга. Вполне типично для нашего заведения – построенного в девятнадцатом веке и все еще припахивающего ценностями и обыкновениями этого века. К примеру, палата № 3 это огромное помещение с высокими потолками, схожее с сельским клубом или школьной часовней, построено оно было именно как больничная палата – в трех его стенах прорезаны высокие узкие окна, дабы впускать сюда как можно больше „целительного“ солнечного света. В палате тридцать коек, в два раза больше, чем было задумано изначально, медицинский персонал выбивается из сил, он изнурен и очень вспыльчив. Я провел две беспомощных недели в центральном проходе, пока Пауле – единственной сестре, которая мне нравится, – не удалось перевести меня в угол. Так что теперь у меня только один сосед, хоть он и постоянный здешний обитатель: старый пропойца, оставляющий желать много лучшего. Стоят теплые июльские дни, палата сильно напоминает парник. В полдень мы лежим, задыхаясь и обливаясь потом, на койках, те, у кого хватает энергии или сил, сбрасывают с себя одеяла и обмахиваются газетами либо журналами. На ядовитых, болотных запахах, которые поднимаются от выставленных напоказ простыней, я задерживаться не стану. Все это дает некоторое представление о физическом состоянии людей викторианского века: если вдуматься, каждому из них, наверное, было нестерпимо жарко в летнее время – одежды тогда носили плотные, многослойные, а снять сюртук означало проявить невоспитанность. И от мужчин, и от женщин, должно быть, жутко несло потом. А тут еще кучи конского помета на улицах… Лондон девятнадцатого столетия вонял, надо полагать, как выгребная яма.
Левая нога у меня в гипсе по самое бедро, отчего я более или менее неподвижен. Мочусь я в бутылку, а когда нужно прогадиться, вызываю сестру. Пользоваться уткой я отказался, поэтому меня сажают в кресло и отвозят в уборную. Там я устраиваюсь на чаше унитаза и делаю свое дело. Двери в кабинках отсутствуют. Сестры ненавидят меня за то, что я отказался от утки.
Единственное неопределенно приятное следствие того, что нога закована в гипс – меня приходится мыть губкой. Делается это быстро, расторопно, однако на две минуты я вновь возвращаюсь в раннее детство – руки подняты, мне омывают подмышки, холодная губка ныряет в мои гениталии, я наклоняюсь вперед, чтобы мне потерли спинку. Процедуру завершает нешуточное растирание полотенцем и посыпание тальком. Если бы эта дойная корова, сестра Фрост, еще вытаскивала бы титьку и давала мне пососать, картина была бы полная.
Еда отвратительная, никуда не годная – худшей я не пробовал со школьных времен в Абби. Мы получаем все, какие можно вообразить, ужасы лечебного учреждения – мелко порубленное мясо с водянистым картофельным пюре и консервированными овощами; рыбный пирог, в котором рыба не водится; приправленные карри яйца; слипшиеся, тестообразные клецки с комковатой сметаной. Все это приходится съедать – особенно мне, прикованному к койке. Раз в день появляется человек с тележкой, у которого можно купить, в виде добавки к больничному довольствию, крекеры и плитки шоколада. Диета воистину ужасная – все жалуются на запор.
Паула – единственная сестра, которая нравится мне хотя бы тем, что зовет меня мистером Маунтстюартом. Я поблагодарил ее, спросил как ее фамилия. „Премоли“, – сказала она. Правильно, значит пусть будет мисс Премоли, сказал я, однако она попросила называть ее Паулой, а то другие сестры решат, что тут что-то нечисто. Интересная фамилия, заметил я, и Паула сказала, что она родом с Мальты. Но как же ваши рыжие волосы? не подумав, спросил я. У вас вон седые, ответила она: что ж тут смешного?
[ПОДЗДНЕЙШАЯ ВСТАВКА. Мои воспоминания о самом несчастном случае разрознены и бессвязны. Я всегда, еще со времени возвращения в Лондон, замечал, что почтовые фургоны вечно носятся как угорелые, точно водителям их угрожает опасность опоздать к какому-то решающему сроку или на некую встречу. Тот, что сбил меня, летел на скорости, должно быть, миль 60–70 в час. Хотя виноват был целиком и полностью я: мысли мои блуждали неведомо где, – я не посмотрел по сторонам и соступил с тротуара примерно с такими же предосторожностями, с какими переходят не улицу, а собственную кухню. Видимо, от удара я пролетел по воздуху ярдов пятнадцать. О столкновении я ничего не помню, боли почувствовать не успел. Очнулся два дня спустя в Св. Фоме, гадая, куда я, к черту, попал и что тут делаю. Мне здорово повезло, что я остался в живых, так мне сказали. Кто-то из отдела Управления почт по работе с клиентами прислал мне букет подвядших гладиолусов – „с пожеланиями скоростного выздоровления“. Неудачный выбор прилагательного, подумал, помнится, я.]
[Август-сентябрь]наблюдения над палатой № 3
Сегодня – массированное облегчение кишечника, после по сути дела, двухмесячного, как я вдруг сообразил, запора. Почувствовал себя лучше, но одновременно осознал, насколько я отощал. Я теперь – костлявый старый хрен, которому не мешало бы постричься.
В сущности, мы лежим в палате для престарелых, хотя никто не желает этого признавать. Никого моложе шестидесяти здесь нет. Палата для престарелых в том смысле, в каком бывают раковые палаты. Все мы – старики со стариковскими проблемами. Многие умирают. Палата слишком велика, чтобы я мог произвести точные подсчеты, а пациентов вечно перемещают с места на место (дабы замаскировать потери?). Я бы сказал, что со времени моего появления здесь умерло человек тридцать.
Паула ушла вчера в летний отпуск. Куда вы отправитесь? – поинтересовался я. На Мальту, глупенький. Она носит на шее золотой крестик – достойная девушка-католичка. Ее заменил санитар по имени Гэри – со множеством отвратных татуировок.
Человек, которого я ненавижу пуще всего, лежит в четырех койках от меня. Его зовут Нед Дарвин, но я прозвал его „мистер Не-Трепыхайся“. Сестры его любят: он никогда не жалуется, непременно имеет в запасе веселое замечание, радостно улыбается всем и вся и, похоже, наслаждается больничной едой. С ним приключился удар, но он довольно бодро ковыляет по палате, опираясь на костыль. Знает имена всех сестер. Как-то в один особенно жаркий день он подошел ко мне и постучал по загипсованной ноге. „Готов поручиться, зудит у вас там черт знает как“. Он из тех, кто падок до фразочек вроде „готов поручиться“, „да или нет“ и „премного благодарен“. Я послал его в жопу.
Потребовал встречи с кем-нибудь вроде администратора / управляющего, чтобы заявить протест против отсутствия дверец в уборной (по-моему мнению, это значительный фактор, определяющий нашу коллективную беду по части запоров). Требование было воспринято, как недвусмысленная попытка посеять смуту, – сестры бросали на меня взгляды грознее обычных. В конце концов, объявился молодой человек в костюме, выслушавший то, что я имел сказать. „Это мера, предпринятая для вашей же безопасности, Логан“, – сообщил он. Я попросил называть меня мистером Маунтстюартом, каковой просьбой он пренебрег, обойдясь в дальнейшем разговоре вообще без обращений по имени. Ничего из этого не выйдет: я просто укрепил мою репутацию смутьяна.
Описание путешествия семейства Пекснифф в Лондон – „Мартин Чеззлвит“ (главы 8 и 9) – это один из величайших комических пассажей в английской литературе. Развить эту мысль.
С того места, где располагается у меня селезенка, сняли дренаж. Боль в ноге, похоже, уменьшилась. Трещины в черепе, вроде бы, ни к каким побочным эффектам не привели. Со времени появления здесь мной занимался десяток, должно быть, докторов и каждый брался за мой случай, не являя каких бы то ни было признаков предварительной осведомленности: „Итак, вы попали в автомобильную катастрофу? О, я вижу, у вас разорвана селезенка“. Я не виню ни их, ни медицинских сестер. Жизнь в этом жутком месте мне ненавистна, а уж каково это – работать тут, ведомо одному только Богу. Впрочем, одна мысль не покидает меня: должен же существовать какой-то лучший, более гуманный, более цивилизованный способ ухода за нашими больными и немощными. Если государство берется за эту работу, так нужно делать ее от души: а этот мелочный, злопамятный, скаредный, пренебрежительный мир унижает всякого, кто в него попадает.
Впервые в жизни я покалечился и серьезно заболел; впервые перенес операцию и общий наркоз; впервые попал в больницу. Те из нас, кому повезло наслаждаться добрым здравием, забывают об этой параллельной вселенной больных людей – об их ежедневных страданиях, о банальных испытаниях. Только перейдя границу и оказавшись в мире немощей, начинаешь осознавать его безмолвное, тяжкое присутствие, постоянно нависающее над тобой.
В палате новая сестра: „Я слышала, вы не желаете пользоваться уткой“. Правильно слышали, сказал я. Тогда она заявила, что если я „нуждаюсь в туалете“, то должен добираться до него без посторонней помощи, сестер, которые станут возить меня туда в кресле, больше не найдется, это отнимает слишком много ценного времени. Так выдайте мне какие-нибудь костыли, сказал я, потому что пользоваться уткой я все равно не стану. Костылей вам не положено, с торжествующей улыбкой объявила она, и мне принесли утку. Ну-с, когда мне понадобилось погадить, я выполз из койки и ухитрился добраться до Не-Трепыхайся. „Можно позаимствовать ваш костыль? Спасибо“. Я понимал, что ссужать мне костыль ему не хочется, поскольку он думает, что навлечет на себя неприятности. Ну да и хрен с ним.
Селезенка. Моя разорванная селезенка. Я нашел это слово в энциклопедии. „Маленький лиловато-красный орган, расположенный под диафрагмой. Селезенка выполняет роль фильтра, не пропускающего в кровь чужеродные организмы, способные ее заразить“. При полученном мной ударе моя селезенка разорвалась. В средние века ее считали источником меланхолических эмоций. Отсюда и „ипохондрия“, как расстройство селезенки, – склонность к меланхолии или угнетенному состоянию души, к мрачности и брюзгливости. Меня тревожит, что моя разорванная селезенка выбрасывает теперь в тело какую-то свою, особую отраву. Не это ли и породило новую для меня желчность и озлобленность?
Квартира, вот что меня тревожит – никто не заглядывал в нее уже много недель. Паула спросила, почему меня не навещают, я ответил, что вся моя семья живет за границей. Дочь, сказал я, в Америке. „Все-таки, она могла бы приехать, чтобы повидаться с папой“, – заметила Паула.
Заходил католический священник. „Паула говорила мне, что вы принадлежите к нашей вере?“. Как Паула узнала об этом? Или мы неким образом выдаем себя? Какими-то словами, выражениями, жестами… Видимо, то, что есть в нас общего, тем или иным способом проявляет себя. Я объяснил ему, что состою в набожных атеистах и что утратил веру в восемнадцать лет. Он поинтересовался, ощущал ли я когда-либо присутствие любви Божией в моей жизни. Я попросил его оглядеть эту палату с ее грузом человеческих страданий и горестей. Но Бог присутствует и здесь, с улыбкой настаивал он. Я сказал, что глубины моего неверия не измерить никаким лотом, – процитировав Джона Фрэнсиса Берна, друга Джойса. У священника не нашлось, что мне ответить, и я попросил его уйти.
Сегодня утром умер мой старик-сосед. Лежал в койке, как пригвожденный, неподвижно, кислородная маска посвистывала на его лице. Выразительными оставались только глаза, которые он время от времени тревожно выкатывал в мою сторону. В конце концов, я решил истолковать это как некий сигнал. И, раскачавшись, вымахнул из койки, приподнял маску.
– Ты англичанин? – прошептал он.
– Вроде того. Да.
Выпученные глаза его метались туда-сюда, как у хамелеона.
– Отключи контакты, друг. Я хочу уйти.
Я огляделся. На один безумный миг я подумал, что и вправду могу сделать это, но к нам уже поспешала сестра. Я вернул маску на место. Он умер часа два спустя.
Меня навестил мистер Сингх [сосед ЛМС сверху], принес накопившуюся за многие недели почту. Он сказал, что в моей квартире отключены электричество и телефон. При нем был бланк из почтовой конторы, который позволил бы ему забрать мою невостребованную пенсию. Добрый старый Субедар (следует пояснить; мистер Сингх недолгое время служил в индийской армии – так что я зову его „субедаром“, а он меня „коммандером“). Он просидел некоторое время, болтая со мной, рассказал, что, пока я валялся в больнице, ему сделали вазэктомию и что он в жизни не видел никого счастливее миссис Сингх. Чувствую, после его визита мой статус в палате изменился, – я стал человеком еще более загадочным. Я подписал несколько чеков, покрывающих мои наиболее просроченные счета, и Сингх унес их с собой, чтобы отослать почтой.
Сегодня выписывается Не-Трепыхайся. Сестры толпились вокруг него и аплодировали, пока он, прихрамывая, выбирался из палаты. Не думаю, что, когда настанет мой черед, произойдет то же самое. У меня новый сосед и тоже безнадежный, – он жутко стонет ночами, – начинаю подозревать, что они делают это нарочно.
Сегодня с моей ноги сняли гипс – явив на свет нечто захирелое, волосатое, шишковатое, раза в два меньшее своей напарницы. Я заметил странный изгиб голени – там, где неправильно срослась сломанная кость, хирург, увидев его, нахмурился. Мышцы бедра и икры почти полностью истощены, так что мне пообещали два часа физиотерапии в день, которые позволят их восстановить. Я ощущаю потребность поскорее избавиться от меня – благо физический символ моей неспособности передвигаться теперь устранен. Чувство взаимное.
На одну из кабинок уборной навесили дверцу. Маленькая, но сладостная победа.
Среда, 8 сентября
Это следует записать: что-то странное случилось с моим зрением. Проснувшись сегодня утром, я увидел лишь половину мира – верхняя часть поля зрения застилалась чем-то, что я могу описать лишь как взвихренную бурую дымку. Как будто на землю опускался некий пагубный туман, впрочем, подвигав головой, я сообразил, что обесцвеченность это свойство моего зрения, а не мира, который меня окружает.
Призвали врача, молодую сингалезку. Она спросила, нет ли у меня аллергии на определенные продукты питания, и записала меня на ЭКГ. Я сказал, что из-за несчастного случая получил трещины в черепе. Какого несчастного случая, спросила она? Я провел здесь столько времени, что уже обратился в древнюю историю. Когда я все объяснил, она решила, что мне следует показаться нейрохирургу: об аллергии разговора больше не шло.
Четверг, 9 сентября
Туман рассеялся. Бреясь сегодня утром, я вдруг сообразил, что верхняя половина зеркала больше не буреет. Хирург, мистер Гайд, осмотрел меня, проверил рефлексы и предложил повидаться с офтальмологом. Мистер Гайд человек воспитанный и, похоже, неравнодушный. Уже немолодой, с густыми серебристыми волосами. Что значит „немолодой“? Он лет на десять моложе меня.
Паула подарила мне медальку с изображением Св. Христофора, на серебряной цепочке. Зачем это? – спросил я ее. Вы слишком добры. Это чтобы вы могли безопасно странствовать по жизни, мистер Маунтстюарт. Когда меня выписывают? Ах, да, сказала она, завтра утром, – а я в вечерней смене. Она поцеловала меня в щеку. Берегите себя, будьте поосторожнее и следите за почтовыми фургонами. У меня сдавило горло, в глазах защипало. Милая, чудесная Паула. По крайней мере, я выбираюсь отсюда живым.
Пятница, 24 сентября
Тарпентин-лейн. Так странно вернуться сюда, смотреть глазами постороннего на все эти вещи, на мебель. Вот твой дом, Маунтстюарт, а вот твое имущество. Все равно, что ступить на борт „Марии Челесты“. За дверью навалило целый сугроб, фута в два глубиной, рекламных листков и бесплатных газет. Как ни ненавидел я больницу, в ней я пребывал под защитой, меня там знали; а теперь город кажется мне крикливо шумным, насылающим страх. И вынужденное одиночество, – которым я так наслаждался когда-то, – приводит меня, после месяцев общинной жизни в палате, в замешательство. Этим вечером просидел полчаса, ожидая, когда мне принесут ужин. Еды в доме нет, так что я дохромал до „Корнуоллиса“ – выпить (больница снабдила меня алюминиевой тростью). Там все те же прежние лица, все тот же дымный, пропитанный пивными ароматами воздух. Хозяин приветственно кивнул, как если б я был здесь только вчера. Я не из его любимцев – провожу в заведении слишком много времени и оставляю слишком мало денег. Заказал большой скотч с содовой и два свиных пирога (Субедар отдал мне изрядную пачку накопившихся пенсионных денег. Я внезапно разбогател), – и хозяин поприветствовал мой заказ редкой у него, неискренней улыбкой.
Я оглядел завсегдатаев, пьянчуг – представителей одного со мной вида – и пожелал всем им смерти.








