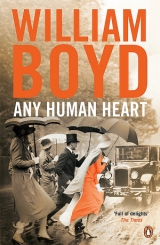
Текст книги "Нутро любого человека"
Автор книги: Уильям Бойд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
[Январь]
Купил квартиру в Пимлико, в цокольном этаже. Тарпентин-лейн, 10Б. Спальня, гостиная, кухня и ванная комната. От парадной двери к квартире спускаются крутоватенькие ступеньки. Из расположенной в глубине ее спальни открывается вид на маленький сад, в который я доступа не имею. Окна гостиной выходят в глубокие оконные колодцы. Все домашнее оборудование пребывает, похоже, в полном порядке, в спальне и гостиной – новые газовые нагреватели. Я выкрасил стены белой клеевой краской, пол будет устлан гуммированной пробковой плиткой. Мебель мне требуется лишь самая необходимая: два кресла, кровать, тумбочка у кровати, длинный стол и кресло, чтобы работать. Все (почти) мои книги я продал „Гастонзу“, что на Странде, а картины спущу Бену.
Поразительно, не исключено, что я заразился на вилле у Люцернского озера определенной façon de vivre [157]157
Манера жить ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]. Более или менее. Увидим.
Среда, 11 февраля
Париж. Бен повел меня, как собственного гостя, на большой обед в дом человека по имени Торвальд Хьюго, это крупный коллекционер современного искусства. Там был Пикассо со своей новой музой Франсуазой [Гило]. Очень красивая девушка – не спорю, как и Дора [Маар] (та была больше в моем вкусе). Пикассо почти совсем облысел, волосы, уцелевшие по сторонам головы седы. Лицо в глубоких морщинах, воинственное. Он полон энергии и юмора: похоже, чем большее удовольствие он получает от себя самого, тем мрачнее и нервнее становится Франсуаза. О том, что мы уже встречались, он не помнит (да и с чего бы ему помнить), однако, когда Бен сказал, что я побывал в 1937-м в Мадриде, он крайне заинтересовался и обошел вокруг стола, чтобы присесть рядом со мной. Я сказал, что был там с Хемингуэем, которого Пикассо немного знает. После Освобождения он виделся с Хемингуэем в Париже и рассказал мне, как Хемингуэй хвастался, будто убил офицера СС. „Этот малый перебил кучу животных, – сказал он, – однако животные не отстреливаются“. Он хочет пригласить меня на обед, сказал Пикассо, там и поговорим поподробнее.
Бен считает, что продавать мои картины – сумасшествие. Я сказал: то, что я их продаю, не значит, что я не накуплю новых. Он даст мне настоящую цену. Новая галерея его расположена на рю дю Бак, однако по его разговорам у меня складывается впечатление, что он относится к Парижу исключительно как к трамплину, который забросит его в Нью-Йорк. Он собирается в следующем году снять там помещение для показа. Вот где настоящие деньги, говорит он. Там Бен и продаст моих Миро.
Возвращение к дням и ночам прогулок по моим любимым парижским quartiers [158]158
Кварталы ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]– я снова flâneur [159]159
Фланер, праздношатающийся ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]и noctambule [160]160
Полуночник ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]. На поверхностный взгляд, Париж кажется не изменившимся, таким же прекрасным и захватывающим, каким был всегда, не затронутым тем, что происходило здесь во время войны. Однако существует нехватка продуктов да и под поверхностью струятся токи потемнее. Каждый, кто не принадлежит к коммунистам, похоже, питает перед ними ужас. Раздерганная, истерическая атмосфера.
Сидел в „Флори“, наблюдая за туристами, пришедшими, чтобы понаблюдать за Сартром (а тот сюда больше не ходит, и как раз потому, что здесь его ловят туристы), и вдруг в голове у меня мелькнула идея романа. Человек приходит к врачу и узнает, что жить ему осталось ровно неделю. Роман о последних семи днях оставшейся человеку жизни, о том, чем он занимается в эти дни: о попытке уложить в одну неделю все формы человеческого существования. Все, от оплодотворения женщины до совершения убийства… Надо подумать. Первый за сто лет трепет литературного возбуждения. В этом что-то сеть.
В „Пивном баре Липп“. Я, Бен, Сандрин, Морис, Пикассо, Франсуаза. Пикассо много говорит о Доре [Маар], что, по-видимому, Франсуазу ничуть не раздражает. Я спросил как Дора, Пикассо ответил, что она сходит с ума. Мы разговаривали о моих наездах в Испанию в пору Гражданской войны, и Пикассо чрезвычайно заинтересовал мой рассказ об истории с пулеметом, – настолько, что он попросил меня разыграть ее в лицах. И вы попали в бронированную машину? – спросил он. Да. Убили их? Сомневаюсь, сказал я. Но вы видели, как пули ударяют в машину? Вне всякого сомнения.
Пикассо представляется мне одним из этих буйных, бестолковых гениев – скорее Йейтс, Стриндберг, Рембо, Моцарт, чем Матисс, Брамс, Брак. Общество его утомляет до крайности.
Мы расстались в полночь и пешком пошли к дому – Бен, Сандрин, Морис и я, – чувствуя облегчение от того, что выбрались из скороварки Пикассо. Бен ликовал: Пикассо согласился напрямую (не через Канвейлера [обычного своего агента]) продать ему две картины для нью-йоркского показа. Он обнял меня за плечи: ты только продолжай рассказывать об Испании, сказал он. Морис все не мог понять, почему такой молодой и красивой девушке, как Франсуаза, приспела охота жить с человеком, который на сорок лет старше ее. Мы все расхохотались. И пока мы ласково подтрунивали над Морисом за его наивность, я одновременно ощущал и невыразимую печаль моей утраты, и все возрастающий покой, теплоту – понимание того, что вот эти старые друзья, Липинги, и были в каком-то смысле моей настоящей семьей, что моя жизнь была и всегда будет связанной с их жизнями, что бы с нами ни произошло.
Тарпентин-лейн. Вернулся из Парижа. Все работы в квартире закончены, теперь она выглядит как нечто среднее между лабораторией и декорацией экспериментальной пьесы. В ней нет решительно ничего „модернового“ – ни стекла, ни хромированного металла или кожи, ни искривленного дерева или абстрактных стенных драпировок. Все дело в отсутствии украшений, небытии хаоса. Свет пробивается в гостиную с трудом, и я на весь день оставляю лампы включенными. Это мой бункер, и думаю, я буду здесь достаточно счастлив.
[Сентябрь]
Столкнулся в лондонской библиотеке с Питером [Скабиусом], и тот пригласил меня выпить с ним. Сказал, что должен встретиться с „другом“. Друг уже находился в пабе: молодая женщина, я бы сказал, немного за тридцать, сидела на табурете у стойки, стакан джина с тоником перед нею, в руке – мундштук с дымящейся сигаретой. „Это Глория Несмит“, – сказал Питер. „Несс-Смит, Пити“, – поправила она Питера, потом обратилась ко мне: „Рада познакомиться с вами“, – хотя с первого же взгляда ясно было, что ничего она не рада. Я понял, что совершенно намеренным образом поставлен в положение третьего лишнего – Питер привел меня, чтобы предотвратить какую-то ссору. Она маленькая, хорошенькая, с выступающими маслачками. У нее странноватый, почти театральный голос, туфли на очень высоких каблучках делают ее выше на несколько дюймов. Она докурила сигарету, допила джин и сказала, что ей пора. Когда она на прощание целовала Питера, я увидел, как ногти ее впились ему в тыл ладони. После ее ухода, Питер показал мне руку: три маленьких, набухающих кровью полумесяца. „Она невероятно опасна, – произнес он. – Я бы и бросил ее, да она ебется, как ласка“. Я сказал, что не знаком с этим уподоблением. „Откуда ж тебе, – с довольным видом сказал он. – Я сам его выдумал, специально для Глории. Чтобы понять, что я имею в виду, надо с ней переспать“. Он лукаво взглянул на меня. „Может, попробуешь? – сказал он. – Снимешь обузу с моих плеч“. „Как Пенни?“ – спросил я. „Ублюдок ты“, – ответил он и расхохотался.
[Ноябрь]
Вандерпол больше не служит во флоте, он возглавляет женскую школу-интернат под Шроузбури. Я поездом съездил к нему и мы позавтракали, неуютно и нервно, в его уродливом новом доме. Рыжую бородку свою он сбрил – с эстетической точки зрения это ошибка, – не исключено, впрочем, что директор школы обязан быть чисто выбритым. Завтрак подала нам его молодая жена (Дженнифер, по-моему), которая сразу и исчезла, я слышал, как где-то плачет ребенок. Возможно, жена с ребенком также образуют необходимые ингридиенты директорства. Кто знает? И кому какая разница? Вандерпол мне не так чтобы обрадовался, однако при моем появлении он читал статью Питера в „Таймс“, и стало быть, представления о внезапном провале операции „Судовладелец“ и свалившихся на меня последствиях у него, по крайней мере, имелись. Должен сказать, особой любознательности он не проявил. Зато у меня было множество вопросов и первый из них: кому принадлежала сама идея операции?
– Этому деятелю, Мэриону, – сказал Вандерпол. – Его прикомандировали к нам на несколько месяцев.
Кто он? Откуда взялся?
– Толком не знаю. Может быть, из Главного штаба, сейчас я думаю, что так. А может, из Министерства иностранных дел. По-моему, до войны он служил по дипломатической части. Во всяком случае, связи у него были очень хорошие, – Вандерпол взирал на меня с терпением. – Все это было давно, Маунтстюарт. Всех подробностей мне уже не припомнить. Но, как бы там ни было, – продолжал он, – если немного отступить назад, ты должен признать, что „Судовладелец“ был первоклассной идеей. Кто знает, сколько нацистов мы смогли бы поймать.
– Первоклассная или не первоклассная, – сказал я, – но меня сдали. Сделали из меня подсадную утку. Полиция уже ждала меня в отеле. Все подробности обо мне знал только ОМР. Ты, Рашбрук и Мэрион.
– Ты меня оскорбляешь.
Я позволил себе выказать гнев:
– Я тебя не обвиняю. Но кто-то отправил меня на задание, зная, что я буду арестован почти мгновенно. Это-то ты должен понимать.
– Это был не я и определенно не Рашбрук.
– Где сейчас Мэрион?
Он сказал, что не имеет понятия. Он, Вандерпол, состоял членом клуба, в котором обедали бывшие сотрудники ОМР, и пообещал мне навести, соблюдая осмотрительность, справки. У меня оставался еще один вопрос:
– Ты не знаешь, Мэрион не был связан с герцогом Виндзорским?
Тут Вандерпол попросту расхохотался – странный хриплый звук, – и прикрыл ладонью рот.
– Право же, Маунтстюарт, – сказал он, – тебе цены нет.
1949
[Суббота, 1 января]
Под Новый Год увидел дом Питера в Уондзуорте. Довольно большой прием, человек сорок, с большинством из них я не знаком. Жена Питера, Пенни, мила и весела; родив двух детей, она располнела. Я удивился, увидев среди гостей Глорию Несс-Смит, и сказал ей о этом. По-моему, моя прямота ей нравится, нравится моя причастность ко всему происходящему. Нам с ней нечего вилять и темнить, разговаривая. „Он не посмел бы меня не пригласить, – сказала она. – Я бы его убила“. Говорит, что была прежде медицинской сестрой, а теперь работает секретаршей у издателей Питера. „Но это не надолго“, – прибавила она. Подозреваю, что и Пенни в роли миссис Скабиус тоже протянет недолго.
Глория пила джин, и пока мы болтали, дважды доверху доливала стакан. В какой-то момент она припала ко мне, ее подтянутые кверху груди расплющились о мою руку. „Питер завидует вам“, – сказала она. Я спросил, чему, господи? Питер – образец преуспевающего романиста, почему он должен завидовать мне? „Он завидует вашему дивному военному опыту, – ответила Глория. – Он не может его купить. Все остальное – пожалуйста, а этого не купишь, вот он и завидует“. В ее хихиканьи слышалось чистой воды ликование. Иисусе-Христе, подумал я. Затем она еще раз прижалась ко мне и убрела на поиски Питера, оставив меня с недвусмысленной эрекцией. В полночь я сказал себе, что если и не был счастлив, бремя моих несчастий, возможно, начинает убывать, пусть даже и помалу.
[Февраль]
Письмо от Вандерпола. Полковник Мэрион погиб в апреле 1945-го в Брюсселе при крушении „транспортного средства“. Согласно Вандерполу было еще две жертвы. Он порасспросил старых знакомцев по ОМР, и насколько ему удалось выяснить, ничего подозрительного в смерти Мэриона не было, как не было у него и явной связи с герцогом Виндзорским.
Вот и конец моей великой вендетте, конец неустанным поискам предателя. Так оно чаще всего и бывает в жизни? Она не желает удовлетворять твои нужды – нужды рассказчика, которые по твоим ощущениям существенно важны для придания хотя бы грубой формы времени, проведенном тобой на этой земле. Я хотел выследить Мэриона, хотел сойтись с ним лицом к лицу, но взамен всего этого остался при банальном заключении: более, чем правдоподобно, что никакого заговора не было, и Герцог с Герцогиней не стакнулись со своими влиятельными друзьями, дабы прикончить меня. Трудно жить с этим: трудно примириться с фактом, что это была всего-навсего еще одна провалившаяся операция, очередная невезуха… Чувство подавленности; чувство разочарования; чувство опустошенности перед лицом всей этой хаотичности – случай облапошил тебя, и в который уж раз.
[Апрель]
Отель „Рембрандт“. Я приехал сюда, чтобы поработать над повестью „Вилла у озера“. Решил, что это может быть только повесть – кафкианское, в духе Камю и Рекса Уорнера иносказание о моей причудливой тюремной отсидке. Не знаю, правда, чем его закончить. Уоллас сказал, что мог бы, если мне хочется, раздобыть большой аванс, однако я его отговорил. Это одно из тех сочинений, которые должны сами отыскивать свой голос и завершение, – а я даже не знаю, удастся ли ему отыскать их. Пока, вроде бы, идет относительно хорошо. Все, что я пытаюсь сделать – с максимальной верностью передать рутину и обстановку виллы, однако я уверен: реальность эта настолько странна, что читатели найдут ее глубоко символичной и метафоричной. Такова, во всяком случае, моя несбыточная надежда. Я понимаю также, что любой намек на претенциозность, любые потуги на значительность обернутся роковыми последствиями. Чем более верным жизни я останусь, тем более метафоричная интерпретация написанного мной будет подсознательно создаваться читателем.
В галерее Бена работает девушка, Одиль. Ей за двадцать, смуглая, с короткими встрепанными волосами и большими глазами. Одевается она неизменно во все черное, и лишь беззастенчиво чумазые ступни ее украшены сандалиями из золотистых ремешков. Бен рассказал Одиль, что я пишу книгу о годах, проведенных мною в тюрьме во время войны, и это ее явно заинтриговало. Раз уж я не могу заполучить Глорию Несс-Смит, быть может, Одиль согласится стать тем паспортом, по которому я вернусь в мир человеческих сексуальных отношений.
Порядок у меня заведен простой. Я просыпаюсь, принимаю, чтобы снять похмельную головную боль, две таблетки аспирина, и отправляюсь в кафе, завтракать кофе с круассанами. Покупаю газету и ленч – багет, немного сыра, saucisson [161]161
Колбаса ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]и бутылку вина. К моему возвращению, в номере уже прибрано, я сажусь за письменный стол и пытаюсь что-нибудь написать. Обедаю я по вечерам, как правило у Липингов – это открытый дом, говорит Бен, – однако по временам решаю не навязывать им мое общество и отправляюсь в „Балзар“, или в „Дом Липп“, или еще в какой-нибудь пивной бар и ем в одиночестве. Мне вовсе не трудно проводить день, довольствуясь исключительно собственным обществом, однако в виде компенсации я слишком много пью: бутылка за ленчем, бутылка вечером, плюс apéritifs [162]162
Аперитивы ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]и digestifs [163]163
Пищеварительные средства ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть].
Спросил Одиль, не могу ли я пригласить ее пообедать со мной, она ответила – да, хоть сию же минуту. Мы отправились в „Дом Фернан“, маленькое заведение, обнаруженное мной на рю де л’Университе. Одиль мечтает лишь об одном – отправиться в Нью-Йорк, когда Бен откроет там галерею, поэтому разговаривали мы по-английски, чтобы она могла попрактиковаться. Мне вдруг пришло в голову, что, быть может, это-то и составляет для нее суть моей привлекательности: ее излюбленная англофония. У нее карие глаза с длинными ресницами, покрытая пушком оливковая кожа.
Я поводил Одиль до станции метро. Склонился, чтобы поцеловать ее в щечку, но она повернула лицо так, что встретились наши губы. Мы целовались нежно, кончики наших языков соприкасались, и я чувствовал, как где-то в окрестностях копчика у меня разливается давняя, знакомая истома. Договорились встретиться под конец недели.
Пятница, 15 апреля
Прошлой ночью здесь была Одиль. Мы поели в „Флори“ и вернулись в отель. У нее податливое девичье тело. От меня проку не было никакого, я не смог удержать полуэрекцию даже в течение нескольких секунд. В голове моей теснились образы Фрейи – с таким же успехом она могла находиться в номере, наблюдая за нами. Одиль терпеливо мастурбировала меня, а когда и это не дало сколько-нибудь длительного эффекта, великодушно наклонилась, чтобы взять мой член в рот, но я сказал ей – не стоит трудов.
Она села, закурила сигарету, а я попытался объяснить ей, что во время войны у меня погибла жена, что я до сих пор не могу справиться с этим. Во время войны? – переспросила она. Но война была уже очень давно. Я согласился с ней и принес извинения. Она сказала: „Я, пожалуй, пойду“, – оделась и ушла. А я проспал несколько часов, крепко, без сновидений.
Зато когда проснулся, – теперь уж час назад, – то ощутил, что меня сжимает в тисках отчаяния и тьмы, для меня совершенно новых. Три года уже я провел с чувством утраты Фрейи, таким же живым, как в первый день. И дождь льет за окном. Меланхоличное кап, кап, кап.
Я принял две обычных таблетки аспирина от утреннего похмелья, потом проглотил еще две, и еще две, и еще две, и еще две, и еще две, и еще две. Вытащил из буфета бутылку виски, вывесил снаружи на двери табличку „НЕ БЕСПОКОИТЬ“ и принялся запивать им аспирин, еще остававшийся во флакончике.
Я понимаю, что делаю, но почему-то происходящее кажется мне совершенно нереальным – как будто я играю на сцене какую-то роль. Решение пришло ко мне нынче утром, и я не думаю, что оно так уж сильно связано с ночным унижением. Я просто знаю, что это следует сделать. Дождливое, серое парижское утро. Люди, должно быть, умирают сейчас по всему городу – или уже умерли, или стоят на пороге смерти. Я лишь еще одно добавление к их числу. Смерти я не боюсь, думаю для меня – здесь, сейчас – это лучшее и единственное решение. Оно пришло само, сухое и прозаичное. Я все пью и пью виски. Надо продолжать писать. Таблетки кончились. Уже чувствую опьянение – или это начало? Я совершаю самоубийство. Сорок три года прожил, хватит с меня. Не такой уж я и неудачник. Кое-что из сделанного мной останется
[С этого места написанное обращается в неразборчивые каракули, а затем обрывается.]
Нью-Йоркский дневник
Часом позже Логана Маунтстюарта обнаружила Одиль, заскочившая в отель по дороге на работу, чтобы забрать зажигалку – высоко ценимую ею серебряную „Зиппо“, – которую она оставила на столике у кровати. ЛМС спешно доставили в больницу, где ему промыли желудок, дали успокоительного и уложили под капельницу с физиологическим раствором. Два дня спустя, он вышел из больницы и, прежде чем вернуться на Тарпентин-лейн, провел месяц у Липингов. Никто в Лондоне, включая его мать, так, похоже, и не узнал о совершенной им попытке самоубийства.
Он начал проходить курс психиатрического лечения и анализа в „Аткинсон-Морли“, невропсихиатрической клинике в Уимблдоне, где его лечащим врачом был доктор Адам Аутридж. Доктор Аутридж прописал ЛМС средней силы успокоительные и снотворные таблетки и посоветовал поменьше пить. Он настоял также на том, чтобы ЛМС продолжил сочинение повести „Вилла у озера“, которая, будучи опубликованной в 1950 году, снискала серьезное и восторженное признание критики („Одна из наиболее завораживающих и необычных повестей, появившихся со времени последней войны“ – „Листенер“), однако раскупалась более чем скромно.
Тем временем, в мае 1950-го Бен Липинг открыл в Нью-Йорке, на Мэдисон-авеню – между 65-й и 66-й улицами – галерею „Липинг и сын“. Для управления ею в Нью-Йорк перебрался Морис Липинг. Основой бизнеса галереи должны были стать „классические“ модернисты европейской живописи двадцатого века, однако Морис получил инструкции отыскивать в Нью-Йорке и новые, пока еще мало известные таланты. Такие художники, как Джексон Поллок, Франц Клайн, Уиллем де Кунинг и Роберт Мозервелл уже будоражили воображение публики, и вскоре движение этих „Абстрактных экспрессионистов“, как их довольно быстро стали называть, начало отвлекать внимание мира искусства от Парижа, привлекая его к Нью-Йорку.
Бен Липинг понимал, что возраст Мориса Липинга (ему было двадцать три года) и его неопытность требуют, чтобы рядом с ним находился помощник директора галереи – человек более зрелый, к которому Морис питал бы полное доверие и, что не менее важно, на которого мог бы положиться и сам Бен Липинг. ЛМС, к тому времени уже окончательно поправившийся и опубликовавший свою повесть, был очевидным выбором.
Так и случилось, что в конце 1950-го Бен Липинг предложил ему пост помощника директора „Липинг и сын“ с жалованием в 5000 долларов в год. Истинное назначение ЛМС состояло в том, чтобы присматривать за Морисом и направлять его. ЛМС долго уговаривать не пришлось: он запер квартиру на Тарпентин-лейн и в марте 1951-го отплыл в Нью-Йорк.
Прибыв туда, он провел несколько дней в отеле, а затем снял квартиру на восточной 47-й улице, между Первой и Второй авеню (то был первый из множества нью-йоркских адресов, по которым ему предстояло жить в пору этого бродяжьего существования). Район был не из самых приятных, но обладал тем удобством, что квартира находилась в двадцати минутах ходьбы от галереи.
Он и Морис начали основательно и методично прочесывать все уже завоевавшие признание новые галереи Нью-Йорка, равно как и галереи кооперативные, выставлявшие работы молодых художников. Для осуществления начальных приобретений Бен Липинг предоставил им закупочный фонд в 25 000 долларов – эти деньги были выручены за проданных, наконец, Миро Передеса (причем Миро ЛМС принес ему около 9 000).
Примерно через два месяца после приезда в Нью-Йорк ЛМС познакомился на одной из вечеринок с состоявшей в разводе женщиной по имени Аланна Рул, работавшей в юридическом отделе Эн-би-си. У нее было две маленьких дочери, Арлен (восьми лет) и Гейл (четырех). ЛМС стал появляться с Аланной в обществе. Их роман начался, – совершенный выбор времени, как всегда говорил ЛМС, – 4 июля 1951 года.
Первая запись в нью-йоркском дневнике датируется сентябрем того же года.








