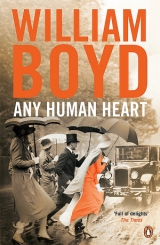
Текст книги "Нутро любого человека"
Автор книги: Уильям Бойд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Воскресенье,1 января
Встретил Новый Год у Джанет и Колоковски. Большая, шумная, хмельная, гнетущая вечеринка. Перед ней я заскочил промочить горло к Лайонелу, в его квартиру на Джейн-стрит. Ему кажется, что он нашел для себя новую группу – „Цикады“, фолк-трио. Хочет переименовать ее в „Мертвые души“. Как это, сказал я, в честь романа Гоголя? Какого романа? Великого романа Гоголя, „Мертвые души“, одного из величайших, когда-либо написанных. Ты хочешь сказать, что уже есть роман под названием „Мертвые души“? МАТЬ! Он бранился и пустословил: таким возбужденным я его еще ни разу не видел. Отнесись к этому, как к плюсу, посоветовал я: если ты о нем не знаешь, шансов, что знают другие, не так уж и много – а на тех, кто знает, это произведет впечатление. По-моему, отличное название для поп-группы, сказал я. Мои слова подняли его настроение, на лице Лайонела появилась широченная улыбка – и на один мучительный миг я увидел в нем себя, а не Лотти и Эджфилдов. Колени мои ослабли, целый рой смешанных эмоций накатил на меня – облегчение, за ним чувство страшной вины, ужаса и, полагаю, атавистическое шевеление почти что любви. Появился один из участников группы – нечесаный молодой человек в свитере и вельветовых брюках, – и миг этот миновал. Лайонел проиграл для меня несколько магнитофонных записей музыки „Мертвых душ“, – я издавал уместные одобрительные звуки. Он хочет ввести меня в свой мир, разделить его со мной, а я должен прилагать все старания, чтобы как-то на этот мир реагировать. Это самое малое, что я могу сделать.
На вечеринке сцепился с Фрэнком [О’Хара]. Должен сказать, он в последнее время невероятно полюбил ввязываться в споры и впадает при этом в неистовую запальчивость – до того, что кое-кто его уже и побаивается. Разумеется, главным горючим для наших препирательств, как и для любого спора, было спиртное. Я сказал, что всякий раз, как я проникаюсь интересом к новому художнику, у меня неизменно возникает желание взглянуть на самые ранние его работы, даже на юношеские. Почему это? – подозрительным тоном осведомился Фрэнк. Ну, сказал я, потому что ранний дар – преждевременное развитие, назови его как хочешь, – дает, как правило, хороший ориентир при рассмотрении дара более позднего. Если в ранних работах ничего талантливого не наблюдается, это, пожалуй, делает неосновательными притязания работ более поздних, так я считаю. Херня, сказал Фрэнк, ты просто слишком цепляешься за традиции. Взгляни на де Кунинга, сказал я: его ранние работы производят по-настоящему сильное впечатление. Взгляни на Пикассо, когда он еще учился в школе живописи – потрясающе. Даже ранние вещи Франца Клайна, и те хороши, – что объясняет, почему хороши и поздние. А взгляни на Барнетта Ньюмена – безнадежен. И взгляни, наконец, на Поллока – этот и картонной коробки нарисовать не способен, – чем и объясняется все дальнейшее, тебе не кажется? Иди ты на хер, взвился Фрэнк, конечно, Джексон умер, и мудаки вроде тебя норовят обкорнать его, довести до собственных размеров. Глупости, ответил я: я высказывал то же мнение, когда Джексон был еще жив-здоров. Он – красное дерево, сказал Фрэнк, а вы просто кустики да побеги. И он повел рукой в сторону дюжины испуганных художников, столпившихся вокруг нас, чтобы послушать, как мы ругаемся.
Познакомился там с хорошенькой женщиной – Тэтси? Джени? – и мы обменялись с ней в полночь многообещающим поцелуем. Она записала для меня свое имя и номер телефона, да только я потерял бумажку. Может быть, Джанет сумеет отыскать эту даму? Я слишком много выпил – голова болела, тело сотрясала какая-то нервная дрожь. Новогоднее решение: сократиться по части пьянки и таблеток.
Понедельник, 27 февраля
День моего рождения. № 55. Открытка от Лайонела, еще одна от Гейл. „Счастливого дня рождения, дорогой Логан, и не говори маме, что получил эту открытку“. Дабы отпраздновать событие, тяпнул за завтраком водки с апельсиновым соком, потом, в первые офисные часы, – два стаканчика джина. Ленч в „Бимелманс“, тоже не без спиртного – два „негрони“. В полдень раскупорил для сотрудников бутылку шампанского. Чувствуя себя захмелевшим, принял две таблетки „декседрина“. Два „мартини“, прежде чем отправиться на свидание с Наоми [женщиной с вечеринки]. Вино и граппа в „Ди Сантос“. У Наоми болела голова, так что я проводил ее до квартиры и не остался. Сижу вот теперь за большим бокалом виски с содовой, из граммофона льется Пуленк, – сейчас приму две таблетки „нембутала“, которые отправят меня в царство снов. Счастливого дня рождения, Логан.
Понедельник, 3 июля
Глубоко потрясен смертью Хемингуэя. [186]186
Хемингуэй покончил с собой 2 июля.
[Закрыть]Ужасающая, раздирающая душу, леденящая жестокость всего случившегося. Герман [Келлер] сказал, что он буквально снес себе голову. Два ствола дробовика. Вся комната в кусочках разлетевшихся мозгов и костей, в брызгах крови. Если это символ, то чего? Все горести от мозга – так развали его. Я вспоминаю Хемингуэя в Мадриде, в 37-м: его энергию и страстность, доброту ко мне, то, как он воспользовался своей машиной, чтобы найти Миро. После „По ком звонит колокол“ – воистину плохо, Хемингуэй сбился с пути, – романов его я читать не мог, однако рассказы были чудесны и чудесно вдохновляли при первом прочтении. Был ли то единственный момент в его карьере, когда на него пало подлинное благословение? А потом ничего – Джексон Поллок американской литературы. Герман, который знаком с людьми, близкими к его семье, говорит, что под конец он походил на маленького, хрупкого, седенького призрака. Разрушенного шоковой терапией. Черт подери: я и сам бывал в этих темных местах и кое-что знаю о мучениях, которые можно там претерпеть. Впрочем, ЭШТ мне, слава Христу, испытать не пришлось. Конечно, Хемингуэй был еще и хроническим забулдыгой – из тех, кто весь день держит себя на взводе, на самом краешке опьянения, но в стельку не напивается. И посмотри, к чему это его привело. Шестьдесят один год – всего на шесть лет старше меня. Чувствую себя ни в чем не уверенным, нервничаю. Позвонил Герману, и мы договорились о встрече. Довольно забавно – мне хочется в эти мгновения, пока в душе все не улеглось, находиться в обществе другого писателя – еще одного представителя нашего племени.
[На этом Нью-Йоркский дневник прерывается. Смерть Хемингуэя заставила ЛМС предпринять серьезные попытки сократить потребление спиртного и амфетаминов. Будучи человеком, спящим слишком чутко, он продолжал принимать снотворное. Однако крепкие напитки употреблять перестал и свел свою дозу к „чуть меньше бутылки вина в день“. Летом 1961-го он месяц отдыхал в Европе, проведя большую часть времени с Глорией Скабиус, теперь графиней ди Кордато, и ее пожилым мужем, Чезаре, в их уютном доме под Сиеной: „Ла Фачина“ („кузница“) – Глория неизменно называла его „Ла Факина“. Для ЛМС это место стало чем-то вроде второго дома: он провел в нем следующее Рождество, встретил Новый Год, а после, летом 63-го снова приехал туда еще на три недели.
Осенью 1962-го Аланна получила развод и вышла замуж за Дэвида Петермана. Гейл все еще время от времени присылала ЛМС открытки и ухитрялась встречаться с ним, когда возникала такая возможность, однако адвокат Аланны дал ЛМС ясно понять: одно из условий развода состоит в том, что никаких контактов между ЛМС и любой из девочек быть не должно – оговорка, которую ЛМС всегда считал ненужно жестокой и злобной.
Галерея продолжала процветать – спокойно и уверенно; ЛМС собрал значительную, состоящую из отборных работ коллекцию современных американских художников, сосредоточившись в основном на Клайне, Эльче, Ротко, Чардосьяне, Бэзиотесе и Мозервелле. Марта Хьюбер сохраняла верность галерее, а в октябре 62-го и Тодд Хьюбер перешел из „де Нэйджи“ в „Липинг и сын“.
В этот период ЛМС много занимался и журналистикой, что было, возможно, результатом его сравнительно трезвой жизни. Английские газеты и журналы часто обращались к нему с просьбами написать о совершающих европейские турне выставках американских картин. Он приобрел репутацию поборника этой живописи, – репутацию, которая скорее сердила его, говорившего, что в душе он всегда остается на стороне классического модернизма и эксцентрических представителей европейской традиции. Тем не менее, он опубликовал – и среди прочего в цветных приложениях к „Обсерверу“, „Инкаунтеру“ и „Санди таймс“ – значительные статьи, посвященные Ларри Риверс, Адольфу Готтлибу, Талботу Странду и Элен Франкенталер. Уоллас Дуглас добился для него ежемесячной колонки в „Нью рэмблере“. Дневник возобновляется весной 1963-го.]
1963
Пятница, 19 апреля
Начинает выходить „револьвер“. Все говорят, что основала его Энн Гинзберг. Удо [Фейербах] опять это сделал, – хотя мне представляется странным, что журнал, посвященный авангардному искусству, получил название, взятое из знаменитой похвальбы Геринга [187]187
„Когда я слышу слово „культура“, то хватаюсь за револьвер“.
[Закрыть]. Хотя, если подумать, может быть, оно и остроумно. На прием исправно сошлась вся старая братия – по-моему, выглядим мы все заезженными и постаревшими. Фрэнк с припухлым, красным лицом (я пообещал Энн, что не буду с ним спорить), Джанет и Колоковски (чем он занимается, этот мужик?). И еще отчетливее осознаешь список потерь: Поллок, Тейт, Клайн. Напряженная жизнь, которую все мы ведем в Нью-Йорке, чревата тяжелыми утратами. Поскольку я обещал не спорить с Фрэнком, то поспорил взамен с Германом – о предположительной красоте миссис ДжФК. Я сказал, что никакое усилие воображения не позволяет описать ее как красавицу: милая женщина – да; тонкая женщина – разумеется; женщина хорошо одетая – вне всяких сомнений, однако красивая – абсолютное нет. Герман, которому случилось побыть с ней в одних стенах, сказал, что находиться с ней рядом это все равно, что попасть в силовое поле, – она лишает тебя мужества, ошеломляет. Ты просто исступленный поклонник, вот и все, сказал я. Это ее положение внушает тебе благоговейный трепет – Первая леди и все такое, – ты не выносишь суждений, но переполняешься чувствами. Потом я еще поспорил с Диди Блэйн об Уорхоле – которого она считает Антихристом. По крайней мере, Уорхол умеет рисовать, сказал я: умеет, но не хочет – это совсем другая стратегия. Нас прервала Наоми – ей кажется, что я слишком провоцирую людей.
Энн загнала меня в угол и потребовала пообещать, что я для них что-нибудь напишу. Я сказал, что слишком стар для такого „хипового“ журнала, как „револьвер“, а она ответила: „Ладно, даю слово, возраст ваш мы под статьей указывать не будем“. Нравится мне Энн – курит одну сигарету за другой, тонкая, как тростинка, а голос глубже моего, – и надо признать, что свои нефтехимические миллионы она тратит на благие дела. Она попросила меня быть ее кавалером на приеме во французском посольстве. Как тут откажешь?
Среда, 8 мая
Забегает страшно взволнованный Лайонел: „Мертвые души“ попали в какой-то чарт под номером 68. Бородка его гуще не стала, зато волосы спускаются ниже воротника. Говорит, что теперь у него имеется подружка, настоящая американская девушка по имени Монди.
После его ухода втискиваюсь в смокинг (я определенно прибавляю в весе), и бреду в жилище Энн на Пятой, откуда мы лимузином проезжаем несколько сот ярдов, отделяющих нас от soirée [188]188
Вечеринка, прием ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]. Посол приветствует Энн, как старого друга. Я смешиваюсь с другими восьмьюдесятью достопочтенными господами – все в средних годах, – потягивающими шампанское под ослепительным светом шести люстр. Очень по-французски, думаю я, – такое количество света – совсем как в их пивных барах: безжалостный накал. Перебрасываюсь несколькими словами с потеющим атташе, который кажется мне ненужно нервничающим, он то и дело поглядывает на дверь. „ Ah, les voilà“ [189]189
Ага, вот ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть], – уважительным тоном произносит он. Я оборачиваюсь и вижу входящих герцога и герцогиню Виндзорских.
Что я чувствую? Вот уж почти двадцать лет я не был от них так близко. Герцог выглядит старым, высохшим, очень хрупким – ему, должно быть, уже за семьдесят. [190]190
На самом деле, только шестьдесят девять.
[Закрыть]Герцогиня похожа на раскрашенную статуэтку, лицо вырезано из мела, рот – обозленный надрез, покрытый багровой губной помадой. Ни тот, ни другая не кажутся особенно любезными или довольными тем, что попали сюда, полагаю, они просто не смогли отвертеться от официального приглашения, исходящего от Франции, – поскольку эта страна позволяет им платить подоходный налог (срам да и только, по-моему).
Я кружу по залу, стараясь найти место поудобнее, чтобы понаблюдать за ними. Герцог курит, потом просит виски с содовой. Ноги Герцогини кажутся какими-то окоченелыми. Она расхаживает по залу, здороваясь с людьми (похоже, многих здесь знает), Герцог с несчастным видом тащится за ней по пятам, попыхивая сигаретой, кивая и улыбаясь всякому, на кого падает его взгляд. Однако глаза у него скорбные, слезящиеся, а улыбка совершенно автоматическая. Когда они подходят совсем близко ко мне, я замираю на месте.
Первой замечает меня Герцогиня, и ее похожий на рану рот застывает, не успев довершить улыбку. Я ничего не предпринимаю. Вся запасенная ею с 1943-го враждебность словно искрит по залу, мощная, как и прежде. Она поворачивается к Герцогу, что-то шепчет ему. Когда он видит меня, на лице его сначала изображается чувство, которое можно назвать только страхом, потом оно сменяется гримасой гнева и обиды. Оба поворачиваются ко мне спиной и что-то говорят послу.
Несколько мгновений спустя, атташе, с которым я разговаривал незадолго до этого, подходит и просит меня покинуть прием. Я спрашиваю, почему, Господи-боже. На этом настаивает „ Son Altesse [191]191
Его Высочество ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]“, говорит атташе, иначе он и Герцогиня уйдут. Сообщите, пожалуйста миссис Гинзберг, что я буду ждать ее снаружи, говорю я.
Я провожу полчаса, прогуливаясь взад-вперед по Пятой авеню, покуривая. И прохожу мимо дверей посольства, как раз когда из них появляются Герцог с Герцогиней. Тут же болтается стайка фотографов и несколько людей, аплодирующих, пока эта чета усаживается в машину. Некоторые из женщин даже приседают в реверансе.
Не в силах противиться искушению я кричу: „КТО УБИЛ СЭРА ГАРРИ ОУКСА?“. Выражение ужаса, паники и потрясения, появляющееся на их лицах, служит мне полноценным возмещением всего, что они со мной сделали, на все времена. Пусть теперь сделают что-нибудь похуже. Они торопливо забираются в лимузин и уезжают. А я едва не ввязываюсь в драку с дородным роялистом, который обзывает меня мерзавцем и позором Америки. Прочие зеваки от души соглашаются с ним. Мои слова о том, что я англичанин, до крайности их озадачивают. „Изменник“, – без особой уверенности объявляет один из них, когда все начинают разбредаться. „Этот человек вступил в сговор, имевший целью помешать осуществлению правосудия“, – произношу я в их равнодушные спины.
Энн Гинзберг мои объяснения случившегося чрезвычайно позабавили. Какую занятную, старосветскую жизнь вы ведете, Логан, говорит она.
Четверг, 11 июля
Ла Фачина. Прекрасный итальянский день. Нас здесь только трое – впрочем, Чезаре мы в этом году видим не часто. Он очень стар и очень тверд в привычках, весь день пишет у себя в комнате мемуары, присоединяясь к нам только за выпивкой и за обедом. Дом – просторный, полный воздуха, уюта, с толково устроенными соляриями на крыше – стоит посреди собственных оливковых и цитрусовых рощ на краю неглубокой долины, фасадом на запад, спиной к Сиене. У меня комната в отдельном маленьком флигеле для гостей; чтобы позавтракать, я перехожу двор – и всегда оказываюсь первым. Глория спускается, лишь услышав, как Энцо, слуга и помощник Чезаре, обслуживает меня. На ней джинсы, волосы собраны сзади и перевязаны шарфиком, мужская рубашка, узлом завязанная на животе. Она пополнела, однако лишние фунты носит с обычной ее беззаботной повадкой. „Я уже несколько часов, как встала, милый“, – говорит она, и я притворяюсь, будто ей верю. Она курит сигарету и наблюдает, как я ем, – всегда яйца-пашот на тостах, ближе этого Энцо к английскому завтраку не подбирается.
Сегодня отправились ко времени ленча в Сиену, сидели в кафе на Кампо, попивая „Фраскати“. Довольно забавно: туристы совсем не мозолят мне глаза – площадь достаточно огромна, чтобы они не разрушали ее красоту. Я побродил немного, зашел, пока Глория забирала из ремонта граммофон, в кафедральный собор. Потом мы съели по тарелке спагетти с салатом и возвратились в Ла Фачина. Глория повела собак – их у нее четыре – на прогулку, а я лежал в гамаке, читая. Très détendu [192]192
Полный покой ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть].
Она все еще очень привлекательна, Глория, по крайней мере, на мой стариковский взгляд. Вчера вечером, когда она в хлопковом свитерке спустилась вниз, я понял, по тому, как подрагивали и покачивались ее груди, что лифчика на ней нет. После обеда, когда Чезаре отправился спать, а она стояла, перебирая пластинки, у граммофона, я подошел к ней сзади, обнял за талию и уткнулся носом ей в шею. „Ммм, чудно“, – произнесла она. Я передвинул руки к ее груди. „Ни-ни-ни, – сказала она. – Нехороший Логан“. „Ни даже укольчика de nostalgie [193]193
Ностальгия ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]?“ – спросил я. Она положила пластинки и звонко чмокнула меня в губы. „Ни даже этого“.
Горе в том, что когда мы с ней одни у бассейна, она, загорая, снимает лифчик. Для меня, пожирающего ее поверх книги глазами, это сладкая пытка. Может быть, потому я и полюбил этот дом, – все в нем пряно отдает Глорией, историей наших с ней сексуальных отношений. Думаю, ей приятно сознавать, что я сижу рядом, изнывая от неисполнимого желания. У нее имеются последние новости о Питере. Кубинский ракетный кризис вознес „Уже слишком поздно“ на вершину списков бестселлеров всего мира. „Питеру нравится, когда критики приписывают ему дар предвидения, – говорит Глория. – Он уже дважды побывал во Вьетнаме“.
Сегодня вечером Чезаре присоединился к нам за обедом – превосходный блейзер, белые хлопковые брюки. Передвигается он очень медленно, скованно, опираясь на трость. Глория поддразнивает мужа, к большому его удовольствию: „А вот и он, глупенький старый граф“.
Пишу это на террасе моего гостевого домика. О лампочки, вставленные в грубые каменные стены, бьются ночные бабочки, геконы вдосталь лакомятся ими. Свиристят сверчки, за желтой закраиной света квакают жабы. Я принес с собой большой, наполненный виски и кубиками льда стакан. Здесь мне всегда хорошо спится – я даже таблеток не принимаю.
Суббота, 12 октября
Нью-Йорк. Обед с Лайонелом и Монди в „Бистро ля Буффа“. За другим столом обедал – с Филипом Гастоном и Сэмом М. Гудфортом – Файнэр, однако я избегал его взгляда. После того, как через месяц в „револьвере“ появится моя статья о нем, я стану непопулярным в семействе Файнэра человеком. Терпеть не могу его новые поделки. Более чем способный художник, намеренно принимающийся писать плохо, всегда выглядит странно. Только самые лучшие из них могут позволить себе такое (Пикассо). А в случае Файнэра это выглядит отчаянной попыткой угнаться за модой.
Монди оказалась смуглой, рослой девушкой итальянского, я бы сказал, или испанского происхождения – с оливковой кожей, маленьким, слегка и упоительно горбатеньким носиком (может, она еврейка?) и заостренным подбородком. Масса густых немытых вьющихся волос. Вид у нее такой, точно она способна слопать Лайонела на завтрак. Прежде она водилась с Дейвом, главным певцом „Мертвых душ“, но затем переключилась на Лео, менеджера. Передача прав владения произошла по-дружески: собственно говоря, вся группа живет сейчас – из экономии – в квартире Лайонела. Повторить успех своего дебютного сингла „Американский лев“ (выше 37-го номера ему в чартах подняться не удалось) они пока не смогли. Лайонел с Монди каким-то образом ухитрились весь вечер продержаться за ручки. Я спросил Монди о ее фамилии, она ответила, что фамилии у нее нет. А какой та была, прежде чем Монди от нее отказалась? – настаивал я. А, ну тогда ладно: „Смит“. А я Логан Браун, сказал я.
Я проводил их пешком до дома, и Лайонел попросил меня подняться, познакомиться с группой. Ребят там было двое, одного я уже видел, – и три девушки примерно того же, что Монди, возраста. Полдюжины матрасов с цветастыми одеялами – вот практически и вся мебель. Впервые в жизни мне стало спокойно за Лайонела, я почувствовал облегчение; он порвал с миром Лотти и Эджфилдов – кому здесь какое дело до того, что он баронет и внук графа? Он нашел место, где может быть только собой. Ощутил я и укол зависти – бредя по улице в поисках такси и воображая, как все они ложатся спать. Нечего и сомневаться, они трахаются, когда им этого хочется – подумаешь, великое дело. Вдруг почувствовал себя стариком.








