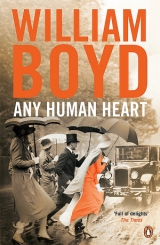
Текст книги "Нутро любого человека"
Автор книги: Уильям Бойд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
Суббота, 17 января
Исаак вернулся с войны. Я вышел, чтобы позавтракать, на веранду – и вот он, сияющий, в шортах защитного цвета и в белой футболке. Похудел, голова обрита, но, по-видимому, ничего более страшного ему испытать не пришлось. Дезертировать он смог только за неделю до окончания войны, поскольку служил в частях, охранявших взлетно-посадочную полосу в Ули, куда прилетали самолеты с припасами. Когда Федеральная армия подошла уже близко, Исаака отправили на передний край круговой обороны, выдав ему ручную гранату и пять патронов (как часовому ему полагался только один патрон). А оказавшись в буше, он стянул с себя форму, забросил подальше винтовку и пошел на юг, к дому.
Война, по его словам, закончилась столь быстро потому, что главу духовидцев казнили за совершение „искупительного убийства“ (так выразился Исаак). Все биафрийские командиры целиком и полностью полагались на советы духовидцев и так называемых пророков – ни один из армейских приказов или распоряжений не отдавался без их одобрения, – и когда главу этой секты казнили, офицеры южного фронта попросту отказались воевать. А изнуренные биафрийские солдаты, видя, как пали духом офицеры, начали разбегаться, оставляя позиции оголенными. И нигерийская армия с пением, размахивая оружием, заняла их. Еще один хороший день полковника Джека, не сомневаюсь.
Пятница, 27 февраля
Шестьдесят четыре. День моего рождения прошел в полной и приятной безвестности. Только Сушеный Кокос слегка подпортил его, напомнив всем, кто присутствовал на собрании нашего отделения, что под конец следующего учебного года я покину колледж и для курса Английского романа потребуется новый лектор. „Дорогой Логан, увы, уходит на покой. Мы лишаемся нашего оксфордца“. Последовало бормотание, выражавшее сожаления и поздравления. Поли бросила на меня отчасти шокированный взгляд: не думаю, что она когда-либо видела во мне человека, который вот-вот выйдет на пенсию по старости. Должен сказать, выгляжу я неплохо – загар мне к лицу, а поскольку пью я теперь только пиво – ну, большую часть времени, – то округлился и раздался в талии.
Сегодня прошел после полудня с Кваку обычные девять лунок, сказал ему, что в следующем году должен буду оставить колледж, и неопределенно поинтересовался, существуют ли у меня шансы отыскать здесь другую работу. Он откровенно ответил, что, на его взгляд, это почти невозможно – вы лишитесь дома, сказал он, и получите четверть годового жалования. Вам надо бы съездить в Ибадан, это по меньшей мере, а то и в Лагос.
По какой-то причине, мне не хочется покидать Африку, – я свыкся со здешней жизнью, она мне нравится, – а Британия и Европа кажутся теперь странно враждебными. Но я понимаю, что для 65-летнего англичанина, закончившего Оксфорд со степенью третьего класса, перспективы найти в этой стране работу наверняка скудны. Значит, никуда не денешься – назад в Лондон, на Тарпентин-лейн, – посмотрим какого рода жизнь смогу я обеспечить себе, скребя пером.
[Июль]
Поплавал в клубном бассейне и вернулся на Данфодио-роуд, ощущая, как солнце припекает мою непокрытую голову. Открыл бутылку „Стар“, посидел, попивая пиво, на веранде. Потом сошел в сад, побродил по его периметру, трогая ладонью деревья – казуарины, гуайяву, хлопчатное дерево, аллигаторову грушу, красный жасмин, – как будто эти последние прикосновения, эти летучие ласки, были своего рода прощанием с ними, с моими деревьями, с моей африканской жизнью. Слух мой полнился металлическим стрекотом цикад, от легкого ветерка над обесцветившейся травой вставал запах пыли. Я прислонился лбом к стволу дынного дерева и закрыл глаза, и тут услышал, как Годспид, мой садовник, встревожено спрашивает: „Сар – с вами все хорошо?“. Нет, захотелось сказать мне: боюсь все хорошо со мной никогда уже не будет.
Второй лондонский дневник
Логан Маунтстюарт вернулся в Лондон в июле 1971 года, по окончании летнего триместра, и снова поселился в своей квартире на Тарпентин-лейн, Пимлико. В качестве финансового обеспечения, у него имелись лишь пенсия по старости и сбережения (пять лет, в течение которых он вносил средства в пенсионный план У. К. Икири, были сроком слишком кратким, чтобы дать ему что-либо большее нищенского пособия), и потому он с усердием, пусть и не с энтузиазмом, вновь обратился к своей прежней профессии внештатного автора. Журнал „Форма правления“, главный источник его существования, в 1972 году закрылся, а Шейла Адрар из „Уоллас Дуглас Лтд.“ не смогла (или не захотела) добиться от какого-либо издателя аванса за давно вынашиваемый роман „Октет“. Удо Фейербах предложил ЛМС стать лондонским корреспондентом „револьвера“, а Бен Липинг, к этому времени уже страдавший раком простаты, от случая к случаю платил ЛМС за консультации, которые тот давал „Братьям Липинг“. На протяжении нескольких следующих лет ЛМС медленно, но верно впадал все в большее безденежье. Второй лондонский дневник начат весной 1975 года.
1975
Среда, 23 апреля
Отказался сегодня от услуг этой сучки Адрар. Зашел в агентство, чтобы сделать фотокопии нескольких журнальных статей, нужных мне для связанных с „Октетом“ исследований. Прежде всего, девица в приемной отказалась поверить, что я клиент фирмы, – но потом откопала где-то мою папку. Я сказал, что сам Уоллас Дуглас разрешил мне использовать оборудование офиса, когда я того пожелаю. Как бы там ни было, стою, делаю копии и при этом отчетливо сознаю смущенное перешептывание и едва ли не панику, царящую в офисе: кто этот старик в полосатом костюме? Что он себе позволяет? Не вызвать ли полицию? В конце концов, появилась сама Шейла Адрар, эффектно причесанная и имеющая в своем синем костюме с короткой юбкой вид весьма процветающий. „Логан, – сказала она с широчайшей и фальшивейшей улыбкой, – как приятно вас видеть“. Затем предложила мне помощь, собрала в стопку рассыпавшиеся листы и взглянула на счетчик копировальной машины. Шестьдесят две копии, сказала она, по два пенса за штуку, это будет фунт, шестьдесят четыре. Удивительно смешно, Шейла, ответил я и, отобрав у нее копии, направился к двери. Прошу вас, Логан, я хотела бы получить деньги, сказала она, здесь не благотворительная организация. Ну, тут уж я просто взорвался. Как вы смеете? – сказал я. – Вы хоть представляете, сколько денег я заработал для вашей фирмы? И вам хватает наглости требовать от меня оплаты нескольких копий? Стыдитесь. Со времен Второй мировой войны вы ничего для фирмы не сделали, сказала она. Верно! – рявкнул я. – Это так. И ни хрена не желаю иметь с вами дело дальше – со всей вашей бесполезной оравой! Подыщу себе другое агентство, – и я ушел.
Заглянул, чтобы немного успокоиться, в паб и обнаружил, что у меня трясутся руки – от чистого гнева, не от смятения, спешу добавить. Утром позвоню Уолласу, расскажу, что произошло. Возможно, он порекомендует мне кого-то другого.
Я доволен, что снова взялся за дневник, пусть даже назначение этой затеи выглядит довольно зловеще. Боюсь, дневник будет документировать упадок писателя; станет комментарием к литературной обстановке Лондона с точки зрения отжившего свой век бумагомараки. Эти последние акты писательской жизни обычно остаются неосвещенными, поскольку реальность их слишком позорна, слишком грустна, слишком банальна. Мне же, напротив, все это кажется теперь еще даже более важным – изложить, после всего, что было со мной прежде, факты такими, какими я их переживаю. Ни загородного дома, ну еще бы, ни увенчанных почестями закатных лет, ни порядочного уважения со стороны благодарной нации, ни воздаяния со стороны профессии, которой я служил десятки лет. Когда какой-нибудь лицемерный кровосос наподобие Шейлы Адрар имеет нахальство требовать фунт, шестьдесят четыре пенса с человека вроде меня, я усматриваю в этом истинный рубеж между двумя эпохами – не по причине ее беззастенчивости, а потому, что мне действительно нечем ей заплатить. Фунт, шестьдесят четыре, если их с толком потратить, способны обеспечить меня едой на три дня. Вот уровень, до которого я пал.
Итак, подсчеты. Активы: я владею квартирой на Тарпентин-лейн, Пимлико. Владею ее обстановкой. У меня около тысячи книг, кое-какая донельзя изношенная одежда, наручные часы, запонки и т. п. Доходы: мои книги больше не печатаются, стало быть и отчисления от их продаж равны нулю. У меня есть выплачиваемая государством стандартная пенсия по старости плюс незначительная добавка, примерно три фунта в неделю, из моего пенсионного фонда в У. К. Икири. Заработок пером: весьма нерегулярный.
Расходы: налоги, газ, электричество, вода, телефон, еда, одежда, транспорт. Машины у меня нет – езжу автобусом либо подземкой. Телевизора нет (прокат и лицензионное вознаграждение обходятся слишком дорого – я слушаю радио и мои граммофонные записи). Единственное, в чем я себе еще потакаю – роскошества моей жизни, – это спиртное, сигареты и редкие посещения кино или паба. Читаемые мной газеты я подбираю в автобусах и поездах подземки.
Держать голову едва-едва выше уровня воды мне позволяют случайные журналистские заработки и консультации, которые я даю „Братьям Липинг“. В прошлом году я заработал около 650 фунтов. В этом, до сей поры, – написана статья о Ротко (50 фунтов), рецензия на книгу о группе „Блумзбери“ (25 фунтов), кроме того, я оценил для „Братьев Липинг“ одну частную коллекцию (200 фунтов).
Питаюсь экономно – солонина (кулинарный лейтмотив моей жизни), жареная фасоль и картошка. Жестянку супового концентрата, если его основательно разбавить, можно растянуть на четыре-пять раз. Пакетик чайной заварки дает, при правильном использовании, три чашки слабенького чая. И так далее. Слава Богу, у меня был хороший портной. Последний комплект костюмов от Берна и Милнера протянет, при тщательном уходе за ними, еще долгие годы. Белье, носки, рубашки покупаются редко. Одежду я стираю вручную и высушиваю над газовой горелкой – зимой, либо на веревках в подвале – летом. О поездках за границу нечего и мечтать, если только их не оплатит целиком и полностью кто-то еще. К примеру, Глория пригласила меня этим летом в Ла Фачина – „на какой угодно срок“. Я сказал, что не могу позволить себе дорожные расходы, и поскольку она оплатить их не предложила, решил, что и у нее с деньгами тоже туго.
Я все еще попиваю – сидр, пиво, наидешевейшее вино, – и приладился самостоятельно скручивать себе сигареты.
Днем я отправляюсь в публичную библиотеку, чтобы продолжать посвященные „Октету“ исследования или писать мои редкие статьи. Вечерами перепечатываю их дома на машинке. Потом слушаю радио или пластинки, читаю. Два-три раза в неделю могу заходить в ближайший паб, „Корнуоллис“ – выпить полпинты горького пива. Я здоров, независим, но денег у меня нет. Я – просто – выживаю. Вот вам жизнь престарелого литератора, здесь, в Лондоне, в 1975 году.
[ПОЗДНЕЙШАЯ ВСТАВКА. 1982. В свое время я не обратил на это никакого внимания, однако в годы, когда у меня и впрямь не было ни гроша, я время от времени вспоминал слова, которые выкрикивал мистер Шмидт, пока от него удирала Монди / Лаура. НЕУДАЧНИК! Ты, английский неудачник… Полагаю, он считал это самым язвительным оскорблением, какое можно бросить мне в лицо. Однако, как мне представляется, такое поношение на англичанина – или на европейца – никак, в сущности, не действует. Мы знаем, что всем нам предстоит, в конечном итоге, потерпеть неудачу, а потому и слово это нам оскорбительным не кажется. Другое дело в США. Возможно в этом и состоит огромное различие между двумя мирами – в концепции „неудачничества“. В Новом Свете это окончательное позорное пятно, – в Старом оно вызывает лишь ироническое сочувствие. Интересно, что сказал бы по этому поводу Титус Фитч?]
Среда, 7 мая
В клуб „Травеллерз“, завтракать с Питером [Скабиусом]. Купил на рыночном лотке новую рубашку (за 80 пенсов), думаю, в моем темно-синем костюме и при галстуке ДРВМС выглядел я достаточно респектабельно. Слегка набриолинил и гладко зачесал волосы. Туфли вот выглядят подозрительно, как их ни начищай, – они малость растрескались, – но при всем том, вид я имел, полагаю, вполне элегантный.
Питер – дородный, краснолицый – осыпал меня скучными жалобами: на кровяное давление, на своих кошмарных детей, на неутолимую скуку существования на Нормандских островах. Я сказал: какой смысл иметь столько денег, если они вынуждают тебя жить в месте, которое тебе не по душе? Он сделал мне выговор: я ничего не понимаю, его финансовые управляющие непреклонны. Я воспользовался случаем, чтобы от души наесться – три булочки с острым супом, три овощных гарнира с жаренной бараниной, потом тертое яблоко со сливками и ломоть „уэнслидейла“ с сырной дощечки. Питеру теперь пить не дозволено (он думает, что у него начинается диабет), поэтому я в одиночку употребил полбутылки клерета и большой бокал порта. Питер проводил меня до дверей, я заметил, что он прихрамывает. И тут, впервые за нашу встречу, он задал вопрос обо мне: что поделываешь, Логан? Работаю над романом, сказал я. Чудесно, чудесно, неопределенно откликнулся Питер, а следом спросил, читаю ли я еще романы. И признался, что ему с романами сладить не удается, он читает только газеты и журналы. Я сказал, что перечитываю Смолетта – просто, чтобы ему досадить, – потом вышел на Палл-Малл и поманил такси. Мы обменялись рукопожатиями, пообещали не терять друг друга из виду. Я забрался в такси, и как только оно свернуло за угол Малл, остановил его и вылез. 65 пенсов за три сотни ярдов, однако трата того стоила – реноме я сохранил.
Воскресенье, 8 июня
Прошелся вчера до Баттерси-парка, посидел на солнышке, читая газету. Инфляция, как я вижу, составляет в Британии 25 процентов, стало быть, для поддержания моего шаткого существования, придется работать на одну четвертую больше. Напье Форсайт черкнул мне несколько строк, сообщив, что служит теперь в „Экономист“. Может, и для меня там найдется работа.
Потом побрел по улицам к Мелвилл-роуд, – что было серьезной ошибкой, однако я думал о Фрейе и Стелле, о наших прогулках по парку. Что случилось с нашей собакой? Как ее звали? [206]206
Томми.
[Закрыть]Меня потрясла моя неспособность вспомнить ее имя. Возможно, взрыв „Фау-2“ убил и ее. Если подумать, Фрейя, скорее всего, брала собаку с собой, когда встречала Стеллу из школы.
Вернувшись домой, просидел час, разглядывая их фотографии. Плакал и не мог остановиться. То были годы, в которые я испытывал настоящее счастье. Знание этого – и блаженство, и проклятие сразу. Хорошо сознавать, что ты смог отыскать в своей жизни подлинное счастье – в этом смысле, она не потрачена впустую. Но признаться себе, что больше ты так счастлив никогда не будешь, это тяжело. Стелле было б сейчас тридцать семь, наверное, вышла бы замуж, завела детей. Моих внуков. Или не завела бы. Кто знает, как может сложиться жизнь другого человека? Так что все эти любовные домыслы – дело пустое.
Выпил бутылку сидра, дожидаясь опьянения и всего, что за ним следует. Сегодня утром встал с головной болью. Во рту зловоние от моих гнусных самокруток. Глупый старый дурак.
Пятница, 1 августа
Один из нестерпимо жарких лондонских дней, когда асфальт под твоими ногами, кажется, мягчеет и тает. Даже мне пришлось отказаться от обычного моего пиджака с галстуком и откопать кричащую, хоть и выцветшую рубашку времен Икири. После полудня заглянул в „Корнуоллис“, выпить джина с тоником, – отпечатал на машинке рецензию для „Экономист“ (Напье расстарался – я рецензирую для журнала любые книги по искусству: 30 фунтов за один заход). В пабе тихо, спокойно, каждая поверхность вытерта дочиста в ожидании наплыва посетителей к ленчу. Я уселся у открытых дверей, чтобы меня обдувало ветерком, в ладони моей позвякивал холодный бокал, и услышал следующий разговор, происшедший между средних лет мужчиной и женщиной, что сидели на скамейке снаружи:
ЖЕНЩИНА: Ну как ты?
МУЖЧИНА: Не очень.
ЖЕНЩИНА: А что такое?
МУЖЧИНА: Здоровье. С сердцем нелады. И рак. Что называется, двустволка.
ЖЕНЩИНА: Ой, бедный.
МУЖЧИНА: Как Джон?
ЖЕНЩИНА: Он умер.
МУЖЧИНА: Рак?
ЖЕНЩИНА: Нет, покончил с собой.
МУЖЧИНА: Исусе-Христе.
ЖЕНЩИНА: Прости, все это так тяжело.
Она встает, входит в паб и садится в углу, одна.
1976
Четверг, 1 января
Встретил Новый год квартой виски („Клан Макскот“) и двумя жестянками „Карлбергского особого“. Думаю, так я не напивался со времен университета. Сегодня чувствую себя плохо, старое тело пытается совладать с токсинами, которыми я его накачал. На предстоящий год я взираю с настроением – каким? – неподатливого безразличия. Мне кажется удивительным и невероятным, что не так уж и давно у меня был дом с четырьмя слугами. Симеон прислал мне на Рождество открытку с пожеланиями доброго здравия, радости и процветания; он выразил также надежду, что я напишу много хороших книг. Радость и процветание представляются мне недостижимыми, так что, возможно, стоит сосредоточиться на поддержании того здоровья, какое у меня пока осталось, а это, глядишь, и поможет закончить одну-единственную книгу, еще сидящую во мне.
Написал для „Спектатора“ статью о Поле Клее. (Подумать только, когда-то я владел собственным Клее. Какой жизнью я тогда жил?). По непонятной причине, ставка „Спектатора“ упала до ничтожных 10 фунтов.
По чему я пуще всего скучаю, когда вспоминаю Африку, так это по игре в гольф с доктором Кваку на захудалом поле Икири. Скучаю и по гольфу, и по пиву, которое мы пили после игры на веранде клуба, глядя на садящееся солнце. Что мне нравится в гольфе? Он не требует большого напряжения сил, а это уже достоинство. Думаю, величайшее его преимущество, как спортивной игры, состоит в том, что как бы неуклюж ты ни был, ты все равно сохраняешь возможность произвести удар, который сравняет тебя с лучшими игроками мира. Помню один день в Икири, когда я, кое-как набрав к восьмой лунке (пар 4) семь очков, изготовился ударить шестой клюшкой по относительно недалекой – пар 3 – девятой. Меня томила жара, я потел да и чувствовал себя неважно – но вот я замахнулся, ударил, мяч взвился в воздух, один раз стукнулся оземь, отскочил и упал в лунку. Одним ударом с ти и прямиком в лунку. Удар исполненный блеска – лучшего не смог бы сделать даже чемпион мира. Не могу припомнить никакой другой игры в мяч, дающей ни на что не годному любителю шанс продемонстрировать такое совершенство. Этот удар целый год наполнял меня счастьем, стоило мне лишь вспомнить о нем. Да и сейчас наполняет.
Воскресенье, 15 февраля
Странный, жалобный телефонный звонок Глории, – она поинтересовалась, нельзя ли ей приехать и остановиться у меня на несколько дней. Я сказал, конечно – добавив обычные предостережения: отсутствие комфорта, отсутствие телевизора, темная полуподвальная квартира в нездоровом районе, и т. д. Спросил, зачем тебе приезжать в Лондон в феврале? Она ответила, зловеще, что ей необходимо повидать врача.
Насколько мне известно, у Глории имеется брат в Торонто и племянница в Скарборо, ни больше, ни меньше. Но для чего же и существуют старые друзья?
Забыл сказать, что проснулся в прошлую пятницу с каким-то посторонним предметом во рту и выплюнул его на подушку – то был один из моих зубов. Возможно, самое неприятное пробуждение за всю мою жизнь. Впрочем, я сходил в местному дантисту и тот меня успокоил. Все остальное выглядит более-менее прилично, сказал он, и затем отметил впечатляющее качество коронок и моста, которыми может похвастаться мой рот. Они, должно быть, обошлись вам в целое состояние, с легкой завистью произнес он. Спасибо вам, великолепные дантисты Нью-Йорка. Перспектива утраты зубов внушает мне иррациональный страх – на самом-то деле, не иррациональный, более чем рациональный. Однако, если предположить, что я проживу достаточно долго, она, скорее всего, неизбежна. Кто-то говорил мне (кто?), что и Во, и Т. С. Элиот утратили волю к жизни, когда им вырвали зубы и вставили новые. Может быть, это чисто писательская проблема? Чувство, что когда наши зубы лишаются прежней хватки, можно спокойно выбрасывать белый флаг?
Пятница, 27 февраля
Вчера приехала Глория, я отдал ей мою комнату, – хотя, следует сказать, я слишком стар для того, чтобы с удобством спать на софе. Выглядит она ужасно: отощавшая, желтая, лицо сморщилось, руки дрожат. Я спросил, что с ней такое, она ответила, что не знает, однако уверена – нечто серьезное. Волосы ее высохли и истоньшились, кожа вся в пятнышках и отвисает, как у старенькой ящерки. Глория думает, что у нее нелады с печенью („Иначе с чего бы я приобрела этот странный цвет?“), но жалуется также на боли в спине и бедрах. И еще она все время задыхается.
Тем не менее, мы были рады увидеть друг дружку и выдули большую часть бутылки джина, привезенной ею мне в подарок. Я сварил нам немного спагетти с соусом – из консервной банки. Впрочем, к еде она почти не притронулась, ей хотелось пить, курить и болтать. Я поведал ей о моей последней встрече с Питером, мы хохотали и кашляли друг на друга. Глория сказала, что Ла Фачину она продала, а деньги перевела сюда. „Ничего я за нее не получила, – пожаловалась она. – Гроши – после выплаты налогов и долгов“. Я спросил, где она думает остановиться, и Глория ответила: „Логан, милый, я предпочла бы остановиться у тебя. Пока доктор меня не посмотрит и мы не узнаем прогноз“. Собираюсь отвести ее в мою клинику на Люпус-стрит.
Сегодня мне стукнуло семьдесят.
Вторник, 9 марта
Глория вернулась из больницы. По какой-то причине она не захотела, чтобы я навещал ее там или привез оттуда домой. Я услышал, как она высаживается из такси, и выскочил навстречу. Она уже успела побывать в магазине, купить шампанское, немного паштета из гусиной печенки и кекс. О том, что происходило в больнице, или что сказали ей доктора, ни слова.
Так что сегодня вечером мы раскупорили шампанское, съели, намазывая его на тосты, паштет, и тут Глория сообщила, что у нее неоперабельный рак легких. „Подозреваю, там все проросло, – сказала она. – Правда, они не могут – во всяком случае, пока – объяснить, почему так болит спина“. Она спросила, можно ли ей остаться у меня: ни в раковой палате, ни в хосписе ей умирать не хочется. Я ответил, конечно можно, но предупредил, что я очень беден, и удобства, которые я сумею ей предоставить, будут определяться этим обстоятельством. Глория сказала, что у нее есть в банке 800 фунтов, я могу считать их своими. „Давай как следует гульнем на эти деньги, Логан“, – с ухмылкой сказала она, – как будто мы были с ней школьниками, затевающими ночной кутеж. Я подумал, что даже 800 фунтов нам надолго не хватит, и должно быть, Глория прочитала это в моих глазах, потому что кивнула в сторону висящего над камином нашего с ней двойного портрета. „Возможно, пора обратить наследство Пабло в наличность“, – сказала она.
Среда, 10 марта
Сегодня утром позвонил Бену в Париж и спросил как он. „Хворый, но живой“, – ответил Бен. Я поприветствовал его как нового члена нашего клуба. Затем рассказал о наброске Пикассо и Бен, не глядя, тут же предложил мне 3 000 фунтов.
Я вынул рисунок из рамки и отрезал свой портрет ножницами. На моей половинке написано только мое имя „Логан“ – все прочее посвящение и представляющая основную ценность подпись приходятся на половину Глории: „ Mon amie et mon amie Gloria. Amitiés, Picasso“ [207]207
„Другу и другу Глории. С дружескими чувствами, Пикассо“ ( франц.) – Прим. пер.
[Закрыть]и дата. Наши части рисунка не превышают размером почтовой открытки, а без подписи мой портрет ничего не стоит, и все таки это память, и мне приятно, что тот завтрак в Канне, столько долгих лет назад, принесет бедной Глории ощутимую пользу.
Пятница, 19 марта
День вполне мог быть и зимним. Низкие, сланцево-серые тучи, порывистый восточный ветер, несущий с Северного моря дождь со снегом. Глория хорошо устроилась в моей комнате – граммофон, джин, книги, журналы. Едим и пьем мы, как королевская чета в изгнании. Купаться и переодеваться Глории помогает ее собственная, приходящая ежедневно медицинская сестра (услуги которой оплачиваются наследством, оставленным нам Пикассо), время от времени заглядывает и сестра патронажная, чтобы проверить состояние Глории и пополнить ее запас медикаментов. Глория не проходит ни радиотерапии, ни какой бы то ни было из новейших „убойных“ лекарственных терапий. Она изображает веселость и бесшабашность – говорит, что плевать ей на все, лишь бы не было больно. „Я не буду занудничать, милый, – сказала она. – Тебе не придется выносить мой горшок, подтирать мне задницу или еще что-нибудь в этом роде. Пока мы можем позволить себе сестру, все будет выглядеть так, точно у тебя поселилась вздорная старая приятельница“. Так что я живу прежней жизнью, хожу в публичную библиотеку, работаю там, а ранним вечером возвращаюсь домой. Глория вполне довольна тем, что проводит день в одиночестве и способна более-менее позаботиться о себе сама, однако вечерами ей требуется компания, – я сижу с ней, читаю ей то да се из газеты, мы слушаем музыку и клюкаем. К десяти я обычно уже порядочно набираюсь, да и Глория начинает клевать носом и задремывать. Я вынимаю бокал из ее руки, поправляю одеяла с покрывалом и на цыпочках выхожу из комнаты.
Спится мне на софе плохо, я все воображаю, как за дверью множатся раковые клетки, и стараюсь не думать о той Глории Несс-Смит, которую знал когда-то. Просыпаюсь рано утром, сразу же бреюсь и принимаю душ, чтобы оставить ванную комнату свободной. Молю Бога о том, чтобы сестра пришла еще до того, как проснется Глория, до того, как я услышу ее полный ужаса крик: „Логан!“, – когда сознание вернется к ней и она поймет, в каком пребывает состоянии. По утрам на Глорию всегда первым делом накатывает страх, и лишь потом она надевает маску бодрого смирения.
Когда появляется сестра, я ухожу покупать дневную провизию – нередко в продуктовый магазин „Харродза“, чтобы отыскать там какие-нибудь экзотические сладости, к которым неравнодушна Глория („Как насчет кумквата сегодня? Засахаренных каштанов?“). Открыл счет в винном магазине, откуда нам доставляют всю нашу выпивку. Уже неделю мы пьем джин. Если я остаюсь дома, мы начинаем с бутылки вина перед ленчем, а к наступлению ночи переходим на зелье покрепче, и тут уж душа поднимается у нас из пяток аж до самых колен. Я как-то спросил у нее, не хочет ли она, чтобы я связался с Питером, и Глория сразу же ответила „нет“, так что я эту тему оставил.
Я не думаю о том, что было; не думаю о том, что будет. Не строю планов, связанных со смертью Глории – а именно ее оба мы и дожидаемся, – на самом деле, я ничего решительно не знаю о формальностях, выполняемых в таких случаях. Несомненно, скоро узнаю. Пока же меня более чем занимает „здесь и сейчас“.
Воскресенье, 4 апреля
Глория достигла состояния изношенности и истощенности, в котором ее черты обрели вид заимствованных у кого-то другого: глаза слишком велики для глазниц, зубы слишком велики для рта, чужие огромные нос и уши. Губы ее вечно мокры и поблескивают, аппетита она лишилась. Ей удается справиться с половинкой яйца в мешочек и шоколадкой с мягкой начинкой, однако мир ее приглушен и размыт морфиновыми коктейлями, которые она потягивает, и все, на что Глория способна– это минуту-другую сфокусировать взгляд на мне. Она делает над собой огромные усилия – я вижу, ей не хочется чувствовать, что ее уносит куда-то. Газеты я ей теперь читаю по утрам, она изо всех сил старается сосредоточится на услышанном: „Почему Тед Хит такая собака на сене?“; „Что это, собственно, означает – „панк“?“.
От нашего наследства осталось около 1 200 фунтов – я подсчитал, что их хватит на месяц с небольшим, – в любом случае, счета за спиртное стремительно уменьшаются, я снова стал более-менее трезвенником.
Из клиники на Люпус-стрит к нам регулярно заходят врачи, каждый день новый – их там, должно быть, десятки, – я спросил у последнего насчет прогноза. Это может случиться завтра, а может и в следующем году, сказал он и привел несколько поразительных примеров того, как люди, которым полагалось умереть, месяцами цеплялись за такую вот полужизнь. Спасибо Господу за опиум, сказал я. Телесными функциями Глории ведают медицинские сестры – я и понятия не имею, что у них там происходит.
Я сижу и читаю ей, и глаза мои то и дело перепархивают на пульсирующую, изогнутую вену у нее на виске, и я бессознательно подстраиваю свои вдохи и выдохи к неудобному, нитевидному ритму этой вены. Завод в часах Глории подходит к концу.
Вторник, 6 апреля
4:35 дня. Глория умерла. Я вошел две минуты назад в ее комнату, а она лежит мертвая. Точно в той же позе, какую приняла за полчаса до того, – голова откинута, ноздри расширены, губы натужно раздвинулись, выставив напоказ зубы. Глаза закрыты, однако полчаса назад, она, как мне показалось, ласково сжала мне руку ладонь, когда я взял ее ладонь в свою.
Вот только колени Глории были теперь приподняты, как будто усилия, которых потребовала последняя попытка глотнуть воздуха, притянули к этой работе все ее тело. Я засунул руки под простыню, ухватил Глорию за лодыжки, потянул их на себя. Ноги выпрямились с такой податливостью, точно в ней еще сохранилась жизнь. Почему я был так участлив к Глории? – спрашиваю я себя. Потому что она мне нравилась; потому что мы были любовниками, разделившими какую-то часть наших жизней. Потому что она была моим другом. И еще потому, что в сделанном мной для Глории я вижу с охотой исполненный долг и думаю – с надеждой, – что за это кто-то сделает то же самое и для меня. Нелепость, я знаю, иллюзорные мечтания. Такие сделки с жизнью не заключаются, тут quid pro quo [208]208
Услуга за услугу ( лат.) – Прим. пер.
[Закрыть]не проходит.
Суббота, 10 апреля
В холодный апрельский день крематорий „Долина Патни“ представляет собой, должно быть, одно из самых траурных и гнетущих мест во всей стране. Нелепая викторианская часовня изобретательно исполняет сразу две роли, поскольку крематорий стоит посреди огромного, раскидистого, неопрятного некрополя. Часовню окружают, нависая над нею, темные тисы, подобные гигантским монахам в капюшонах, сообщающим еще большую мрачность этой и без того мрачной сцене.
На похороны пришел Питер, а кроме него, – удивительное число незнакомых мне людей: прежних коллег Глории, каких-то смутных родственников. Питер спросил у меня, где она умерла. В моей квартире, ответил я. В твоейквартире? Весь стародавний, полный подозрений антагонизм Питера немедля воскрес, отчего лицо его бросило в краску. Впрочем, он совладал с собой: ты очень добр, старина, сказал он.
У себя в отеле он стал более многоречив, осыпал меня вопросами – очень ему любопытно было узнать, почему его прежняя жена умерла в полуподвальной квартире его же самого старого друга. Он спросил, действительно ли Глория нравилась мне. Конечно, сказал я: ее общество всегда было удивительно интересным – такая веселая, такая прямая, такая чудесная грубиянка.








