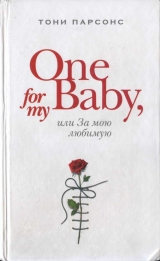
Текст книги "One for My Baby, или За мою любимую"
Автор книги: Тони Парсонс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
7
В воде Роуз была прекрасна. Она занималась дайвингом многие годы, задолго до того, как приехала в Гонконг. В воде она словно становилась невесомой, и именно это качество отличает хороших ныряльщиков от остальных смертных.
Под водой мы с ней смотрелись как существа из разных миров. Я всегда нервничал и дергался, стараясь достичь естественной плавучести, постоянно возился с регулятором балласта, но все равно то всплывал чуть ли не к самой поверхности, то погружался слишком уж глубоко. Но даже если и достигал нужного уровня, долго на нем не удерживался.
А Роуз зависала, как бы парила в воде, умудряясь это делать с помощью одного только дыхания. И казалось, подводный мир сам вторил ее едва различимым вдохам и выдохам.
Я вечно возился со своими причиндалами для ныряния: то воду выливал из маски, то косился на манометр, проверяя, сколько у меня осталось воздуха. Воздух я всегда почему-то экономил, словно чего-то боясь, и все время выныривал раньше всех остальных. Баллон я прилаживал, будто в космос собирался, – и все равно он елозил у меня по спине.
Под водой мне становилось не по себе. А Роуз, отличная ныряльщица, чувствовала себя там как рыба в воде. К дайвингу она пристрастилась еще дома, пройдя свою первую квалификацию в ледяных водах северного побережья Ла-Манша и в многочисленных затопленных карьерах в самом сердце «доброй старой Англии». Так что закалка у нее была отменная. Потому Азия стала для нее райским уголком: ласковая зеленоватая вода, бесконечные коралловые рифы и такое пышное великолепие подводного мира, что стаи экзотических рыбок порой застили солнце.
Подводному плаванию я научился из-за нее. Во время нашего медового месяца в Пуэрто-Галера на Филиппинах я прошел экспресс-курс, обучаясь дышать с аквалангом в бассейне отеля. Помогали мне местный инструктор и парочка двенадцатилетних парнишек-тайваньцев. Теорию я штудировал в маленьком классе за складом магазинчика для дайвинга. И вот настал день, когда я в первый раз погрузился и поплыл самостоятельно. Роуз прыгала от радости наравне со мной, а может, даже выше, когда я получил квалификацию.
Были моменты подлинного счастья, которые невозможно забыть. Однажды мы на выходные отправились на побережье. Я израсходовал почти весь воздух за несколько минут и получил с катера сигнал на экстренное всплытие. По регламенту следовало зависнуть на глубине пяти метров, чтобы из организма удалились излишки азота. Хотя у Роуз воздуха было предостаточно, она подплыла ко мне, и эти несколько минут зависания стали одними из счастливейших мгновений моей жизни. Мы вместе парили на мелководье, все в переливах журчащих солнечных лучей, риф сверкал, словно потаенная заветная сокровищница, а вокруг нас кружились стайки рыб-ангелов, вплетаясь в поднимавшийся ввысь хоровод воздушных пузырьков.
Но дайвинг был не единственным из того, что у Роуз получалось лучше меня. Она как рыба в воде чувствовала себя и на пышных приемах. И как бы я ни старался – а я старался изо всех сил сделать ей приятное и соответствовать ей, – у меня мало что получалось. Ну не дано мне это, и все тут. Этим-то мы и отличались друг от друга, и не только под водой.
Я плавал, и притом довольно примитивно. Она же летала и парила.
В тот день все не задалось с самого начала.
В пятницу вечером стояла тихая и ясная погода, типичная для Филиппин конца мая. Но когда субботним утром мы отправились на пляж, кромки облаков начали отливать свинцом, а на гребнях волн показались пенные барашки.
Мы уже облачились в гидрокостюмы. Я нес большой желтый прорезиненный пакет с масками, трубками и ластами. Остальное мы обычно брали напрокат в небольшой лавчонке на станции. Я заметил, что Роуз то и дело искоса поглядывала на небо.
– Могли бы и в бассейне поплавать, – сказал я. – Что-то погода мне не нравится.
– Ничего, разгуляется, – ответила Роуз. – Рамон не дал бы добро, если б что-то было не так.
Рамон, плотно сбитый филиппинец лет сорока с небольшим, являлся старшим инструктором по дайвингу. На всех своих подопечных он смотрел с молчаливым достоинством и чуть свысока. Тамошнее побережье печально известно своими быстрыми, коварными течениями. Потоки могут закрутить так, что без опытного инструктора не выбраться. Мы уже не первые выходные приезжали сюда, и каждый раз Рамон нас вел и подстраховывал. Но когда мы пришли на станцию, его там не оказалось.
Вместо него в видавшем виды гидрокостюме сидел худой парнишка лет двадцати, непривычно высокий для филиппинца. Он зубоскалил с двумя туристками из Европы, видимо из Скандинавии, статными блондинками, о которых говорят «кровь с молоком».
– А где Рамон? – спросил я.
– Рамон приболел. – Парень мельком взглянул на меня, с явным сожалением отрываясь от блондинок. – Сегодня я вместо него.
Мы с Роуз переглянулись. Она пожала плечами и улыбнулась. Ей действительно очень хотелось понырять. Мы подошли к другим ныряльщикам, стоявшим рядом с линейкой потертых воздушных баллонов, и начали потихоньку надевать снаряжение. В это время в заливе показался катер, который не спеша направился к берегу. Нос его подымался и опускался в такт волнам.
Я выбрал баллон, вентиль и регулятор, соединил их между собой. На двух рукавах регулятора имелись загубники – черный для меня и ярко-желтый для партнера, на третьем рукаве были два приборчика: манометр и глубиномер, четвертый же заканчивался разъемом, который я защелкнул на баллоне с небольшим вентилем, которым я мог регулировать плавучесть, отпуская его или затягивая. Наконец я открыл клапан бака и, услышав характерное шипение, проверил давление воздуха.
Индикатор показывал 210 бар. Полный бак. Все как надо, только что-то все-таки не так.
Что мне нравилось в Рамоне, так это то, что он всегда следил, как мы надевали снаряжение. Он советовал, как распределить вес, проверял подгонку, лично убеждался, что все агрегаты исправны. При общении с Рамоном всегда создавалось отнюдь не обманчивое впечатление, что безопасность превыше всего.
Но когда крепчавший ветер начал взбивать пену на гребешках волн, я вдруг подумал, что для этого костлявого юнца превыше всего были налитые сиськи блондинистых норвежек.
Я стоял на корме, чувствуя, как она ныряет под ногами вместе с моим желудком. На мне были ласты, так что равновесие я сохранял сравнительно легко, а вот двигался с трудом. Я смотрел на торчавшие над волнами головы, и они казались мне очень беззащитными.
Все уже попрыгали в воду. Костлявый инструктор. Норвежки. Молодая пара из Японии. Пожилой немец с брюшком-мячиком, загоревший так, будто прожил полжизни в тропиках. И Роуз, пристально смотревшая на меня сквозь стекло маски. Все ждали меня.
Дождь лил как из ведра. До берега было недалеко: мы дошли до сектора минут за двадцать, а то и меньше, но его почти скрывала повисшая в воздухе солено-дождевая дымка, которая, казалось, становилась с каждой секундой все плотнее. Над катером неслись и ревели черные тучи. Громыхнул гром, где-то у горизонта полоснула молния. Потоки воды хлестали из стороны в сторону. Я положил одну руку на маску, другую – на баллон и шагнул вниз.
Я упал в воду, на секунду погрузился и тотчас вынырнул. Волны оказались выше, чем казались с катера, и я набрал полный рот воды, которую с трудом вытолкнул наружу.
Маска уже запотевала. Следовало плюнуть на стекло и промыть морской водой, это обычно помогало, но в тот раз я просто не успел все это сделать. Худощавый инструктор собрал нас на носу, подробно объяснил «диспозицию», а потом все как-то сразу попрыгали в воду.
Я стянул маску, сплюнул на стекло и хорошенько промыл ее водой. Роуз уже плыла ко мне.
– Ты как?
– Рамона здесь не хватает, – ответил я, глотая солоновато-горькую воду.
– Это точно. Ну что, поехали?
Я натянул маску, заметил, что остальные уже погружаются, быстро вставил загубник и посмотрел на Роуз. Она показала большими пальцами вниз, что значило погружение, и я повторил ее жест. Чуть выпустив воздух из костюма, я выдохнул и тотчас резко начал уходить ногами вниз.
Я видел корпус катера, других ныряльщиков рядом, а много ниже нас парил инструктор. И тут я ощутил резкую боль в переносице. Я погружался слишком быстро, и перепад давления в носовых пазухах вызвал резкий спазм.
Роуз была рядом и успокаивала меня, медленно двигая руками на уровне груди, что означало «все хорошо, все хорошо». Я кивнул, поднялся на метр, и спазм исчез.
Сделав жест «о’кей» – «все нормально», – зажал нос, осторожно выдохнул и снова попытался пойти вниз. На сей раз мне это удалось, и я начал погружение безо всяких «носовых помех».
Видимость была никудышная. Я привык, что море пронизано лучами солнца и вокруг бурлит подводная жизнь, но в тот день оно было мрачным и темным, лишь несколько рыб проплыли яркими призраками в стремительно сгущавшемся сумраке вод. И тут вдруг я понял, что мы с Роуз совсем одни.
Она словно парила в воде рядом со мной и неторопливо осматривалась по сторонам. Но других ныряльщиков поблизости почему-то не было. Они все куда-то разом подевались. Мне в маску стала проникать вода. Я дернул головой вверх, оттянул маску и резко выдохнул через нос. Получилось. Роуз смотрела на меня широко раскрытыми голубыми глазами и водила из стороны в сторону большим пальцем.
«Куда плыть? В каком направлении?»
Я тоже принялся вглядываться в темноту, надеясь увидеть где-нибудь невдалеке силуэт плывущего человека, но ничего похожего обнаружить мне не удалось. Я поглядел на корпус катера, теперь находившегося высоко над нами. Мне показалось, что он удаляется. А может, это нас самих уносило куда-то в сторону подводным течением.
Роуз повела большим пальцем вправо.
«Плывем туда».
Но я отрицательно покачал головой. Она что, совсем с ума сошла, предлагая плыть в открытое море? Я решительно указал в противоположную сторону, туда, где, по моему мнению, находился берег.
«Плывем туда».
Но теперь настала ее очередь упрямиться. Она постучала по компасу, который прикрепила себе на запястье.
Мне ничего не оставалось, как неохотно соединить в колечко большой и указательный пальцы.
«Хорошо. Я согласен».
Она поплыла первой, и я послушно последовал за ней в темноту. Во рту у меня пересохло – так сильно я нервничал. Я посмотрел на стрелку манометра: воздуха пока что достаточно.
И вдруг мы оказались над ним. В темной воде возвышалась груда серого и черного металла, покрытого кораллами, наросшими на нем за пятьдесят с лишним лет.
Затонувший боевой японский корабль времен Второй мировой войны.
Мы довольно улыбнулись, посмотрев друг на друга. Нам было одновременно и радостно совершить такое открытие, и немного страшновато. Собственно, из-за этого корабля мы и отправились сегодня в подводное путешествие. Однако остальные члены группы все не показывались. Наверное, они подобрались к кораблю с другой стороны.
В тусклом свете виднелась только незначительная часть судна. Но теперь это нас не беспокоило.
Корабль находился на большой глубине, однако верхняя палуба и капитанский мостик оказались в пределах досягаемости. Мы подплыли поближе – и мое сердце сжалось от боли. Темные окошки судна показались мне чем-то вроде пустых глазниц, а мертвое дерево палубы напомнило высушенные кости. А сколько людей погибло здесь?.. Мы находились на своеобразном кладбище.
Я понимал, что нам нельзя задерживаться. Роуз указала мне на черный провал трюма, после чего подняла вверх большие пальцы и снова указала на черноту. Но я решительно замотал головой. Да она с ума сошла. Я выразительно постучал по манометру. Пора подниматься наверх.
Роуз зависла над бездной, скрестив руки на груди. Затем она резко дернулась назад, потому что в этот момент из трюма показалась крупная черепаха, и Роуз чуть не столкнулась с ней. Она взглянула на меня округлившимися от удивления глазами, и я не мог сдержать улыбки.
Голова черепахи напоминала физиономию столетнего старика, тем не менее рептилия двигалась на удивление грациозно. Ее лапы напоминали волшебные весла. Черепаха неспешно заскользила над поверхностью затонувшего корабля, словно любуясь собой как олицетворением совершенной красоты. В каком-то смысле я и сам мог бы согласиться с подобным утверждением. Поэтому ничуть не удивился, когда увидел, как Роуз поплыла вслед за черепахой.
Черепаха – видимо самка, если судить по размерам, – повернула свою лысую голову, разглядывая Роуз, и заморгала, но это показалось мне скорее выражением ее застенчивости, а не предупреждением об опасности. Роуз осторожно дотронулась до ее панциря и перевернулась на спину. Ее лицо выражало бескрайнюю радость. А уже в следующий миг нас буквально накрыло сильное подводное течение.
Мне показалось, что меня подхватила чья-то гигантская рука, а потом швырнула в неведомый туннель, который простирался до самого конца Вселенной. Роуз, черепаха и затонувший корабль мигом куда-то исчезли. Я опускался в ледяную черноту и никак не мог остановиться. Увидев стену из кораллов, я попытался подплыть к ней и начал усиленно двигать руками и ногами. Однако очень скоро мои конечности утомились и перестали мне повиноваться. Меня продолжало уносить, и тогда я подумал, что это путешествие станет последним в моей жизни.
В следующее мгновение я больно ударился лицом и боком о кораллы, загубник выпал у меня изо рта, стекло маски раскололось. Я ухватился обеими руками за кораллы, не обращая внимания на их острые края, которые тут же впились в мое тело, разодрав кожу. Я глотнул морской воды, потом принялся искать загубник и, нащупав его, сразу же стал судорожно хватать ртом спасительный воздух. При этом я практически уже ничего не видел вокруг. Во рту снова стало сухо. Гидрокостюм сбоку разорвался о кораллы, и все туловище ныло от боли.
Я огляделся по сторонам в надежде найти Роуз. Но ее нигде не было видно. Проверил стрелку глубиномера: сорок метров. Взглянул на манометр: тридцать бар. Но я не мог подниматься на поверхность. Меня же начнет искать Роуз, а она определенно будет искать меня здесь!
Тут я наконец увидел ее. Она держалась руками за кораллы, но тело ее из-за сильного течения приняло горизонтальное положение. Я заметил, что она потеряла маску. Глаза ее были полузакрыты. Роуз, наверное, почти ничего не видела, но тем не менее успела одной рукой провести плавную линию на уровне груди.
Успокойся, успокойся.
Я кивнул. Мне хотелось плакать и смеяться одновременно. В следующую секунду я начал всплывать наверх. Она схватилась за меня с такой силой, какой я от нее даже не ожидал, не позволяя подниматься выше. Я знал, что если всплыву слишком быстро с такой глубины, то обязательно заработаю декомпрессионную болезнь и, скорее всего, погибну. Но я ничего не мог с собой поделать, не мог остановиться и все всплывал.
Роуз вытянула в мою сторону палец, и тут я увидел, что потерял балластный пояс. Продолжая цепляться за меня, Роуз в отчаянии отколола ребром ладони от кораллового рифа большой кусок и сунула его мне в руку с тем, чтобы я стал тяжелее. Но мои пальцы были изодраны кораллами, и я не смог удержать ее спасительный дар, который почти сразу же выскользнул из онемевшей руки.
Я снова посмотрел на стрелку манометра. Воздуха в баллоне фактически не оставалось. Роуз воткнула мне в рот свой запасной загубник, но и это почти не помогло, поскольку ее баллон тоже практически опустел. Мы оба начали задыхаться от нехватки кислорода.
Роуз коснулась рукой моей головы.
В следующую секунду мы оторвались от кораллового рифа.
Я начал подниматься навстречу свету, а Роуз, напомнившая мне в тот момент астронавта, потерявшегося в космосе, медленно исчезла в темноте, простирав шейся словно в саму вечность. Воздушных пузырьков рядом с ней уже не было.
Я смотрел в ту сторону, где видел ее в последний раз, и из моих глаз брызнули слезы. Внутри расколовшейся маски они смешивались с кровью, лишая меня возможности видеть хоть что-нибудь вокруг. Я попытался позвать ее по имени, но не смог выдавить ни звука.
Она была смыслом всей моей жизни…
8
Первое, на что я обращаю внимание, увидев ее, – это одежда.
Черный плащ расстегнут, и потому я имею возможность рассмотреть ее модную кофточку, короткую юбку и черные колготки. Обута она в меховые полусапожки на высоком каблуке. По-моему, я где-то слышал, что их называют «кошкины лапки». Можно подумать, что она собирается хорошо провести вечер в клубе, правда, не в центре города, а где-нибудь на глухой окраине. И что еще сразу бросается в глаза, так это ее лицо с толстым слоем макияжа, неестественно длинные ресницы и ярко накрашенные губы. Кожа у нее бледная, а волосы светлые. Но корни уже отросли, нужно бы подкрасить. Через колготки, конечно, трудно разглядеть, но мне кажется, что на одной лодыжке она носит браслет-цепочку. Во всяком случае, не исключено. Она симпатичная, но уж очень у нее уставший вид. Чем-то она напоминает мне бывшую королеву красоты, которой больше не улыбаются ни удача, ни успех.
И эта особа оказалась в школе Черчилля как раз в тот момент, когда я пришел на работу. Обычно здесь, в учительской, совершенно пусто. Но вот сегодня единственное кресло занято этой симпатичной, но очень усталой молоденькой женщиной. Она углубилась в чтение какой-то потрепанной книжки в мягкой обложке и, кажется, уже не замечала ничего вокруг.
«Странно, – размышляю я. – Не слишком много учителей одеваются в такой манере».
– Вы это читали? – спрашивает она.
Голос у нее удивительно чистый, а произношение на редкость правильное. Скорее всего, она приехала к нам из Эссекса. В Лондоне уже давно так не говорят.
– А что это за книга?
– «Сердце – одинокий охотник». Автор, Карсон Маккалерс, написала этот роман, когда ей было двадцать три года. В нем рассказывается о жизни молоденькой девушки из Джорджии по имени Мик в годы Второй мировой войны.
– Я знаю, о чем эта книга. Она об одиночестве. Когда-то мои ученики проходили ее.
– Правда? – Сильно накрашенные глаза чуть округлились от удивления.
– Да. Я пытался учить пятнадцатилетних оболтусов, которые вряд ли вообще понимали, что сердце существует и способно переживать.
– Вы действительно разбирали на уроках эту книгу?
– Совершенно верно.
– Но вы сами читали ее?
– То есть?
– Я хотела спросить, вам она понравилась? Что она значила лично для вас?
– Ну, мне кажется, что сюжет несколько…
– Потому что я считаю, что в книге рассказывается о том, как жизнь обманывает человека, – перебивает она.
– Ну… понимаете, центральной темой в книге является…
– Вы только взгляните на Мик. В самом начале она полна мечтаний, в ее голове зреет масса всевозможных планов. Ей хочется путешествовать по миру. Она мечтает стать музыкантом. Ей не терпится поскорее выбраться из своего маленького городка. Все вокруг изумляет и восхищает ее. А потом жизнь ее обманывает.
– Обманывает?
– Ну да. Сколько ей лет в конце книги? Шестнадцать? Мик приходится работать, потому что ее семья очень бедна. И эта девушка уже знает, что ни одно из ее сокровенных желаний никогда не исполнится. Жизнь обманула ее. – Незнакомка улыбается и печально качает головой. – Вот так-то! И вы проходили на своих уроках «Сердце – одинокий охотник»! Просто невероятно.
– Кстати, меня зовут Элфи. И можно для удобства сразу перейти на «ты».
Она поднимается из кресла:
– Джеки Дэй.
Затем женщина совершает нечто такое, отчего становится понятно, что она вовсе не преподаватель.
Джеки подходит к шкафчику в углу комнаты, с минуту возится там, а когда поворачивается ко мне, то я вижу на ее руках желтые резиновые перчатки. Зачем они понадобились ей для преподавания английского языка?
Затем она облачается в синий нейлоновый халат, похожий на тот, что носит моя мама, когда трудится на кухне в школе Нельсона Манделы. И вот Джеки уже стоит передо мной с ведром в одной руке и бутылочкой моющего дезинфицирующего средства – в другой.
Эта сцена могла бы напомнить эпизод из фильма, где Кларк Кент внезапно превращается в Супермена. Если, конечно, Супермен при этом работал бы уборщицей.
Меня вынули из воды, положили на дно лодки и надели кислородную маску.
Помню голоса, говорившие на местном наречии. Кто-то что-то громко кричал в рацию. Потом заработал мотор лодки. Мне сообщили что-то насчет декомпрессионной камеры, имеющейся на одном из островов, куда меня срочно следовало доставить. В моем теле и крови блуждали пузырьки избыточного азота, хотя я этого пока не чувствовал. Но вполне определенно болезнь могла проявиться в самом ближайшем будущем. Декомпрессионная болезнь.
Помню, как я лежал плашмя в лодке с кислородной маской, а дождь хлестал по лицу. Я попытался привстать, чтобы попросить их не уплывать. Ведь нужно было еще дождаться Роуз. Но тут-то кессонная болезнь начала свое жуткое дело. Резкая боль в спине заставила меня застонать. Я чуть не задохнулся, поскольку еще никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Глаза наполнились слезами, и я почти ничего не видел вокруг себя. Впрочем, когда слезы высохли, со зрением все равно творилось что-то непонятное: все предметы расплывались, и я никак не мог сосредоточиться. С каждой секундой я видел все хуже и хуже. Меня затошнило, закружилась голова, а во всем теле началось неприятное покалывание, особенно в области шеи, плеч и позвоночника. Но больше всего меня напугало то, что я вдруг начал слепнуть. Пока мы плыли на остров, я лежал с закрытыми глазами, потому что боялся надвигающейся на меня полной темноты.
Когда достигли берега, меня быстро положили на носилки, а затем перенесли в карету скорой помощи. К тому времени я уже не мог пошевелить ногами. Я даже не чувствовал их. А еще казалось, что меня методично бьют по голове молотком. Кто-то что-то сказал насчет воздушной эмболии. Будто где-то у основания моего черепа образовался воздушный пузырек, поэтому я и не чувствовал ног. Воздушная эмболия. О господи! Помню, что я так и не открыл глаза. Помню, как молился. И хотя я потерял власть над своим телом, я не хотел умирать. И я очень боялся.
Завывая сиреной, карета скорой помощи медленно маневрировала в плотном транспортном потоке. Когда мы подъехали к больнице, нас уже, видимо, поджидали, потому что я услышал сразу несколько возбужденных голосов, говоривших и на английском языке, и на местном наречии. Потом носилки понесли куда-то по больничным коридорам. Затем я очутился в непонятном месте, напомнившем мне холодный подземный склеп. Я услышал звук открываемой железной двери, меня внесли внутрь какого-то помещения, после чего дверь закрыли. Это и была декомпрессионная камера.
Кто-то находился рядом со мной. Женщина. Филиппинка средних лет. Она держала мою голову, гладила по волосам и на хорошем английском объяснила, что я серьезно болен, но потом все будет хорошо. И еще она пообещала всегда оставаться со мной.
В камере пахло сыростью и даже плесенью. Я лежал в полной темноте. Тогда я еще подумал: интересно, а как узнать, что ты умер, то есть возможно ли принять смерть за что-то еще? И решил, что, наверное, я уже точно умер. Затем по прошествии неопределенного промежутка времени в камере возникли какие-то тени, и я вдруг ощутил свои ноги. Мне показалось, что они сильно затекли.
Женщина, державшая меня за руку, сказала, что сейчас мне требуется сделать укол, чтобы пузырек воздуха у основания черепа не начал разрастаться. Это была инъекция стероида. Филиппинка рассмеялась и сообщила, что раньше ей приходилось делать уколы только апельсинам. В маленькие смотровые окошки декомпрессионной камеры за нами наблюдали другие врачи. Они давали ей советы и говорили, что именно нужно делать. Я об этом мог только догадываться, потому что они общались на своем языке.
Честно говоря, игла в руках женщины, раньше делавшей инъекции только апельсинам, показалась мне тогда самой незначительной из всех моих проблем. Возбужденные голоса наблюдателей, неприятное ожидание и, наконец, сам укол. Он показался мне пустяком, как пчелиный укус для человека, из которого предварительно практически вышибли дух.
Я помню, что филиппинка постоянно находилась при мне. Она разговаривала со мной, убеждала, что все будет хорошо, да так настойчиво, что мне частенько хотелось расплакаться от ее доброты и заботы. Постепенно зрение начало возвращаться ко мне, хотя глаза по-прежнему болели и слезились. И вот я увидел ее. Она предстала передо мной невысокой женщиной, по годам приближающейся к возрасту моей матери.
Последние десять часов в декомпрессионной камере мы находились в специальных кислородных масках, и она нежно сжимала мою руку всякий раз, когда мне требовалось набрать в легкие воздух. Вот что ей приходилось делать, этой женщине, спасшей мне жизнь: она должна была постоянно напоминать мне о том, что нужно дышать.
Мы провели в декомпрессионной камере двое суток, и за это время недуг постепенно выполз из меня. Но иногда мне кажется, что он покинул мое тело не бесследно и болезнь, которая в тот страшный день настигла меня, останется со мной на всю жизнь.
Странно и непостижимо, как потеря одного человека может создать в вашей жизни огромную брешь, брешь размером с целый мир.
Мне нужно почаще выходить в город и хоть как-то развлекаться. В самом деле. Ну, не до бесконечности, конечно. Слишком рано мне еще думать о развлечениях. Впрочем, так будет всегда. Но иногда выбираться из своей норы все же необходимо.
Когда-нибудь, через тысячу лет, я, наверное, буду готов посещать клубы и обязательно занесу это событие в свой дневник. У каждого мужчины, понимаете ли, имеются свои потребности. Так же, впрочем, как и у каждой женщины. Без всяких сомнений.
Но когда мы не встречаемся с Джошем (а с ним мы видимся не слишком часто), я, как правило, провожу вечера дома. Слушаю музыку на своей мини-стереосистеме, выбирая обычно либо известные пластинки Синатры пятидесятых годов (фирмы «Кэпитол»), либо менее известные шестидесятых и семидесятых годов (фирмы «Репрайз»).
Что же такого особенного в его музыке? Мне нравятся медленные мелодичные песни вроде «Полетай со мной» или «У меня этого не отобрать». Но больше всего я люблю его песни, где рассказывается о разбитых сердцах, о навсегда потерянной любви. Это, конечно, «В ночные часы», «Глаза ангела», «За мою любимую», «Ночь и день» и тому подобное.
Когда слушаю Синатру, я начинаю понимать, что я не единственный человек во Вселенной, который, проснувшись как-то утром, обнаружил, что находится в невообразимой пустоте. Я слушаю его песни, и мне становится ясно, что я не так уж в этом одинок, и тогда все человеческое словно возвращается ко мне.
Фрэнк Синатра написал целых три альбома, в которых горько оплакивает разлуку с любимой женщиной. «Где ты?», «Им все равно» и «Только одинокие сердца». Хиппи почему-то считают, что именно они изобрели в шестидесятых годах концептуальные альбомы, но Фрэнк Синатра делал это еще в пятидесятых! Синатра может разговаривать с вами ночи напролет. Ну, если вы только сами, конечно, проявляете такое желание. А я испытываю в этом просто крайнюю необходимость.
Мне нужна его музыка. Я не могу обходиться без нее точно так же, как нормальный человек не может долгое время не есть, а кое-кто не может жить, например, без футбола. Мне кажется, что Синатра указывает мне верный путь, он придает мне силы и гарантирует уверенность в завтрашнем дне. Даже когда Фрэнк поет об умирающей любви, в его словах все равно чувствуется некое утешение. Любовь все равно придет снова. Любовь у него напоминает некий чудесный автобус. И даже если один от вас ушел, обязательно придет следующий.
Но знаю, что у самого Синатры все вышло совсем не так. Я читал все лучшие статьи о Фрэнке и помню, что он так и не смог забыть Аву Гарднер. Именно эта женщина сумела завладеть его сердцем. Именно ее фотографии он в ярости рвал на мелкие кусочки, а потом подбирал их и тщательно склеивал скотчем. И если Синатра так и не смог пережить разлуку с Авой, то почему я должен забыть Роуз?
Музыка для меня представляет собой неиссякаемый источник спокойствия и утешения. Правда, Синатре удается расставание с любимой превратить в нечто благородное, героическое и универсальное. Страдания становятся чем-то достойным, к чему должен стремиться каждый человек. Но в реальном мире все происходит по-другому. От страданий становится чертовски больно.
Но есть в его музыке и кое-что еще. Когда Синатра оплакивает, воспевает или предчувствует любовь, я почти ощущаю в воздухе смесь ароматов старого трубочного табака и пряного лосьона «Олд спайс». Я вспоминаю те дни, когда дедушка сажал меня к себе на колени и все у меня было еще впереди. Тогда мне казалось, что все те, кого я люблю, будут жить вечно.
_____
Поведение моей мамы в отсутствие отца кажется мне нормальным. По-моему, она справляется. Она по-прежнему встает рано утром, потом уходит работать на кухню в школу Нельсона Манделы. Мама возвращается домой с неизменной улыбкой на губах и веселыми рассказами о своих «деточках». Она даже снова стала проявлять интерес к саду. Во всяком случае, тщательно убрала тот беспорядок, который создала после того, как отец бросил ее и ушел из дома. Думаю, что ей просто не хочется смотреть в глаза своему горю.
Я тоже хожу на работу, брожу по улицам китайского квартала и слушаю у себя в комнате пластинки Фрэнка Синатры. И все это время я фантазирую. Мне кажется, что в один прекрасный день мой отец вернется домой. Он принесет огромный букет цветов и начнет извиняться за то, что натворил. Он встанет на колени перед матерью и будет очень долго просить у нее прощения… Но пока что ничего подобного не происходит.
Я не могу даже вообразить, на что надеется отец, как он может построить семейную жизнь с Леной на такой зыбкой основе?! Я не представляю себе, каким образом будет продолжаться их союз, если у них в квартире нет даже чайника? Мне почему-то кажется, что в одно знаменательное утро он увидит, как Лена пританцовывает на стуле, поглощая свой низкокалорийный завтрак с отрубями, и попросту спятит от подобного зрелища.
Но при этом я сознаю и то, что, даже если их любовное гнездышко по какой-то причине развалится, мой старик все равно никогда уже не вернется домой.
_____
Мои родители изредка беседуют друг с другом по телефону. Но я даже не пытаюсь подслушать, потому что есть такие вещи, от которых детям лучше держаться подальше.
Все происходит по одной и той же схеме. Он звонит ей. Мама долго слушает, пока отец – даже не знаю, что он там говорит, – о чем-то ее оповещает. Может, просит понять его? Или вымаливает разрешение явиться в дом, чтобы забрать пластинки Стиви Уандера? Или клянчит чайник во временное пользование? Так или иначе, но я чувствую, как мама прилагает усилия, чтобы в ее голосе не прозвучало горечи обиды или откровенной злобы.








