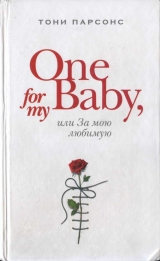
Текст книги "One for My Baby, или За мою любимую"
Автор книги: Тони Парсонс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
– Ух ты! – воскликнул я. – Здорово!
Я не имел ни малейшего понятия, о чем шла речь, но искренне восхищался этой женщиной. Она казалась куда взрослее меня, вечного подростка.
Большинство ее коллег – горластых молодых парней и девушек, что каждый вечер галдели в баре на крыше отеля «Мандарин» и которым было начхать на феерические закаты, – испытывали к Гонконгу саркастическое презрение.
Увидев на улице указатель «Бледнокоролевский проезд», они могли ехидничать по этому поводу до конца командировки, словно Гонконг существовал только для их увеселения. Они коллекционировали и неустанно зубоскалили над забавными мелочами и казусами, неизбежно случающимися в любом безумном мегаполисе. В Гонконге подобных приколов было в избытке.
Здешняя марка туалетной бумаги называлась «Опахало». В японском супермаркете ценник на конфетах трюфелях гласил: «Грибы шоколадные свежие, натуральные». Спрей для очистки стекол звался «Пись-пись».
Я тоже хохотал до колик, впервые увидев рекламу «Пись-пись». Было дело, грешен. Однако я вскоре унялся, а жлобы ржали не переставая. Рано или поздно забываешь все эти «опахала» да «пись-писи» и снова любуешься головокружительными закатами на фоне огней ночного города. Но жлобствующие «аристократы духа» не опускались до этих «плебейских забав».
Роуз была в их стае белой вороной. Она обожала этот город.
Я вовсе не хочу представлять ее как этакую мать Терезу с атташе-кейсом. Здешним аборигенам палец в рот не клади, и после стычек с жуликами-таксистами, грубиянами-официантами и прилипалами-попрошайками ее частенько охватывало присущее экспатриантам тихое, беспомощное отчаяние. Но оно очень быстро проходило.
Она любила Гонконг. Любила его обитателей и вопреки подавляющему большинству людей своего круга – европейцев с престижной работой и астрономической зарплатой – искренне считала, что гонконгцы достойны получить свое и способны управлять тем, что принадлежит им по праву.
– Да послушай же, Элфи, – сказала Роуз как-то вечером, когда я распространялся насчет чувства исключительности и о своем желании, чтобы оно не угасало. – У Гонконга британские голова и тело. Но душа у него китайская.
Она хотела открыть для себя настоящий Гонконг. Будь я предоставлен самому себе, я бы так и потягивал пивко да любовался огнями большого города, жил бы своей растительной жизнью в иллюзорном Гонконге с самодостаточным чувством собственной исключительности.
Роуз разбудила, вывела меня из состояния оцепенения. Она увела меня по ту сторону огней. И превратила обычную симпатию и влечение в любовь. К Гонконгу. И к ней.
Как-то она привела меня в храм неподалеку от Сити, где все было убрано красным и золотым, тяжело дышалось от благовоний и хрупкие старушки сжигали фальшивые деньги в огромных каменных урнах. Сквозь дымку благовоний тускло мерцали стоявшие на алтаре два бронзовых оленя.
– Это на многие лета, – сказала тогда Роуз.
Когда я теперь вспоминаю ее слова про «многие лета», мне хочется плакать.
В те дни, когда казалось, что любовь наша вечна, мы с ней забредали в такие места, куда один бы я никогда не пошел. Мы ели рыбный суп с клецками в ресторане неподалеку от моего дома и были там единственными европейцами. Мы гуляли по узким улочкам, утыканным многоэтажками. Дома были сплошь увиты затейливой паутиной антенн и бельевых веревок, подоконники и балконы плотно-плотно заставлены цветочными горшками. Она брала меня за руку и вела по темным, хмурым закоулкам, где беззубые старики в шлепанцах с юношеским азартом и задором следили за схваткой двух сверчков в деревянном ящике.
Я встречал ее с работы, мы ехали на пароме в Колун и шли в кино, где во время сеанса по всему залу непрерывно трезвонили мобильные телефоны. Другой бы спятил, не сходя с места. Роуз же покатывалась со смеху.
– Это и есть настоящий Гонконг, – улыбалась она. – Вы искали Гонконг, сэр? – Роуз взмахнула рукой, словно дирижируя симфонией мобильников. – Вот же он.
И тем не менее она продолжала оставаться настоящей англичанкой. Каждую субботу после службы – в выходные она работала по три-четыре часа – мы с ней полдничали в закусочной отеля «Пенинсьюл» с видом на Сити, потягивали чай с бергамотом, жевали булочки с джемом и маленькие сэндвичи на мякише. Пару раз мы даже смотрели, как Джош и его шерстозадые дружки играли в регби и крикет.
Нам доставляло удовольствие вести себя как истые англичане не оттого, что эти ритуалы напоминали нам о далеком доме, а потому, что дома мы подобного никогда не совершали. Крикет, регби, сэндвичи на мякише – кто об этом думал и знал? Уж точно не я. И не Роуз, чье нивелированное произношение[2]2
В Великобритании произношение и различные местные и диалектные говоры имеют большое значение, так как указывают на социальное происхождение говорящего и во многих случаях влияют на его положение в обществе, а также на профессиональный и карьерный рост.
[Закрыть] скрывало тот факт, что выросла она в отделанном гравийной штукатуркой смежном одноквартирном доме в одном из захолустных городков. Ей ничего не досталось даром и не упало с неба. Она добилась всего, чего достигла, учебой и упорным трудом.
– Так где же все-таки ты избавилась от своего провинциального прононса? – спросил я ее как-то раз. – В университете?
– Не совсем. У метро «Ливерпуль-стрит». Это рядом.
В Азии мы открыли для себя и настоящий Гонконг, и другую Британию, ту, о которой доселе не имели понятия.
Роуз любила их всем сердцем. А я любил ее.
Это было нетрудно. Труднее всего оказалось набраться смелости и позвонить ей после нашей первой встречи в баре. На это ушла неделя. С самого начала она стала значить для меня почти все. И уже тогда я не мыслил себе жизни без нее.
Потому что она красивая, умная и добрая. Потому что у нее пытливый ум и смелый характер. И сердце из чистого золота. Она являлась прекрасным работником, но ее чувство собственного достоинства не зависело от карьеры. Я любил ее не только за это. Она была за меня. Она была на моей стороне целиком и полностью, раз и навсегда. Очень легко любить человека, когда он за тебя.
Как-то раз, когда мы все сидели на крыше «Чайна клаба», Джош после дюжины кружек «Цинтао» сказал одну интересную вещь (это, пожалуй, первая и последняя умная мысль старины Джоша):
– Если бы ей явился Бог, Роуз бы его спросила: «Господи, отчего ты так несправедлив к Элфи? За что ты его так обижаешь?»
Сказано это было таким тоненьким, девчачьим голоском, что все расхохотались. Я лишь вежливо улыбнулся этому болвану. Но сердце мое забилось быстрее. Ибо я знал, что так бы и произошло.
Роуз стояла за меня стеной так, как никто и никогда в жизни. Кроме разве что отца с матерью. И бабушки с дедушкой. Но их обязывали родственные узы. Роуз же делала это по собственной воле. Она по-настоящему любила меня. Те ребята в парке – «прикольные челы» – со смеху бы умерли, узнав, что такая женщина любила такого недотепу, как я. Но так было. И я ничего не выдумываю.
Своей любовью она даровала мне свободу. Свободу быть самим собой. Серьезно.
Когда-то давно у меня была мечта попытаться что-то написать или даже стать литератором, но мне не хватило пороху заняться этим всерьез. Роуз заставила меня поверить в себя, в то, что если я возьмусь за это основательно и выкрою время, то у меня все получится, я смогу стать писателем. Она видела во мне не только того, кто я есть, но и того, кем мог бы стать. Своей любовью она вселила в меня веру, что все задуманное обязательно осуществится.
Вот почему теперь мне невыносимо тяжело и я держусь из последних сил.
Потому что тогда, пусть совсем недолго, я был по-настоящему счастлив.
Старик-китаец заканчивает свой плавный, парящий танец.
Когда я во второй раз пробегаю, точнее, медленно шаркаю мимо него, он смотрит на меня так, словно видит уже в сотый раз. Как будто тоже узнает меня.
Он снова обращается ко мне, и на сей раз я прекрасно понимаю, что он говорит. Это вовсе не «дыхни» и не «отдохни».
– Дыхание, – произносит он.
– Что-что? – спрашиваю я, с трудом переводя дух.
– У тебя неправильное дыхание.
– У кого?
– У кого? – хмыкает он. – У тебя, у кого же еще? Неправильное дыхание. Очень часто ты дышишь. Не верно. Нет дыхания – нет жизни.
Я изумленно таращусь на него.
«Нет дыхания – нет жизни». Кем он себя мнит? Очередным гуру, несущим просветление всему человечеству?
– Это что? – наконец раздраженно спрашиваю я. – Какая-то древнекитайская мудрость?
– Нет, – отвечает он, – не мудрость. Просто здравый смысл.
И он отворачивается, как бы отпуская меня. Урок окончен.
На обратном пути я стараюсь дышать правильно. Глубокий вдох полной грудью, дыхание задержать, медленный выдох. Снова и снова. Вдох-выдох. Ритмично, не спеша. Расшвыривая прошлогодние листья, я буквально заставляю себя сделать очередной вдох.
Это безумно тяжело.
Она была для меня смыслом жизни. И вот ее не стало.
2
Где и когда рождаются мечты? Я думаю, в детстве. Именно тогда я захотел стать писателем. Совсем неплохо для детской фантазии, тем более что у каждого человека их великое множество. Со временем фантазии забываются, а вот мечта остается.
Мой отец работал спортивным обозревателем в одной крупной газете. Обычно он освещал скачки, футбол и бокс, то есть то, что знал и любил с детства, проведенного в Ист-Энде. Во время олимпиад он писал о легкой атлетике, когда проходили Уимблдонские турниры – о теннисе и обо всем понемногу, если в том возникала необходимость. В конце своей журналистской карьеры он даже написал серию очерков о современных борцах, этаких гигантах со злыми глазами и насупленными лицами, облаченных в сверкающий латекс и смотревшихся так, будто им нужны отнюдь не стероиды, а преподаватели по этикету и актерскому мастерству.
Мой отец не принадлежал к когорте маститых журналистов. В большинстве случаев его колонки и репортажи печатались даже без фото автора. Но для меня он всегда был фигурой романтической, окутанной каким-то загадочным ореолом. Отцы моих друзей трубили на одном и том же месте каждый день от звонка до звонка. Мой же разъезжал по всей стране, брал интервью у кумиров миллионов болельщиков, и, хотя мы с мамой порой неделями не видели его, меня всегда восхищало то, что он гордился своим «ненормированным» рабочим днем.
Еще ребенком я твердо усвоил, что журналистика – это не только слава, почет и известность, но и каторжный труд, скандалы, а порой и унижения. Я уяснил, что каждый раз над журналистом дамокловым мечом нависает срок сдачи номера, что замредактора может в любой момент выбросить из твоего материала последние строки и что сегодняшняя сенсация назавтра становится либо макулатурой, либо – как это ни печально – подстилкой для кошачьего туалета.
И все же отец, казалось, при любых обстоятельствах пользовался полной духовной свободой. Его никогда не привлекала рутинная, пусть и престижная, репортерская работа – сидеть в пресс-ложе на дерби в Эптон-парке или, скажем, диктовать прямо в номер, стоя возле ринга во Дворце бокса в Бирмингеме. Но когда отцу удавалось пробить материал о реальных людях, стоявших за показателями и рекордами, когда он писал о блестящем молодом футболисте, чья карьера оборвалась на взлете из-за травмы колена, или об олимпийской надежде с внезапно обнаруженной опухолью в груди – это действительно брало за душу. Уж он-то знал, чем и как взять читателя за живое. Подобные статьи действительно никого не оставляли равнодушным.
Отец не стал выдающимся спортивным журналистом лишь потому, что никогда не был помешан на спорте. Его карьера сложилась бы куда более успешно, пиши он для первых полос газет, а не для последних.
Но он являлся величайшим моим героем, и многие годы я страстно желал стать продолжателем, так сказать, семейного дела.
А потом отец написал книгу. Вы наверняка слышали о ней. И может, даже ее читали. Дело в том, что «Апельсины к Рождеству, или Родом из детства» относятся к той категории книг, которые, однажды обретя шумный успех, уже никогда не исчезают с полок книжных магазинов. После подобного успеха все мои помыслы о писательстве стали казаться нелепицей. Ибо как и в чем я теперь мог бы тягаться с отцом? Я восхищался им, когда он был более-менее способным репортером, и пришел в ужас, когда он стал модным писателем и автором бестселлера.
Когда у отца вышла книга, я учился в педагогическом колледже и наблюдал за его восхождением к вершинам славы как бы со стороны. Казалось, что он в одночасье превратился из журналиста, денно и нощно дежурившего у дверей раздевалок или на тренировочных базах в надежде на «эксклюзивное» бормотание двадцатилетних футболистов, зашибавших бешеные деньги, в популярного писателя с многомиллионными гонорарами, которого наперебой приглашали в интеллектуальные ток-шоу и стоя приветствовали в ресторанах.
Уж кому, как не мне, было знать, что на самом-то деле все произошло совсем не так просто. Книга эта писалась долгие годы. Любой успех видится со стороны как что-то необычайно легкое; при этом горы «творческой породы» и «стружки» остаются «за кадром». Складывалось впечатление, что мой отец в мгновение ока превратился из никому не известного спортивного обозревателя в уважаемого литератора, который выступал на творческих вечерах в престижных книжных магазинах, где читал вслух избранные места, отвечал на вопросы и подписывал свои книги всем желающим. И теперь, десять лет спустя, люди трепетно хранят его автографы, подобно фанатам, дневавшим и ночевавшим у порогов тренировочных баз в надежде на «откровения» двадцатилетних футболистов с безумными гонорарами.
«Апельсины к Рождеству, или Родом из детства» – замечательная книга, которая мне очень понравилась. Я вовсе не жалел, что она несколько омрачила мои детские наивно-радужные мечты о писательском ремесле. И успех ее был вполне заслуженным.
Книга представляет собой некие «мемуары», воспоминания отца о его детстве, проведенном в Ист-Энде. В ней говорится о том, что жили они бедно, но очень дружно и счастливо. Каждый раз, когда отец вместе с кучей своих братьев и сестер получали к Рождеству по апельсину, они чуть не умирали от радости и восторга.
По страницам «Апельсинов» бегают стайки чумазых сорванцов, пуляющих по крысам в недавно разбомбленных кварталах, в то время как по соседству вовсю орудуют «юнкерсы». Здесь на каждом шагу смерть, утраты, болезни и продуктовые карточки, но секрет успеха книги в том, что она дарит людям то же ощущение успокоения и душевного комфорта, что и чашка горячего сладкого чая с любимым молочно-шоколадным печеньем. Несмотря на обилие соленых и порой двусмысленных шуточек и баек о болячках, вшах и «фрицах», через книгу моего старика красной нитью проходит грустная, сентиментальная ностальгия по той семье и по тем отношениям, которых теперь нет и в помине.
Самое забавное заключалось в том, что среди отцовской родни «Апельсины к Рождеству» произвели эффект разорвавшейся немецкой фугаски. Когда вышла книга, братьям и сестрам отца перевалило далеко за сорок и они стали весьма уважаемыми людьми. И тут вдруг их похождения и проделки четвертьвековой давности предстали перед глазами почтеннейшей публики.
Старшая из сестер, моя тетушка Джанет, была далеко не в восторге от того, что автор поведал «по секрету всему свету», как их папа застукал ее, тискающуюся с американским солдатом сразу после отбоя воздушной тревоги. В книге это подано в иронично-анекдотичном ключе типа «ковбой всегда успеет», однако в тетушкиной Ассоциации по охране материнства и детства, где она по сей день возглавляет отдел массовых мероприятий, подобное «откровение» произвело самый настоящий фурор.
Мой дядюшка Реджи тоже был вне себя, когда впервые увидел «Апельсины к Рождеству». Управляющий по графствам в одном из солиднейших банков, он счел, что отец зашел слишком уж далеко, повествуя о том, как насмерть перепуганный четырехлетний Реджинальд во время очередной бомбежки рванул в убежище, да только не успел и со страху сделал «неприличность» прямо в саду; спасибо, что штанишки успел стянуть. Дядюшка громко возмущался, что подобный имидж, да еще с учетом нынешней ситуации на рынке, в корне подрывает как репутацию банка, так и его собственную.
Существовал еще дядя Пит, по книге уже подросток, чьи героические подвиги на черном рынке заключались в том, что многие одинокие женщины, мужья которых были на фронте, стали счастливыми обладательницами нескольких пар нейлоновых чулок в обмен на то, что сам дядюшка называл несколько таинственно: «чайку вскипятить». Дяде Питу – ныне более известному как отец Питер – пришлось много чего объяснять и разъяснять своим недоумевающим прихожанам.
«Милые утехи» тети Джанет с новобранцем, «детская неожиданность» дяди Реджи под бомбами, «бартерные сделки» дяди Пита – все это безумно нравилось читателям. Благодаря «Апельсинам к Рождеству» все искренне полюбили моего старикана. Все, кроме его братьев, сестер и тех, с кем он жил и рос по соседству.
Они с ним больше не общаются.
Когда возвращаешься на родину, пожив за границей, то видишь окружающее взором путешественника во времени.
Я не был дома чуть более двух лет, с весны 96-го по лето 98-го. Вроде бы совсем недолго, но теперь мне кажется, что время словно сместилось. Конечно же, огромная роль в этом принадлежит Роуз. Уезжая, я даже не подозревал о ее существовании: вернувшись, и представить себе не могу, как стану жить без нее.
Что же касается ощущений, то дело тут не только в Роуз. Как-то все не так, когда я еду в отцовской машине, просматриваю газету, ужинаю с родителями. Не в ноту, не в такт, не в лад, невпопад.
Во-первых, в нашем квартале появились беженцы. Это что-то новенькое. Я смотрю на них из отцовского «мерседеса SLK» – полуспортивной двухместки с откидным верхом. А они, в свою очередь, пристально рассматривают меня. И немудрено: ведь небольшой красный кабриолет моего старика просто призван приковывать к себе взоры людей; впрочем, вовсе не обязательно, чтобы он вызывал испытующие взгляды тех, кто совсем недавно бежал от нищеты и преследований.
Когда я уезжал, беженцев, тем более с Балкан, здесь и в помине не было. Забредет иногда пьянчужка с бутылкой за пазухой, вот тебе и все пришлые. Теперь же худые мужчины и мальчишки роятся в транспортных пробках на перекрестке у Кингс-Кросс, брызгая на стекла машин и неистово соскребая с них грязь и копоть, даже когда их об этом не просят. Беженцы показывают на свои открытые рты какими-то смутно напоминающими непристойность жестами. На самом же деле они просто хотят сказать, что голодны.
Вот такие тут новости. И дело не только в беженцах.
Терри Боуган вовсю крутит «R. Е. М.» на «Радио-2». О принцессе Диане вспоминают все реже и реже. Но самое потрясающее, наверное, то, что отец мой стал посещать тренажерный зал.
Мне все это кажется просто невероятным. Я всегда считал, что Воуган являлся спецом по «легкой музычке», хотя вполне возможно, за мое отсутствие «R. Е. М.» и перешли в данную категорию. Я был уверен, что Диана останется столь же блистательной и после смерти. И уж совсем у меня не укладывалось в голове, что мой старикан вдруг столь трепетно озаботится своей физической формой.
Майкл Стайп – вокалист «R. Е. М.» – вдруг с воем врывается в «легкую музычку». Диана прочно вошла в историю. А мой старик и думать забыл о курах гриль под пряным соусом и все твердит о неоспоримых достоинствах лечебной физкультуры как панацеи от инфарктов и инсультов.
Иногда мне кажется, что я вернулся совсем в другую страну.
Сейчас я живу у родителей. В тридцать четыре года и без своего гнезда – вот уж действительно, как говорится, совсем невесело. Одно утешает: это не тот дом, где я родился и вырос; так что теперешняя моя жизнь с родителями вовсе не означает, что я окончательно впал в детство. Иногда, правда, бывает. Особенно когда мама подает мне выстиранную и отглаженную пижаму.
Все это, конечно же, временно. Как только я немного приду в себя, найду работу, я сразу подыщу себе квартирку. Поближе к месту службы. И обустрою ее так, чтобы все было точь-в-точь как в нашем с Роуз жилище в Гонконге. Там было хорошо; там я был счастлив.
Я прекрасно понимаю, что надо постараться жить дальше, что нужно попытаться попросту пережить все, что связано с Роуз. Все это я прекрасно понимаю…
Но если веришь, что с первого взгляда можешь узнать того, кого никогда прежде не встречал, если веришь, что во всем мире тебе предназначена одна-единственная, которую ты сможешь полюбить по-настоящему, на всю жизнь, – а я во все это верю, – то чего тогда стоит самообман, что завтра будет новый день и прочая псевдооптимистическая дребедень.
Я уже все это испытал на себе.
Теперь у моих мамы с папой большой, даже огромный дом, одна из тех громадин, которые с фасада выглядят белыми исполинами; попав внутрь, просто теряешься в бесконечном лабиринте комнат. У нас есть даже бассейн. Но так было далеко не всегда.
Когда я только подрастал, а мой отец работал спортивным репортером, мы жили в невзрачном одноквартирном доме викторианской постройки на окраине, которая напрочь выпала из планов градоустройства. Все изменилось после того, как «Апельсины к Рождеству» стали бестселлером.
Богатство тоже было в новинку.
Сейчас отец пытается написать продолжение «Апельсинов», книгу о том, как сразу после войны все еле сводили концы с концами, но были несказанно счастливы, сентиментальные воспоминания о развалинах, бананах по карточкам и зловонных трущобах. Понятия не имею, как у него подвигается сей труд. Кажется, что он все свое время проводит в тренажерном зале.
Я знаю, что отец очень за меня переживает, да и мама тоже. И поэтому-то мне надо как можно быстрее распрощаться с их большим, красивым, гостеприимным домом.
Мои родители желают мне только хорошего, но вечно ворчат, что я никак не могу забыть Роуз, что никак не отойду от случившегося, что не могу начать жить дальше.
Я очень их люблю, но иногда они просто сводят меня с ума. Родители едва сдерживаются, когда я объясняю им, что вовсе не спешу продолжать жить своей искалеченной жизнью. Отец частенько срывается и хлопает дверью, восклицая: «Да поступай как знаешь!» Мама то и дело плачет, без устали причитая: «Элфи, сыночек мой дорогой…» Оба ведут себя так, словно я спятил оттого, что не в силах забыть Роуз.
Временами так и подмывает спросить их: а что, если я вовсе не спятил? Может, так и должно быть?
У нас во дворе какой-то странный человек.
На голове у него островерхий шлем наподобие тех, что носили императорские гвардейцы в «Возвращении джедая». Для полного комплекта «человека из будущего» на нем черные велосипедные очки, ярко-желтая байкерская куртка и узкие лайкровые брюки, страстно обтягивающие ягодицы. Под островерхим шлемом болтается CD-плеер на шейном ремешке. Человек тащит велосипед по садовой дорожке, а когда, кряхтя, приседает, чтобы заглянуть в почтовый ящик, видно, как у него на ногах сокращаются мышцы. Он напоминает мне какое-то натренированное насекомое.
– Папа?..
– Элфи! – отзывается отец. – Опять вот забыл ключ. Помоги-ка мне с велосипедом.
Когда он снимает свой островерхий шлем и плеер, я слышу музыку: сочные трубы вместе с пульсирующей басовой линией. Это «Штемпель, марка и доставка» Стиви Уандера.
Можно подумать, что если отец ездит на гоночном велосипеде и выглядит словно кенар, то слушает исключительно последние новомодные хиты. На самом же деле он обожает «золотое старье». Особенно соул и негритянский джаз-рок. Стиви Уандера. Смоки Робинсона. Марвина Гэйла. Дайану Росс. Музыку «юной Америки», когда и Америка, и отец мой были молоды.
Я же больше люблю Синатру, и любовь эту привил мне дедушка. Он уже много лет как умер, но когда я был маленьким, дед садился в большое кресло в гостиной дома, который тоже стал одним из главных персонажей «Апельсинов к Рождеству», брал меня на колени и мы вместе слушали лившийся из проигрывателя голос Фрэнка, певшего о чем-то дивном и далеком. Я до сих пор помню запах дедушкиного табака и терпкий аромат лосьона «Олд спайс». Я тогда еще не понимал, что все песни Синатры были о женщинах. О любви и о страсти, о разлуке. Это просто были песни обо мне и о дедушке.
Иногда мы видели Синатру в фильмах, когда их показывали по нашему старому черно-белому телевизору. «Отсюда и в вечность», «Тони Роум», «Без оглядки» – картины о крепких парнях с разбитыми сердцами, которые так здорово дополняли музыку.
– Деда! – кричал я. – Это Фрэнк!
– Верно, это Фрэнк. – Он обнимал меня своей мускулистой рукой, и мы вновь приникали к экрану.
Я вырос на любви к Синатре, но, слушая его теперь, я вовсе не мечтаю о Лас-Вегасе, Палм-Спрингс или Нью-Йорке. Когда я слушаю старину Фрэнка, мне на ум не приходят «Крысоловы», Ава Гарднер вместе с Дино де Сантисом и Сэмми Уолтерсом. Весь этот «джентльменский набор».
Песни Синатры напоминают мне, как я сидел на коленях у деда в гостиной старого дома в «банджо» – именно так прозвали наш тупик на задворках Ист-Энда за его причудливую форму. Песни Синатры пахнут табаком и лосьоном «Олд спайс» и возвращают меня в то время, когда я был окружен искренней, беззаветной любовью и наивно думал, что так будет вечно.
Мой отец всегда пытался приохотить меня к соулу и джаз-року. И мне действительно нравятся все эти «О, моя крошка-милашка» – разве это может не нравиться? Но когда я взрослел, я все больше и больше понимал разницу между любимой музыкой отца и деда.
Песни, которые мне ставил отец, были о том, что ты молод, а песни деда – что ты живой, настоящий…
Я открываю дверь и помогаю отцу вкатить велосипед в прихожую. Это какой-то супергоночный агрегат с низко поставленным рулем и с сиденьем чуть больше крапивного листа. Таких я раньше никогда не видел.
– У тебя новый велик, пап?
– Да, вот думал прокатиться до зала. Ехать-то всего ничего. Мне даже полезно, сердчишко не застаивается.
Я качаю головой и улыбаюсь; я поражен и вместе с тем до глубины души тронут тем, как же все-таки мой старик изменился. Во времена моей юности он был типичным репортером, стабильно раздававшимся вширь от нерегулярного питания и частых выпивок. Теперь же, на пороге седьмого десятка, он вдруг превратился в Жана-Клода Ван Дамма.
– Пап, да ты и впрямь увлекся. Всем этим своим фитнесом…
– Тебе неплохо бы как-нибудь составить мне компанию. Я серьезно, Элфи. Пора бы уже начать следить за собой. Ты ведь толстеешь.
Порой мне кажется, что отец просто одержим своим здоровьем.
Мне даже как-то неудобно рассказывать «Жану Клоду» о своей, с позволения сказать, пробежке в парке. И я вовсе не хочу с ним спорить. Пожалуй, именно так и понимаешь, что ты уже не молод: пропадает всякая охота пререкаться с родителями по любому поводу. И когда он катит велосипед по коридору, я вдруг ловлю свое отражение в зеркале и думаю: а какая, собственно, разница? На ринг же мне все равно не выходить.
Мы с отцом заходим в гостиную, где моя бабушка сидит в любимом кресле с неизменным таблоидом. Кажется, она поглощена статьей под заголовком «Танцовщица из Манилы у меня дружка сманила».
– Привет, мам, – говорит отец, целуя ее в лоб. – Всё сплетни читаешь?
– Привет, ба, – улыбаюсь я, проделывая тот же ритуал.
У нас в семье любят целоваться. Кожа у бабушки нежная и сухая, чем-то напоминающая бумагу, полежавшую на солнце. Она поднимает на меня свои слезящиеся голубые глаза и медленно качает головой.
Я беру ее за руку. Я люблю свою бабуленьку.
– Не везет, Элфи, – произносит она. – Опять мне не везет, внучек.
Я замечаю, что в руках она держит лотерейный билет. Это один из наших с бабушкой еженедельных ритуалов. Она всякий раз искренне изумляется, что опять не удалось выиграть в лотерею десять миллионов фунтов. Каждое воскресенье она приходит к нам на обед и на полном серьезе возмущается и негодует по поводу своей неудачи. И всякий раз я ей соболезную.
– Не везет, ба? Ничего страшного, повезет в другой раз.
– В понедельник на работу, Элфи. – Бабушка улыбается, прекрасно зная, что ни ей, ни мне завтра никуда идти не надо. Потом начинает методично рвать лотерейный билет. Кажется, что на это уходят все ее силы, и она задремывает после успешного выполнения задачи.
Сквозь высокое окно я вижу, как мама сгребает в саду опавшие листья. Хотя иногда создается впечатление, что она чувствует себя не в своей тарелке в этом огромном новом доме, купленном на гонорары отца, мама просто обожает наш сад.
Она замечает меня и улыбается, подпрыгивая на одном месте и надувая щеки. Через несколько секунд до меня доходит, что мама пародирует мою пробежку в парке. Я приветствую ее, подняв вверх большие пальцы обеих рук, и она снова принимается сгребать листья, улыбаясь чему-то своему. Знаю, она рада, что я выбрался из дома, чтобы, по ее любимому выражению, «немного подышать и проветриться».
Хлопает входная дверь, и через несколько мгновений появляется миловидная молодая женщина. Она выглядит пародией на актрису Камерон Диас – почти глянцево-карикатурное сочетание светлых волос, голубых глаз и лыжного загара. Это Лена, наша домработница-чешка, очень толковая особа. Ее лицо принимает чуть глуповатое выражение лишь иногда, когда она завтракает хлопьями из отрубей и, сидя на стуле, пританцовывает в такт музыке.
Лена вовсе не глупышка, просто она еще очень молоденькая. Порой кажется, что она ко мне «неровно дышит». Этакая детско-подростковая влюбленность. Возможно, придется ей как можно деликатнее объяснить, что я вовсе не ищу новых отношений. Она, безусловно, красивая девушка, и даже очень. Однажды наш почтальон засмотрелся на нее так, что въехал на велосипеде прямо в фонарный столб, усеяв пол-улицы рекламными буклетами и воскресными приложениями. Даже странно, что я не обращаю на нее внимания. А может, в этом как раз ничего странного и нет.
Стук двери выводит бабушку из дремы, и она радушно улыбается Лене, очевидно принимая ее за какую-то дальнюю родственницу.
– Простите, что опоздала, – говорит Лена на таком хорошем английском, словно прожила здесь полжизни. – Метро по воскресеньям – просто ужас какой-то! Сейчас займусь обедом.
– Это со-вер-шен-но все равно, – медленно выговаривает бабушка.
Бабуля наша, помимо всего прочего, считает, что Лена или глухая, или тупая, или двух слов по-английски связать не может, или же все, вместе взятое. Она показывает на меня:
– Он нет голодный.
– Вот и чудно, – улыбается Лена. Она говорит на пяти языках и учится на магистра экономики в колледже при Лондонском университете. – Тотчас приступаю.
– Я помогу, – говорит отец.
– Нет-нет, спасибо большое.
– Нет уж, позвольте.
Они скрываются на кухне, а мы с бабушкой смотрим какую-то новую программу, где люди колотят друг друга, потому что один из них вдруг обнаружил, что его подружка оказалась… мужчиной. Никогда раньше такого не видел. Даже глупость и та нового образца.
Из кухни слышится смех – это отец с Леной разгружают посудомоечную машину.








