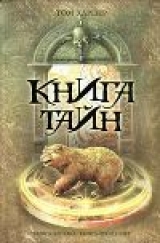
Текст книги "Книга тайн"
Автор книги: Том Харпер
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
LXXII
Майнц
Паром отошел от пристани, осторожно протиснулся между двумя спускавшимися с верховьев баржами, груженными лесом. Август был дождливый и ветреный; мощный поток подхватил маленькое суденышко, когда оно вышло из-под защиты более крупных барж. Бурая волна ударила ему в борт. Лодочник принялся грести изо всех сил, а пассажиры прижались друг к другу и стали креститься. Я смотрел на их испуганные лица с безопасного берега. Один раз я путешествовал на этом пароме – бледнолицый юнец, отправившийся в большой мир. Какой долгий путь проделал я с тех пор.
Из склада появился Фуст, прошагал мимо группы бродячих комедиантов, только что сошедших на берег, и, подойдя ко мне, поздоровался на свой всегдашний манер.
– Сколько страниц?
– Девять.
– А сколько должно быть?
– Двадцать одна.
– Уже очень запаздываем. – Он нахмурился. – Почему?
– Когда берешься за проект такого масштаба, не обойтись без проблем. Литеры изнашиваются быстрее, чем мы предполагали. Мы расходуем больше чернил, чем разрешается, – я не знаю почему. И мы до сих пор не можем добиться того, чтобы буквицы попадали на место.
– Второй пресс?
– Саспах обещает изготовить его через две недели.
– Он обещал это две недели назад.
– Один из столбов не был должным образом высушен. Он настоял, чтобы мы его разобрали и начали заново.
Фуст закатил глаза.
– Тоже мне педант.
– Задерживает нас не это. Наборщики набирают текст дольше, чем печатники печатают. Я разбил их на две команды, и они теперь работают над разными частями Библии, но Гюнтер все еще находит слишком много ошибок. Вчера он отправлял назад одну страницу пятнадцать раз, прежде чем она была готова. Но ошибки все равно остаются. Вчера мы отпечатали девять экземпляров одной страницы и только после этого заметили, что две строки набраны справа налево.
– На бумаге или на пергаменте?
– На пергаменте.
– Сначала нужно делать отпечатки на бумаге, – укоризненно проговорил Фуст. – Тогда ошибки будут обходиться нам дешевле. И не следует так уж переживать из-за незначительных погрешностей. Если мы будем переделывать каждую страницу из-за описок, то будем печатать до Судного дня.
У меня мурашки пошли по телу. Любая мысль о небрежности в книге ранила меня.
Фуст отвернулся.
– Пройдемся.
Я поспешил за ним, обходя лужи на набережной. Подняв глаза к небу, я понял, что к ночи луж станет еще больше. Нужно будет перед сном проверить крышу в кладовке для бумаги.
– Дело, которым ты занимаешься, Иоганн, уникально.
Я молчал. Когда он называл меня по имени, у меня появлялись сомнения. Наверху раздался скрип подъемника, переносившего с баржи тюки с негашеной известью. Немного порошка просыпалось сквозь дыру в тюке, и вода, куда попадала известь, начинала бурлить и шипеть.
– Я знаю, что любому новому ремеслу сопутствуют трудности. Проблемы, которые мы не предвидели. Но нам нельзя благодушествовать. Мы должны энергично реагировать, иначе эти трудности будут накапливаться. Правда, тут есть и другие соображения.
За разговором мы подошли к складу, расположенному чуть поодаль от реки. Он был построен на манер замка – с окнами-щелями и зубчатой стеной вдоль крыши. Фуст показал глиняную табличку стражнику, который пропустил нас внутрь. В помещении пахло вином и опилками. Я увидел тюки с материей, кувшины с маслом и в одном углу гору коробок, запечатанных воском с нарисованным символом в виде виноградной грозди.
Фуст вытащил складной нож из мешочка на поясе и разрезал крышку верхней коробки. Затем развернул влагостойкую ткань, в которую было завернуто содержимое. Я знал, что под этой тканью. Я открывал не один десяток таких коробок в кладовке Хумбрехтхофа. Упаковка бумаги, пропитанной шлихтовочным составом, а оттого хрупкой и глянцевой.
– Я не заказывал еще бумаги, – сказал я.
– Я заказал.
Я насчитал девять коробок. В каждой по две упаковки в пятьсот листов. На четверть больше наших запасов.
– И во сколько же это обошлось? Даже с учетом отходов у нас больше чем достаточно для наших потребностей.
– Я разговаривал с моими клиентами. – Он успокаивающе прикоснулся к моей руке. – Между нами. Я произвел кое-какие расчеты. Ты сам говорил, что основные трудозатраты – это набор страницы. Стоимость набора не зависит от того, сколько мы сделаем оттисков – один или тысячу. Но когда страница набрана, отпечатки получаются сравнительно быстро. Поэтому чем больше экземпляров мы напечатаем, тем меньше будет стоимость набора из расчета на одну страницу. А затраты на дополнительное время, бумагу и чернила – они почти самоокупаются.
– И сколько еще отпечатков?
Он повел меня из склада на улицу.
– Тридцать. Все на бумаге. По моим расчетам, это увеличит общие расходы на девяносто гульденов – я вкладываю эти деньги, – но при этом увеличится и прибыль – на девятьсот гульденов.
– Если мы их продадим, – предостерег я его. – К тому же мы еще больше отстанем от нашего расписания.
– Мы не можем позволить себе отодвигать сроки. Те деньги, что я вложил в работу, взяты под проценты и должны быть возвращены через два года.
– Долги можно переструктурировать, – беззаботно сказал я.
Наверное, слишком беззаботно. Он повернулся и жестким взглядом посмотрел на меня.
– Книга будет закончена вовремя. Мы должны удвоить наши усилия. Может быть, какие-то процессы могут быть усовершенствованы.
– Какие?
– Ну, взять, например, рубрикацию. Я был в печатне, видел, сколько времени мы теряем, накладывая чернила двух цветов на литеры. Иногда черные чернила натекают на красные, и тогда приходится удалять всю форму, протирать и накладывать чернила снова.
– Да, процесс трудоемкий, – признал я. – Но без рубрикации книга будет стоить меньше. – Говоря откровенно, мне была невыносима мысль о постороннем вмешательстве в мою книгу, о том, что кто-то нарушит единство целого.
– Чепуха. Покупатели и знать не будут о незначительной потере. Любой покупатель Библии предполагает, что он должен будет заплатить рубрикатору, так же как переплетчику и иллюминатору.
– Не иллюминатору. У них будут дощечки Каспара.
Мы остановились на набережной. Река билась о стену внизу. Стая лебедей клевала траву, пробивающуюся между камнями.
– От этого тоже придется отказаться.
Фуст и не глядя на меня наверняка знал о том выражении, что появилось у меня на лице.
– Я знаю, что он твой давнишний друг. Но мы вложили в это предприятие слишком много и не можем позволить какой-то дружбе ставить его под угрозу.
«Какой-то дружбе».
– Он больше чем друг. Без него не было бы всего этого предприятия. Я переписывал учебники в Париже, а он в это время уже печатал свои карты.
– Тогда он должен понять, что новое ремесло требует компромиссов.
У меня это вызывало большие сомнения.
– Что-нибудь еще? – спросил я.
– Тебе нужно обратить внимание на композицию страницы. Петер считает, что на каждую страницу можно добавить по две строчки, не меняя ее внешнего вида. Большее число строк на странице означает меньшее число страниц в книге. Меньше расход бумаги и времени, больше прибыль. Уже одно это позволит сэкономить половину времени, потраченного на печать лишних экземпляров.
– Я подумаю об этом, – холодно сказал я. Несмотря на свой солидный возраст, я чувствовал себя ребенком, которому не дали обещанную игрушку. Мне хотелось плакать.
Фуст стряхнул в ладонь четки с запястья и принялся перебирать их быстрыми, выверенными движениями, словно костяшки на счетах.
– Ты не можешь сделать все, Иоганн. Эта книга и без того уже настоящее чудо. За два года мы изготовим больше книг, чем один писец мог бы за две жизни. Мы не должны ставить перед собой невыполнимые задачи.
– Это была моя мечта, – прошептал я. – Донести Божье слово таким, каким его задумывал Господь.
– Слова не меняются. Речь идет только об украшениях. Ради бога, откажись от них. Мы вложили в это дело слишком много, чтобы позволить себе потерпеть неудачу.
– Я делаю это не ради прибыли.
– Не ради? Я видел твое лицо, когда сказал, какой доход мы получим от дополнительных экземпляров. И потом, если ты работаешь не ради прибыли, то я – ради. А ты работаешь на меня.
– У нас партнерство.
– Если тебе не нравятся условия, я готов разорвать соглашение. – Он сжал четки в кулаке. – Я не это имел в виду. Я знаю, все это очень важно для тебя. Но ты, как никто другой, должен исходить из практических соображений.
Он несколько мгновений смотрел на меня, потом перекинул четки назад на запястье, вздохнул, собираясь уходить, однако вспомнил что-то.
– Я вчера произвел учет наших запасов пергамента. Отсутствуют три кожи. – Он внимательно посмотрел на меня. – Я слышал, что ты напечатал партию грамматик в Гутенбергхофе на прошлой неделе.
– Пергамент, который мы собирались использовать, промок. После просушки он начал бы крошиться, как печенье. Я обещал, что книги будут поставлены вовремя, поэтому позаимствовал несколько кож из запасов в Хумбрехтхофе. Верну их, когда мы получим новую партию.
Его глаза сверкнули.
– Ты помнишь мои слова? Все, что приобретается для нашего предприятия, в нем и остается. Ты не можешь что-то заимствовать, как работник на винограднике, набивающий живот виноградом хозяина. На сей раз я закрою на это глаза, но чтобы больше такого не повторялось.
Он ушел, оставив меня на набережной. Течение крутило колеса плавучих мельниц. Мне вдруг пришло в голову, что моя мать, наверное, стояла здесь несколько десятилетий назад, глядя, как ее младший сын отплывает в Кельн с одной только чистой рубашкой на смену. Плакала ли она? Думала ли, что вот ее жизнь отрывается от нее: сначала муж, потом сын? Предполагала ли она, что может случиться дальше?
На лицо мне упали капли дождя, смешиваясь со слезами.
LXXIII
Рейн
Ник стоял на носу парома. Брызги окропляли его щеки, но это было приятнее, чем сидеть в невыносимой, пропитанной табачищем атмосфере внутри. У него возникло ощущение, будто он плывет в сказку. Не в современную, с остроумными животными и песнями, написанными так, чтобы их можно было использовать в качестве рингтонов, а в старомодные запутанные истории, вплетенные в местный колорит, в темные леса и скалистые горы. Рейн здесь нес свои воды по покатым равнинам, засыпанным снегом, под высокими утесами, куда когда-то сирены заманивали несчастных моряков. На вершине каждого холма возвышался строгий замок, наблюдающий за судами, плывущими вниз по реке. Некоторые являли собой руины, другие выглядели так, словно заиграй сейчас труба, и на стенах появятся его защитники, готовые к бою.
– Хорошо, что мы сели на паром. – Эмили показала рукой в перчатке в сторону берега. Единственная дорога петляла параллельно реке, прижимаясь к склону. Она была почти не видна под снегом. – Ни одной машины. Наверное, дорогу закрыли.
– Это хорошо, – сказал Ник. – Тем труднее им нас достать. Если только не будет еще одного парома.
– Бармен сказал, что на сегодня это последний. А завтра тоже, наверное, не будет, если ледовая обстановка не улучшится.
– Хорошо, – повторил Ник, стараясь убедить себя.
Ему было страшно. Нет, он не испытывал того внезапного притока адреналина, который чувствует в своих жилах преследуемый, – к этому он уже привык за последние дни. Это был какой-то более глубокий страх, холодные пальцы, медленно душившие его, по мере того как он сползал в пропасть. Ощущение, что пути назад нет.
Эмили вытащила помятую бумажную салфетку и, не снимая перчаток, принялась разрывать ее на мелкие кусочки и бросать обрывки в воду.
– Как ты думаешь, мы найдем то, что ищем?
– Ты хочешь сказать – того, кого ищем?
– Извини. – Она проводила взглядом клочок салфетки. Река тут же забрала его.
Ник ничего не ответил, он качнулся вбок и прижался к ней, а она склонила голову ему на плечо.
– Не могу понять, при чем тут молитва Манассии, – сказала она.
– Что ты имеешь в виду?
– Мы идем по следу Джиллиан. А вот по какому следу шла она? Она отправилась в Обервинтер после своей находки в архиве Майнца. А это не имеет никакого отношения к молитве Манассии и к медведю, роющемуся в земле.
– Может быть, мы шли по неверному следу с этими рисунками, – предположил Ник. – «Записи царей Израилевых» считаются потерянной книгой Библии. Может быть, автор таким образом хотел сказать, что книга отправилась в то место, куда отправляются пропавшие книги. В Библиотеку дьявола.
– Но медведь… Ты думаешь, это совпадение, что рисунок с карты оказался именно в молитве Манассии?
«Ключ – медведь».
– Ты сама говорила, что средневековые художники все время копировали друг друга.
– Ощущение такое, будто мы идем по следу, который кто-то оставил нам пять столетий назад. Надписи, сделанные твердым пером, спрятанные книги, повторяющиеся образы… Но я не уверена, что это указывает на Обервинтер.
– А Джиллиан была в этом уверена.
Ник чуть отодвинулся, ровно настолько, чтобы засунуть руку в карман – хоть чуть-чуть отогреть. Он коснулся тонкого корпуса своего сотового, ощущая покалывание от притока крови к пальцам.
Нет, понял он, это была не кровь – телефон у него в кармане вибрировал. Он к тому же и звонил, но за ревом двигателя и шипением воды Ник не слышал звонка. Видимо, он забыл выключить телефон, после того как использовал его для подсветки в архиве.
Он вытащил трубку, посмотрел на нее, как на артефакт какой-то неземной цивилизации. А потом, от усталости и непроизвольной реакции на звонок, нажал «ответить».
– Ник? Это Саймон.
Ник чуть не выронил трубку. Эмили посмотрела на него, округлив рот: «Кто?»
– Ательдин, – прошептал Ник. Потом в трубку: – Откуда у вас этот номер?
– Вы же звонили мне со своего телефона из Нью-Йорка. Я вам названиваю вот уже двадцать четыре часа. Вы не получали моих посланий?
– Где вы?
– В Майнце. Это на Рейне. Неподалеку от Франкфурта. Не прозвучали ли его слова слишком уж непринужденно?
Слишком самоуверенно, слишком шапкозакидательски? Или Ник впадает в паранойю?
– И как Майнц? – спросил он, стараясь говорить спокойно.
– Тут есть великолепный собор в романском стиле. И магазин, где продаются шоколадные бюстики Гутенберга. – Сарказм прозвучал вполне уместно. – Но я сюда не за ними приехал. Я позвонил в наш парижский офис, и оказалось, что на следующий день после нашего отъезда мне пришел пакет. Из Майнца. Моя секретарша узнала почерк Джиллиан.
– И что там?
– Вы должны сами это увидеть. Вы можете приехать в Майнц?
– Не сейчас. Вы мне не можете сказать, что там она пишет?
– Это будет проще показать.
В висках у Ника застучало.
– Бога ради, Ательдин, мы пытаемся найти Джиллиан. Сейчас не время для игр.
– Абсолютно с вами согласен. Почему вы мне не говорите, где вы?
Ник молчал. Ательдин раздраженно вздохнул.
– Вы слышали про дилемму заключенных? Два человека в камере. Если они доверятся друг другу, то обретут свободу. Если нет, то оба будут повешены. Мы с вами именно в таком положении.
Ник по-прежнему молчал. Он был в ступоре, заморожен неопределенностями, от которых у него мутился разум.
– Джилл точно была в Майнце две недели назад. Я заходил в архивы: они там ее помнят. Мы почти у цели, Ник.
– Что было в посылке от Джиллиан?
Ательдин помолчал. Потом заговорил:
– Хорошо. Вы хотите баш на баш – ладно. Это была первая страница из бестиария, с которым вы убежали из Брюсселя. Кто-то ее вырвал, а Джиллиан, я думаю, нашла. Я сделал фотографию страницы на телефон и посылаю вам сейчас. Принимайте.
Ник ждал. Не было ли это еще одной ловушкой? Каждую секунду пребывания в Сети волнение Ника возрастало.
Электронная трель возвестила о том, что сообщение получено.
– Ну… так где вы?
Может быть, дело было в усталости. Может быть, в голосе Ательдина: каким бы покровительственным и высокомерным он ни казался, послышалась редкая нотка чего-то знакомого. Может быть, в его просьбе крылось какое-то отчаяние. Если мы не доверимся друг другу, то оба будем повешены.
– Мы направляемся в одно местечко на Рейне. Оно называется Обервинтер. Я позвоню, когда доберемся, и мы что-нибудь придумаем.
– Может, и мне удастся туда добраться. Дороги сейчас хуже некуда. – Он откашлялся. – Слушайте, мне жаль, что мы расстались в Брюсселе. Мы должны держаться вместе. Ради Джилл.
– Мне пора…
– Постойте. Тут есть…
Голос Ательдина прервался, его слова были заглушены прерывистыми помехами. Несколько секунд спустя он вернулся.
– …что она.
– Что вы сказали?
Ник оглянулся. Они огибали излучину – река между двух гор оказывалась словно в ловушке. Сигнал сюда не приходил.
– Я вас теряю.
Снова помехи. Потом тишина.
Ник отключился. Он в волнении чуть не вырубил питание. Но мигающая иконка на экране напомнила ему о послании, полученном от Ательдина.
– Я думаю, если сигнал сюда не доходит, то и отследить местонахождение телефона они не смогут.
Он открыл картинку и передал трубку Эмили. На маленьком экране трудно было что-то разглядеть. Она нажала несколько кнопок, увеличивая изображение.
– Это стандартное начало бестиария. «Лев храбрейший из всех зверей и не боится ничего…» Вот картинка.
Лев, выгнув спину, рычал так громко, что все соседние слова, казалось, трепетали.
Ник взял телефон и прокрутил картинку. Руки у него так занемели, что он чуть не уронил мобильник в воду.
– Что это?
Отметина на полях у самого низа страницы, слишком слабая, чтобы быть частью иллюминации.
– Может, клякса?
Ник увеличил изображение. Пиксели стали расплываться, потом сами по себе обрели резкость. Это была полная бессмыслица – другого слова и не подобрать, – примитивный набросок прямоугольного здания с тремя дверями и большим крестом рядом.
– Крест, видимо, означает, что это церковь или, может быть, монастырь. Это резонно. Если Библиотека дьявола и в самом деле существует, то монастырь – самое безопасное для нее место.
Ник еще несколько секунд смотрел на картинку, потом отключил телефон.
– Надеюсь, я поступил правильно, сказав Ательдину, куда мы направляемся.
Эмили взяла его за руку, сжала пальцы.
– Теперь уже все равно ничего не поделаешь.
Он смотрел в воду. Чуть впереди под водой прятались черные скалы, словно акулы, кружащие вокруг жертвы.
«Если мы не доверимся друг другу, то оба будем повешены».
LXXIV
Майнц
Все зиму мы работали не покладая рук. Октябрьские дожди заливали поля и превращали дороги в топь, а мы завязли в нашем собственном болоте из чернил и свинца. Я смотрел, как напрягаются грузчики, пытаясь протащить свои тележки по грязи, и чувствовал родство с ними.
Снег выпал в декабре. Фуст не разрешал топить печи в Хумбрехтхофе, и мы мерзли. Я посменно отправлял людей в Гутенбергхоф, чтобы они там пришли в себя перед кузнечным горном, – мы в кузне варили чернила и переотливали старые литеры. От этого короткие темные дни становились еще короче. Однажды утром мы обнаружили, что кипы влажной бумаги замерзли. Прессы заело. Чернила не оставались на листе.
Но человеческое устройство было еще более хрупким. Я делал столько книг, сколько не делал, наверное, ни один человек в истории, но мои пальцы редко прикасались к бумаге или чернилам. Весь дом превратился в механизм, сложнее которых Саспах еще не делал. Я был тем, кто приводил все это в движение. Чуть перекрутишь винт – и механизм сломается. Недокрутишь – и не получишь отпечатка. Я должен был знать, сколько страниц наборщики набирают каждый час, каждый день, каждую неделю, сколько человек нужно отрядить на эту работу, чтобы печатники на прессе не простаивали и не слишком торопились. Мне нужно было присматривать за учениками – кто из них неуживчив, кто незлобив, кто небрежен, а кто чрезмерно прилежен. Ориентируясь на эти качества, я и должен был собирать команды. Я завел порядок, при котором набранная форма не могла попасть на пресс до ее одобрения, и мне приходилось решать, как хранить готовые отпечатанные листы в кладовке, чтобы не ошибиться, разделяя их и подшивая в книгу. Это были невидимые механизмы (система, основанная на размышлениях, порядке и воображении), но они были так же необходимы для нашего ремесла, подобно любому изобретению из дерева и железа.
Еще одной проблемой был Каспар. Сначала я хотел назначить его старшим на прессе, но по прошествии трех дней Каспар исчез. Мы проискали его все утро, а пресс тем временем простаивал. Фуст метал громы и молнии. Когда мы нашли Каспара в пивной, он заявил мне, что ему не нужна эта работа. Я пообещал ему тогда назначить на это место Шеффера, это необычайно его разозлило, и он согласился остаться. Но я быстро пожалел об этом. Он опаздывал, ругался с помощниками и вскоре успел оскорбить половину людей, работавших в Хумбрехтхофе. Иногда он требовал перепечатки из-за малейшего недостатка, а иногда пропускал самые скандальные ошибки, и мне приходилось проводить дни в кладовке, выискивая их.
Слишком поздно я понял, что он не годится для этой работы. Его радовала новизна, неограниченная свобода изобретательства. Но нам теперь дисциплина требовалась не меньше мастерства, поскольку наше новое искусство основывалось на строго установленном порядке.
Как-то вечером я попытался объяснить ему это.
– Мы в этом доме – братство, служащее Богу, нашему ремеслу и друг другу. Книги, которые мы делаем, они не мои, не твои и не Фуста. Они принадлежат Богу. Чем они совершеннее, тем ближе к Богу.
– И Бог получит прибыль, когда ты их продашь?
Я разочарованно покачал головой.
– Ты меня не понял. Эта работа скучна и однообразна…
– Как молотком гвозди забивать.
– …но важно то, что мы ее делаем. Как монахи, которые читают одни и те же молитвы, повторяя их в неизменном порядке, определенном Богом.
– Да, из тебя бы точно получился отличный монах, – жестоко сказал Каспар. – Если бы я хотел жить скучной и однообразной жизнью, то стал бы крестьянином: паши, сей, снимай урожай, паши, сей, снимай урожай; пахал бы и пахал одну и ту же колею, пока не вырыл себе могилу. – Шрамы на его лице задергались. – Но я способен на большее. И ты тоже. На большее, чем крутить рычаг, словно мельник, перемалывающий зерно в муку, – для того, чтобы напечатать еще одну страницу твоей книги.
Когда он покинул свой пост в следующий раз – а это, конечно, случилось, – я не стал его уговаривать. Чтобы не осложнять ситуацию, я поручил эту работу Кифферу, но этим только привел его в смущение и оскорбил Шеффера, ведь оба они знали, что Шеффер более подходящий кандидат. Я платил Каспару жалованье, но у него не было дела в Хумбрехтхофе. Иногда – редко – он появлялся, бродил по дому, чем доводил меня до белого каления, потом исчезал. Я думаю, ему это доставляло удовольствие – вносить беспорядок в нашу работу. Остальное время он проводил в Гутенбергхофе, беря заказы в качестве иллюминатора, чтобы чем-то занять себя.
Я пребывал в печали, хотя такой исход был неизбежен с самого начала. Где-то на нашем пути это ремесло перестало быть нашим и стало моим.
В апреле ситуация начала меняться. Дни удлинились, и напряжение спало – нам уже можно было не ловить каждую минуту светлого времени; люди смотрели на работу свежими глазами – им больше не приходилось щуриться в полумраке. Дрожащие пальцы, которые прежде с трудом удерживали ледяные металлические литеры, теперь резво брали их и расставляли в ряды. Ритм работы наладился, он ежедневно отбивался клацаньем литер в гнездах, треском пресса, грохотом тележек, подвозящих свежие чернила. Когда Фуст приветствовал меня вопросом: «Сколько страниц?» – мой ответ больше не вызывал у него гримасу.
Я сказал Каспару, что мы похожи на монахов – так оно и было на самом деле. Мы были изолированы от мира, словно монахи. Люди на улице слышали доносившиеся из дома звуки и недоумевали, но никто не знал, что происходит за нашими воротами. Книжная работа была нашим монастырским уставом. Заготовка бумаги и чернил были первым часом, утренний сбор, когда мы сходились в печатне, чтобы распределить дела на день, – капитулом, и так до вечерней молитвы, когда мы смывали чернила с форм и прессов, откручивали рамки и возвращали буквы в наборную, где их раскладывали по местам для следующего дня. Мы вместе работали, вместе ели, вместе спорили и смеялись – мы были братством.
По большей части моя работа проходила вдали от пресса: я отвечал на вопросы, улаживал споры, утрясал проблемы с платежами и счетами. Но случались мгновения покоя, времена, когда все в доме вращалось без сбоев, как планеты на своих орбитах вокруг земли. Эти часы были для меня счастливейшими. Я ходил по дому, созерцая мир, который сам вызвал к жизни, и дивясь ежедневному акту творения под этой крышей.
Конечно, не все шло гладко. Люди ссорились, прессы ломались, случались ошибки, что обычно бывало после того, как мы разбирали негодную страницу, рассыпали литеры. Пропадали запасы, что сопровождалось скандалами с Фустом. Шло время, и бремя забот, лежавшее на моих плечах, стало сказываться. Я вертелся без сна в кровати, без конца пересчитывая напечатанные страницы, набранные страницы, страницы, которые еще нужно набрать и напечатать. Меня уже не манили обещания приключений, мне хотелось, чтобы это поскорее кончилось. Каждый раз, пересекая порог Гутенбергхофа, я смотрел на каменного паломника, согнувшегося под невидимым бременем, и проникался к нему сочувствием.
Но не могу жаловаться. В свете того, что уже произошло и чему еще предстояло произойти, эти дни можно было считать хорошими.








