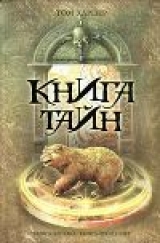
Текст книги "Книга тайн"
Автор книги: Том Харпер
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
LXII
Майнц
Для такого большого особняка «Хоф цум Гутенберг» выглядел на удивление скромным: узкая улочка не позволяла оценить его в полной мере. На цокольном уровне он незаметно переходил в соседское здание, тогда как большая его часть загибалась за угол в проулок. Нужно было откинуть голову назад, чтобы увидеть острый конек наверху; у большинства людей и без того хватало дел – они увертывались от скота, обходили навоз, старались не уткнуться лицом в шкурку, висевшую перед мастерской скорняка напротив, поэтому редко отрывали глаза от земли. Дом идеально подходил для того, что происходило внутри.
– Говорят, ты после возвращения взял новое имя, – сказал Фуст.
– Гутенберг.
Я отказался от имени отца и принял имя моего первого и последнего дома. С этим именем я мог представляться собственником, что оказалось полезным в некоторых из сделок. Но самое главное, с этим именем я обрел почву под ногами. Мое место было здесь.
Когда мы переступали через порог, я поднял голову, чтобы по привычке взглянуть на замковый камень в арке. На нем был изображен горбатый паломник в высокой конической шапке. Он согнулся чуть не пополам под грузом того, что нес под плащом. Я всегда задавался вопросом, что это была за ноша. Он опирался на палку, а в другой руке держал чашу для сбора подаяний. Я не знаю, почему эта фигура стала символом нашей семьи, – даже мой отец не мог это сказать. Но я, как и всегда, ощутил родство с ним: усталый паломник, все еще просящий подаяние, необходимое для завершения путешествия.
Со дня возвращения я был очень занят. Приехав, я обнаружил, что передние комнаты, в которых мой отец выставлял свои ткани и изделия, заколочены. Теперь они были забиты предметами мебели, придвинутыми к стенам или взгроможденными друг на друга, словно здесь готовились к переезду. Там уже стала скапливаться пыль.
Я провел Фуста в другую комнату, потом по короткому коридору мимо кладовки. Мы остановились перед обитой железом дверью, которая вела в заднее крыло.
– Поклянись Девой Марией и всеми святыми, что ты никому не расскажешь об увиденном здесь.
– Клянусь, – кивнул Фуст.
Я открыл дверь.
В середине комнаты за столом, специально туда передвинутым, сидели три человека. Они попивали вино, хотя, судя по их виду, никому из них это не доставляло удовольствия. Они знали, что поставлено на кон.
Я представил их.
– Конрад Саспах из Штрасбурга, мастер по сундукам и плотник. Он делает наши прессы, которые ты сейчас и увидишь.
Саспах был одним из немногих людей, выросших в моих глазах за время нашего знакомства. Борода у него теперь отросла и побелела, как у пророка, руки так загрубели – не верилось, что они могут вытачивать детали на токарном станке или делать ровнейшие пропилы. Он всегда играл второстепенные роли в нашем предприятии, но, когда я пригласил его из Штрасбурга в Майнц, охотно согласился.
– Готц фон Шлеттштадт, ювелир, который готовит для нас пуансоны и формы.
Вскоре после нашей с ним встречи арманьякцы разграбили его город и опустошили мастерскую. Ювелир, не имеющий золота, лишается дела. Через короткое время после этого он приехал в Штрасбург и предложил мне свои услуги. Я с радостью принял его предложение, потому что он был самым умелым из всех известных мне ювелиров. Все металлы в его руках становились послушными, как глина.
– Отец Хейнрих Гюнтер.
Молодой человек с мрачным лицом и вдумчивым взглядом, Гюнтер был викарием в церкви Святого Кристофа за углом, пока – в споре между архиепископом и Папой – не совершил грех: принял сторону патрона своего патрона. Архиепископ лишил его сана и оставил без гроша в кармане.
Я поглядывал на всех них: кто-то смотрел на Фуста, кто-то в свои чаши – по настроению. Эти сироты и изгои были моей гильдией, братством умельцев. Если бы с ними мог быть и Каспар, мое счастье не знало бы границ.
– И что же у вас есть общего? Это похоже на начало анекдота: плотник, ювелир, священник и… – Он посмотрел на меня. – А ты-то кто, Ганс Гутенберг?
Писец? Мастер по изготовлению оттисков на бумаге? Попрошайка? Шут?
– Паломник. – Я видел, что этот ответ не понравился ему, и поспешил продолжить: – Сначала мы тебе покажем возможности этого искусства.
Я протянул ему лист бумаги. По углам его были проколоты четыре отверстия, а посредине вроде бы наобум проведена карандашная линия.
– Напиши здесь свое имя.
Он без особого желания, как человек, который думает, что его хотят выставить в глупом свете, взял перо со стола и написал по линии свое имя.
– Бумага влажная, – сообщил он.
– Так она лучше впитывает чернила.
Саспах взял подписанный листик бумаги и вышел через дверь в соседнюю комнату. Из-за двери раздался протяжный протестующий скрип, словно корабль натягивал швартов. Потом последовали глухой стук, дребезжание и лязг. Фуст прищурился, а остальные сделали вид, что ничего не слышали.
Саспах вернулся и торжественно положил листок перед Фустом.
– Liebe Gott, – пробормотал он.
Его имя оставалось там, где он его написал, но если прежде оно располагалось посреди чистой страницы, то теперь оказалось в саду среди сотен слов, которые расцвели вокруг него за одно мгновение и вплели в свою паутину. Его имя теперь стало частью предложения:

– Никаких перьев. Никаких столов. Никаких витаний в облаках или помарок. Каждый раз идеальная копия. И, как видишь, изготовлено за считаные секунды.
Фуст был похож на человека, который свалился в пропасть и нашел полную пещеру золота. Он показал мне на грамматику, которую я ему демонстрировал на винограднике.
– И грамматика тоже была изготовлена там?
– Каждая страница.
– Она неотличима от настоящей.
– Возможно, именно она и есть настоящая. Как золото по отношению к свинцу или солнце по отношению к луне.
Но коммерческий разум Фуста не мог долго пребывать в состоянии прострации. Я не сомневался, что в его мозгу происходят подсчеты, замеры, вычисления.
– Зачем тебе нужна от меня тысяча гульденов? Тут, кажется, все готово.
– Это только начало. Доказательство того, что такое возможно. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого искусства, мне нужны еще прессы и оборудование, больше людей для работы, больше бумаги и пергамента.
– Чтобы печатать индульгенции и грамматики?
Я покачал головой и наклонился над столом. Я давно поклялся не прикасаться к вину, чтобы оно не туманило мои мысли. Теперь я обнаружил, что уже осушил чашу. Вино заструилось по моим жилам.
– Новое предприятие. Куда как более дерзновенное, чем все, что мы предпринимали. Несмотря на все наши достижения, мы пока лишь ученики в этом новом искусстве. Теперь мы хотим изготовить шедевр.
LXIII
Рейнланд-Пфальц, Германия
Ник наугад съехал с магистрали и двигался, пока не нашел мотель. Эмили спала на сиденье рядом с ним. Он чувствовал себя выпотрошенным, тело его представляло собой пустую емкость, в которой плескались последние капли адреналина и кофеина. Ему приходилось прикладывать усилия, чтобы держать глаза открытыми. Дрожь облегчения пробрала его, когда он остановился на парковке за зданием мотеля, а увидев простой номер с надежной кроватью темного дерева, он чуть не зарыдал.
Эмили откинула одеяло и, сев на краю кровати, сняла сапожки и носки. Несколько секунд она смотрела на него странным взглядом, которого Ник не понял.
Смущенно пожав плечами, она встала, стащила через голову свитер, вылезла из джинсов. На ней остались только белая сорочка и трусики с бюстгальтером. Она стояла на ковре в середине номера, чуть краснея, словно девственница, не знающая, что делать в первую брачную ночь. Ник старался не смотреть на нее.
– Я просто хочу, чтобы ты обнял меня.
Ник кивнул. Он слишком устал, чтобы чувствовать смущение. Он разделся и, оставшись в одних трусах, улегся в постель следом за Эмили. Лег рядом с ней, прижавшись грудью к ее лопаткам. Она вздрогнула. Он отодвинулся было, но она ухватила его руку и крепко прижала к своей талии.
– Так хорошо. Просто давно такого не испытывала. – Она вздохнула. – Не этого. Просто… тепла.
– Кажется, я тебя понимаю.
Она снова прижалась к нему. Ник положил ладонь на ее живот, приходя в ужас оттого, что прикасается к таким ее местам, к которым не должен прикасаться, и в то же время желая этого. Он вспомнил, как лежал точно так же с Джиллиан, испытывая такое же смущение, так близко и в то же время чувствуя расстояние. Всегда расстояние.
Он уснул.
LXIV
Майнц
Когда Фуст ушел, я принялся бродить по дому. День клонился к вечеру, скоро станет слишком темно и все пойдут отдыхать. Пока еще работы, которые были жизнью и дыханием дома, продолжались. Выйдя во двор, я почувствовал тяжелый запах горящего масла с едким привкусом угольного дыма. На отцовской кухне мы теперь отливали литеры, а там, где раньше мездрили кожи, готовили чернила. В литейной я увидел искры – отлитые литеры доводились на шлифовальном колесе.
Я поднялся по наружной лестнице у пристройки и по переходу прошел в главный дом. Здесь внешняя галерея огибала внутренний двор. Я на ходу смотрел сквозь зарешеченные окна. В той комнате, где когда-то изготовитель пуансонов делал формы для монет, теперь Готц выбивал буквы на медных квадратиках. В соседней комнате отец Гюнтер сидел за письменным столом, склонившись над маленьким томиком Библии. Рядом с ним лежал лист бумаги, а в руке он держал перо, которое, пока он читал, ни на мгновение не останавливалось. Для любого, кто видел писца за работой, это было неестественно: перо танцевало вверх и вниз по странице, явно наобум перепрыгивало через строчки. Оно не останавливалось на одном месте, чтобы вырисовать букву, а оставляло след из точек и коротких линий, какие оставляют птицы на снегу. Если он кого и напоминал, то не писца, а приказчика из купеческой лавки, занимающегося учетом товара. На самом же деле он производил учет всем буквам во всех словах Книги Бытия.
Он увидел, что я прохожу мимо, и крикнул:
– Ну как – получил, что хотел?
– Он даст нам восемьсот гульденов сейчас, а остальное потом. – Это было меньше, чем я просил, но больше, чем ожидал. – Купленное оборудование будет обеспечением денег. Он получит исключительные права продавать изготовленное нами, еще он согласился не участвовать в распределении прибылей. И он заказал пятьдесят экземпляров грамматики Доната – они будут нужны ему через три месяца. – Я рассмеялся. – Видел бы ты выражение его лица. Он поверить не мог, что такое возможно.
– Значит, он не заметил, что грамматика поддельная?
– Она была сделана безупречно.
Хотя индульгенция и была настоящей, грамматика, та, что я показал Фусту, была делом рук отца Гюнтера, который, вооружившись гусиным пером, провел над работой две бессонные ночи, когда стало понятно, что мы не сможем изготовить достаточно литер для печати всех шестнадцати страниц к назначенному времени.
– Через три месяца это не будет иметь значения, – сказал я ему.
В следующей комнате было темно; проходя мимо, я уловил запах сырости, исходящей от влажной бумаги, что хранилась внутри. В конце галереи еще один лестничный пролет вел на верхний этаж. Я уже собрался подняться, когда в сумерках раздался осторожный стук.
Кто-то стоял у парадной двери.
Я помедлил. Никто не приходил в Гутенбергхоф. И уж конечно, в такой час. Может быть, это Фуст передумал? Или городская стража? Больше двадцати пяти лет прошло с того дня, когда я бежал после преступления в доме Конрада Шмидта, но стука в дверь все еще было достаточно, чтобы кровь заледенела у меня в жилах. Я подождал.
На стук ответил Бейлдек, мой слуга. Я услышал, как он спрашивает, кто там, но ответ был такой тихий, что я не разобрал его. Дверь скрипнула и открылась. Я перевесился над перилами и посмотрел вниз. Из черноты под аркой двора вышла фигура. Человек двигался медленно, опираясь на палку, постукивавшую по булыжнику. Он остановился в середине. А потом, словно зная, что я все время смотрел на него, поднял голову.
Ноги у меня подкосились. Я крепче ухватился за перила.
– Каспар?
Он усмехнулся резко, отрывисто, словно ворона каркнула.
– Hier bin ich. Вот и я.
LXV
Рейнланд-Пфальц, Германия
Ник не знал, когда проснулся. В номере мотеля стояли сумерки – плотные занавеси не пускали внутрь свет пасмурного дня. Всю последнюю неделю он прожил в этом блеклом мраке – в свете вагонов, уличных фонарей, автомобильных фар и голых лампочек. Муха, тонущая в янтаре.
Но янтарь был холоден, а Ник чувствовал благодатное тепло, излучаемое одеялами, простынями, Эмили. Сорочка на ней задралась во сне, и она прижималась к его животу голой спиной, их тела сомкнулись в одном изломе.
Жар ее тела наполнил его огнем желания. Он раздвинул волосы у нее на затылке, чтобы поцеловать в шею, он гладил ее обнаженную руку, выпростанную из-под одеяла. Она повернула к нему голову, ее губы искали его. Он увидел, что ее глаза закрыты, и отпрянул от нее, но она обхватила рукой его шею и притянула к себе, закрыла его рот своим.
Желание перешло в страсть, он провел рукой по ее бедру, потом ухватил за ноги, притянул к себе, давая почувствовать, как напрягается его плоть. Она застонала, повела его руку вверх по своему телу, чтобы он ощутил упругость ее грудей через ткань сорочки.
Потом она перевернулась на спину и потянула его на себя. Он не сопротивлялся.
Проснувшись в следующий раз, он обнаружил, что лежит в кровати один. Головная боль прошла, но он был голоден как волк. Эмили оделась и теперь сидела перед комодом, который превратила в туалетный столик. Перед ней лежала украденная из библиотеки книга и расчерченный клочок бумаги размером с почтовую открытку. Она что-то писала на нем карандашом.
Ник сел. Его опутал клубок воспоминаний, которые могли быть его снами, и снов, которые дай бог чтобы были воспоминаниями. Он покраснел.
Эмили посмотрела на него и застенчиво улыбнулась.
– Выспался?
– Ммм… – Он вгляделся в ее лицо – нет ли в нем следов сожаления, и вскоре то же самое прочел и в ее взгляде.
– Я не хочу, чтобы ты думал… – начала она. – Я знаю, что не должна была…
– Нет. – Кажется, он говорил не то, что нужно. – Я хочу сказать: да, ты была должна. Не должна…
– Я не хочу стоять между тобой и Джиллиан.
Беспорядочные мысли Ника резко застопорились.
– Джиллиан?
– Я знаю, кто она для тебя.
– Нет, не знаешь. – Ник сбросил с себя одеяло и поднялся голый. Эмили смущенно отвернулась. – Ты что думаешь, когда мы ее найдем, я собираюсь подхватить ее на руки и умчаться в сторону заката?
Она откинула голову и заглянула ему в глаза.
– Тогда для чего ты все это делаешь?
Ник выдержал ее взгляд и понял, что не знает ответа на этот вопрос.
– Я приму душ.
Душа в мотеле не было – одна ванна. Он поплескался как мог в теплой воде, потом оделся. Когда он вышел, Эмили сидела, скрестив ноги, на застеленной кровати, а вокруг нее лежали книги и листы бумаги.
– Ну, что нашла?
– Я пытаюсь установить связь между Гутенбергом и Мастером игральных карт.
Этот разговор вроде бы укрепил невысказанное соглашение. Эмили расслабилась, Ник сел на уголке кровати.
– Мы должны исходить из того, что Джиллиан не видела страницу, которую мы восстановили. Она, вероятно, пошла по другому следу.
– Верно.
Ник вгляделся в большой лист, разложенный на кровати. Он был расчерчен неровной сеткой, перекошенной складками. Большинство квадратов были пусты, а в заполненных он увидел сделанные скорописью загадочные записи: «л. 212лс. Низ в центре, то же». В левом столбике снизу были изображены персонажи игральных карт.
– Что это?
– Это таблица книг и рукописей, в которых есть иллюстрации, похожие на рисунки игральных карт. Здесь перечислено, где какие картинки встречаются. Одна из таких книг – принстонская Библия Гутенберга, о которой я тебе говорила.
Ник соскочил с кровати и подошел к низенькому столику у двери – на нем стояли чайник и коробочка с чайными пакетиками.
– Что-то я не понимаю. Если смысл работы Гутенберга состоял в том, чтобы все экземпляры были одинаковыми, то разве иллюстрации не должны быть повсюду одними и теми же?
Эмили покачала головой.
– Как и многие революционеры, Гутенберг одел свое изобретение в очень старомодные одежды. Люди боятся перемен. Он не продавал ничего нового. Он пытался убедить людей, что изобрел еще один способ делать нечто им давно знакомое. В нашем случае – рукописи. Точно так же и первые автомобили были похожи на коляски.
Ник наполнил чайник водой.
– В Средние века книги не покупали, как теперь. Их делали на заказ. Сначала ты находил нужный тебе текст, а потом писца, который тебе его переписывал. Он писал на листах из восьми или десяти страниц, затем листы отдавали переплетчику, и тот сшивал их и делал обложку. Наконец ты нес книгу к рубрикатору, и он синими или красными чернилами писал рубрики, названия глав. Далее книга передавалась иллюминатору, который добавлял картинки. Простой чай, спасибо.
Ник вытащил два пакетика и положил их в кружки.
– Некоторые первые страницы Библии Гутенберга свидетельствуют о его экспериментах с двуцветной печатью; он добивался того, чтобы можно было печатать как заголовки, так и основной текст. Но очень быстро отказался от этой идеи, вероятно из-за чрезмерной сложности и трудоемкости. Гутенберг не хотел менять способ производства книг – только способ воспроизводства текста.
Ник вспомнил фразу в концовке бестиария «новая форма письма».
– Я должна была понять, что это значит, гораздо раньше. Но ответ на твой вопрос состоит в том, что, хотя тексты Библий Гутенберга практически идентичны, каждый сохранившийся экземпляр по-своему уникален. Иллюстрации и переплет к каждому делали разные руки.
– И принстонский экземпляр был сделан Мастером игральных карт?
– Некоторые иллюстрации в принстонском издании – близкие копии картинок с игральных карт, – поправила она. – Может быть, иллюминатор видел эти игральные карты и скопировал их. А может, они оба имели какой-то другой оригинал для копирования.
– Вот только теперь у нас есть лист бумаги, который соединяет Гутенберга и Мастера игральных карт на странице еще одной книги. – Ник налил кипяток в кружки. – Допустим, это нечто большее, чем совпадение. Видимо, такое же допущение сделала и Джиллиан.
– Согласна. Именно поэтому я хотела взглянуть на иллюстрации в принстонской Библии. Может быть, там существует какая-то система, ключ, который и нашла Джиллиан.
– Ну и тебе повезло?
– Пока нет. В этой таблице только номера страниц. Мне нужно увидеть и текст на них.
Ник уставился на нее.
– Я надеюсь, ты не собираешься украсть еще одну книгу?
LXVI
Майнц
Я провел его в гостиную, налил вина. Вечер был холодный, но Каспар держался подальше от огня, словно места ожогов, полученных той ночью на мельнице, все еще боялись тепла. Его одежда пахла сыростью и грязью, на щеках, там, где кожа была поцарапана ветвями или кустами, пролегли полосы засохшей крови.
– Арманьякцы вытащили меня из огня, – сказал он мне. – Полумертвого… даже еще хуже. Не знаю почему. Они должны были оставить меня, чтобы я сгорел там. Но взяли меня как пленника. Игрушку.
Я вздрогнул. Драх сидел абсолютно неподвижно, напряженный, как натянутая струна, вот-вот готовая порваться от любого движения.
– Они делали со мной такое, что ты и не поверишь. У тебя не хватит воображения. Их жестокость была бесконечно изобретательна. То, чему они научили меня…
– Если бы я только знал, – быстро проговорил я. – Если бы я знал, что ты жив, я бы весь мир поставил на голову, чтобы спасти тебя.
– Ты бы не знал, где искать.
Я смотрел на него в свете очага. Смотрел на слабое подобие того человека, которого любил когда-то, прежде гордого, а теперь сломленного. В свете лампы правая сторона его лица, иссеченная глубокими шрамами, напоминала одну из его медных дощечек. В пожаре сгорела половина его волос, остальные были выбриты, отчего кожа на черепе стала пятнистой и напоминала шкуру животного. Его глаза, которые прежде лучились разными цветами, теперь оставались неизменно черными.
– И сколько?..
– Месяцы? Годы? – Каспар пожал плечами. – Я не считал. Наконец мне удалось бежать. Я пришел в Штрасбург, но тебя там не нашел. Стал спрашивать. Кто-то сказал, что ты отправился в Майнц. С тех пор я и добирался сюда.
Я неловко наклонился к нему и прикоснулся к его плечу.
– Я рад, что ты пришел. Я молюсь за тебя каждую ночь.
Каспар свернулся на стуле, словно змея.
– Мог не трудиться. Господь бессилен, когда речь идет об арманьякцах.
Жесткость его взгляда поразила меня. Я промолчал.
– А ты процветаешь. – Сказанные хриплым голосом Драха, эти слова казались похожими на обвинение. – Меховой воротник, золотая стежка на рукавах. Уважаемый бюргер в отцовском доме.
– И в таких долгах, каких не могу себе позволить.
– Все гоняешься за своей мечтой совершенства?
– Нашей мечтой.
Каспар сжал, потом разжал кулаки. Пальцы у него были костлявые.
– Я уже много лет как забыл про все мечты.
Я встал – продолжать дальше в таком же тоне было невыносимо.
– Пойдем, я покажу тебе, что мы делаем.
Он поплелся за мной по галерее. Я привел его в печатню, где станки купались в свете серебряных лунных лучей.
– Мы устанавливаем каждую букву отдельно, – пробормотал я. Меня трясло. – Ты не поверишь, насколько близко к истине…
Холодная рука ухватила меня за шею, наклонила, прижала лицо к перепачканной чернилами подложке пресса. Я согнулся пополам, хватая ртом воздух. Каспар держал меня одной рукой, а другой возился с поясом.
– Что ты делаешь? – воскликнул я. – Каспар, ради Христа…
Он душил меня, прижимаясь ко мне сзади. Меня окутал могильный запах сырой земли.
– Ты знаешь, что они делали со мной, пока ты тут играл в свои игры?
– Я думал, ты мертв.
Его руки сдирали с меня одежду, царапали мою кожу.
– Пожалуйста, – взмолился я. – Не так.
– Что тут такое?
В комнате вспыхнул свет, и Каспар в мгновение ока отскочил от меня. Тени, казалось, окутали его, словно плащ. Я выпрямился и оглянулся. В дверях стоял отец Гюнтер с лампой в руке и вглядывался в комнату.
– Иоганн?
Я пробормотал что-то неразборчивое.
– Мне послышался крик.
– Это пресс проскрипел. Я демонстрировал его… моему другу.
Гюнтер повернул лампу так, что лицо Каспара выплыло из темноты. Гюнтер пристально посмотрел на него.
– Если все в порядке… – с сомнением в голосе сказал он.
– Все будет хорошо.
Каспар вернулся, но он стал другим. Темная сторона его натуры, которую я когда-то принял за неизбежную тень сверкающего солнца, поглотила его. После той первой ужасной ночи он не говорил о том, что ему пришлось выстрадать, и, слава богу, не нападал на меня. Я простил ему это, но чего я не мог принять, так это малозаметных изменений, произошедших в нем. Жестокостей исподтишка, злости в глазах. Он, как призрак, мог погрузить комнату в холод, стоило мне войти туда. Я противился этой мысли сколько мог, но в конечном счете вынужден был признать: я больше не любил его.
Но талант никуда не делся. Даже губительные демоны, поселившиеся в нем, не смогли ослабить его интерес к книге. Я поощрял в нем этот интерес, надеясь, что работа хоть немного излечит его, настроит его разум на вещи более светлые. Я предоставил ему комнату в верхнем этаже дома, дал чернила, перья, кисти, бумагу – все, что ему было нужно. И он отплатил мне за все это.
Он показал мне плоды своих трудов однажды вечером, когда я поднялся на чердак, после того как вся команда, работавшая с прессом, ушла. Каспар сидел у наклонного стола в дальнем конце комнаты. Он что-то увлеченно писал и не поднял головы, когда я вошел.
Я наклонился посмотреть, что он делает. Единственный лист бумаги размером с две индульгенции испещряли тонкие карандашные линии и дуги – все это походило на чертеж собора. Более жирной линией в середине был выделен прямоугольник, состоящий из двух массивных столбцов, похожих на колонны. Каспар затенил их тыльным концом карандаша, оставив чистой лишь верхнюю полоску в первом столбце, где написал четкими, аккуратными буквами: «In principio creavit deus celi et terram». «В начале сотворил Бог небо и землю».
– Вот как она должна выглядеть, – сказал Каспар. Он провел пальцем по одной из дуг. – Самые гармоничные пропорции. Твоя совершенная книга.
Я мягко положил руку ему на плечо, представляя себе эти столбцы, уже заполненные рядами слов.
– Это прекрасно.
Он, казалось, ждал чего-то еще. Но я молчал. Он вздохнул.
– Видишь, как я выписал буквы – они заполняют колонку целиком от одного поля до другого. Ни один писец не смог бы так, разве что случайно. Мне потребовалось десять попыток, чтобы сделать это всего на одной строчке. Но ты со своими литерами можешь точно определять место каждого слова, каждой буквы. Как Бог.
Я сразу же понял, что он прав. И почувствовал знакомую вибрацию, эхо ангельского пения. Я с такой сосредоточенностью вглядывался в рисунок, размышляя, как получить ровный оттиск каждой буквы, что от моего внимания ускользнуло более общее соображение. Мы могли так набирать слова, чтобы каждая строка казалась словно высеченной в камне: массивные столбцы текста становились опорой для слова Господа. Такого не могла сделать ни одна человеческая рука.
В слабом свете мои старческие глаза утратили четкость видения. На секунду взгляд перешел с затененных столбцов на широкие белые поля. Фон и передний план поменялись местами: белая бумага стала окном, обрамляющим туманную темноту за его рамами. Карандашные черточки, казалось, завихрились, как капельки чернил в воде, сплетаясь в слова, сказанные Господом.
Это был последний и лучший дар Каспара мне.








