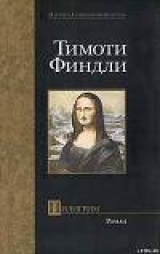
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
«Иными словами, – подумал Юнг, закрыв дневник, – как мне вернуть его сюда, если он категорически не желает здесь быть? Что же касается сейчас – судя по его записям, сейчас для Пилигрима существует исключительно в прошлом. Что ж… – решил он, вставая, – это моя работа. Да. Моя работа. Только как ее сделать?»
8
На прошлое Рождество Эмма Юнг купила мужу фотоаппарат – игрушку, как она говорила. «Каждому ребенку нужна хотя бы одна игрушка на Рождество, – написала она на открытке, – и я дарю ее самому младшему и любимому из своих детей».
Так она его воспринимала. Конечно, он был гением – но ведь то же самое можно сказать о восьмилетнем Моцарте. «Если подумать, – сказала она как-то фрау Эмменталь, когда они лущили летом горох, – именно то, что Карл Густав сохранил в себе ребенка, и делает его гением. Он видит, мечтает и изумляется как дитя – без тени сомнения. Он знает, что он знает. И знает, чего не знает. Это явный признак гениальности: не бояться собственного невежества».
Фотоаппарат «Кодак» был типа гармошки. «Мой аккордеон, – говорил Юнг. – Сыграть тебе что-нибудь?»
Восьмого мая 1912 года, в среду, Юнг выглянул во время завтрака в окно и увидел в саду нарцисс.
– В саду расцвел нарцисс! – объявил он Эмме. – Как только доем, пойду и сфотографирую его.
– Не обольщайся, Карл. Один нарцисс погоды не делает. Надень галоши и шарф, когда пойдешь на улицу. Тебе некогда болеть, а мне некогда с тобой нянчиться.
– Слушаюсь, мэм! – Юнг улыбнулся жене и сжал ее руку.
– Мэм? – удивилась Эмма. – Что такое «мэм»?
– Так говорят в Англии, обращаясь к пожилыми мудрым женщинам. Сокращение от «мадам» – выдумка англичан, чтобы их язык отличался от французского, который они не переваривают. Или делают вид, что не переваривают. Англичане воруют все свои слова и вносят в них очень тонкие изменения – хотя, если честно, эта тонкость весьма похожа на кулак, сунутый тебе под нос. Они сохраняют написание, но коверкают произношение или произносят так же, зато пишут иначе. А иногда проделывают и то, и другое. Как, например, в слове «мадам». Мэ-эм. Ха! Как будто овца отбилась от стада. «Мадам» для них чересчур по-французски. Ужасно иностранное слово! Безумно претенциозное!.. С другой стороны, они запросто пользуются словом «ambuscade» (сидеть в засаде (англ.)) и произносят его на певучий, как флейта, французский манер, хотя и пишут через «а» вместо «е».
– Все это очень интересно, Карл. Спасибо за лекцию. – Эмма поставила кофе на стол и промокнула губы. – А почему ты выбрал именно слово «ambuscade»?
– Как это – почему?
– Почему ты выбрал в качестве примера «сидеть в засаде»?
– Просто первое слово, которое пришло мне на ум. Не знаю…
– Я бы на твоем месте задумалась об этом. И не без тревоги.
– Тревоги? Какого черта? Это же просто слово.
– Это не просто слово, а опасное явление. Предупреждение. Симптом, демонстрирующий твое душевное состояние. Или же твое отношение к бедному нарциссу в снегу. Ты сидишь здесь и замышляешь выйти в сад, чтобы снять ни о чем не подозревающее создание. Ведь снять – синоним слова «сфотографировать», верно? Но у него есть и другое, довольно-таки двусмысленное значение… «Сегодня утром Карл Густав снял Нарцисса!» Боже мой! Что мне, бедной, делать?
Эмма улыбалась, и Юнг отвечал ей тем же. Но когда она посерьезнела, он по-прежнему продолжал улыбаться..
– А с другой стороны, – сказала Эмма, протягивая ему спички, – быть может, где-то в глубине души ты боишься, что кто-то притаился во тьме и хочет тебя схватить. Подумай об этом. Ладно, я пошла заниматься твоим Савонаролой– а ты иди снимай свой нарцисс.
Выйдя в сад и тут же зачерпнув в галоши кучу снега, Юнг сказал нарциссу, что хочет только сфотографировать его, а вовсе не срезать для вазы.
– Не бойся, – произнес он вслух.
Эмма, глядевшая в окно, увидела, как шевельнулись его губы. «Опять он за свое! Снова разговаривает с неодушевленными предметами! – Она невольно улыбнулась. – Еще один неоспоримый признак гениальности».
В клинике Юнг увидел леди Куотермэн, идущую по саду.
«Черт! С ней мистер Пилигрим. Я не смогу сейчас попросить у нее дневник».
Парочка брела по гравийным дорожкам к сосновой рощице, мимо статуи Психеи и бюста Августа Фореля на пьедестале. Доктор Форель обеспечил клинике Бюргхольцли мировую славу. Его репутация была непоколебима, хотя, по мнению Юнга, старик исчерпал свои возможности и ему пора было уйти на покой. Форель беспрестанно посещал клинику, надоедая персоналу ненасытной жаждой вмешиваться во все процессы. «Вы не понимаете того-то и того-то! – вещал он. – Неужто до вас и правда не доходит? Вы не видите, к чему приведет такое лечение? К катастрофе!» Врачам приходилось часами отстаивать свое мнение.
Леди Куотермэн вела Пилигрима по лужайке, полого спускавшейся вниз, к навесу, под которым стояла ее машина. Она вела себя с ним, как нежная мать. Наблюдая за ними, Юнг пришел к выводу, что с таким же успехом они могли быть любовниками.
Пилигрим был с ног до головы укутан в пальто, из-под которого торчали хвосты бесчисленных шарфов. Поля сдвинутой набок фетровой шляпы затеняли удлиненное лицо. Одной рукой он поддерживал шляпу, а второй вцепился в локоток леди Куотермэн так, словно боялся упасть.
Юнг догнал их возле Психеи.
– Доброе утро. Не возражаете, если я составлю вам компанию?
Сегодня Сибил ему не улыбалась.
– Если угодно, – сказала она.
Вид у нее был такой, будто она не спала неделями. Лицо побледнело. Под тонким слоем пудры просвечивали голубые тени. В глазах, словно у загнанного животного, плескался страх. Она боялась дневного света.
– Здравствуйте, мистер Пилигрим, – настойчиво повторил Юнг. – Утренний моцион? Так вы, англичане, это называете, верно?
– Да, доктор Юнг, – ответила Сибил. – Как ваше самочувствие?
Юнг заверил маркизу, что чувствует себя отлично, добавив, что захватил с собой фотоаппарат.
– Я сфотографировал после завтрака нарцисс, – сказал он. – Первый в этом сезоне. Явный признак, что весна не за горами. Не сегодня-завтра они распустятся повсюду.
– Надеюсь, – откликнулась Сибил. – Этот бесконечный снег начинает меня угнетать. Не представляю, как вы его выносите.
Юнг посмотрел на Психею.
Она была изваяна из мрамора, и ей это шло. На фоне снега Психея казалась почти бестелесной, как привидение, склонившееся над замерзшим прудом в обрамлении тоненьких березок. крылья, похожие на крылья бабочки, были покрыты льдом.
– Белое, белое, все белое, – пробормотал Юнг.
– Да, – отозвалась Сибил. – Белое. – И спросила: – Можем мы где-нибудь присесть на минутку, доктор? Тут скамейки есть? Не знаю почему, но я еле стою на ногах.
– Скамейка есть – вон там, за доктором Форелем. – Юнг пошел вперед. – Возможно, вы устали из-за высоты. Мы как-никак в горах, и людям с непривычки здесь трудно дышать. Особенно тем, кто живет в низинах.
– Верно. Я как-то об этом не подумала.
– Мы находимся на высоте почти тысяча четыреста футов над уровнем моря. Садитесь, пожалуйста.
Сибил посторонилась, давая Юнгу возможность смахнуть со скамейки снег носовым платком. Он был без перчаток. На шее у него висел фотоаппарат.
«Эта штука выглядит как мертвая. птица», – подумал Пилигрим.
Когда скамейка была очищена от снега, Сибил села, Пилигрим примостился рядом с ней.
Юнг, отступив на шаг, невольно залюбовался ими, испытывая одновременно какое-то тревожное чувство. Леди Куотермэн явно была нездорова или же чем-то сильно удручена, а упорное молчание Пилигрима начинало Юнга раздражать. С другой стороны, они были такой красивой парой! Сидят себе в заснеженном саду, а Психея у них за спиной задумчиво смотрит на заледенелый пруд …
Внизу Юнг увидел еще одну фигуру, направляющуюся к дверям клиники.
Арчи Менкен, его американский коллега.
«Интересно, что бы он сказал о дневниках Пилигрима? подумал Юнг. – Скорее всего: «Бросьте! Это всего лишь бред расстроенного сознания, Карл Густав. Не пытайтесь найти смысл в безумии».
Юнг вновь посмотрел на сидящую пару и спросил:
– Вы не против, если я вас щелкну? Вы так великолепно смотритесь вдвоем! Я хотел бы запечатлеть это на память. Исключительно для себя, разумеется. Такой чудесный день! Солнце, снег… И фотография друзей. Могу я вас так называть?
Сибил посмотрела на Пилигрима.
– Ты не возражаешь, если тебя сфотографируют? – спросила она..
Пилигрим отвел глаза, как ребенок, которому велели вести себя прилично..
– Да, пожалуйста, – сказала леди Куотермэн. – Дивный будет снимок. На память для всех нас.
Арчи Менкен, стоявший у окна в своем кабинете, мельком глянул на троицу в саду. Потом покачал головой и подошел к столу. У него своих забот хватает. Бог с ним, с Карлом Густавом, и его причудами.
Арчи был учеником Уильяма Джеймса. Лекции Джеймса в Гарварде произвели на Менкена неизгладимое впечатление, однако преданность наставнику связала его по рукам и ногам, лишив всякой инициативы. Все, что он думал и делал, в том числе и для своих пациентов, было окрашено заповедью учителя: «Есть только то, что есть. Больше ничего нет».
Его мнение о графине Блавинской было очень простым: «На Луне жизни нет, Вернитесь домой!» Пилигриму он говорил примерно так: «Вы достигли безмолвия, которое искали в смерти, оставшись в живом потоке сознания. Заговорите – и делу конец!» Пилигрим загадочно улыбался в ответ, думая про себя, что живой поток сознания холоден, как лед.
Что же касается отношения Арчи к Юнгу, то он восхищался страстностью Карла Густава, однако считал, что ее не мешало бы направить в более практическое русло. Совсем еще молодой, Менкен даже не осознавал, насколько его собственная «страстность» зависит от наставлений ментора. Он и говорил-то его словами. Менкен вечно – и в записях, и в разговорах цитировал фразы Джеймса «есть только то, что есть и «поток сознания», демонстрируя тем самым, что до сих пор остался учеником, хотя мог бы стать настоящим психоаналитиком. Джеймс вот уже два года как умер, но для Менкена он словно сидел в соседней комнате, ожидая, когда к нему обратятся за консультацией.
Юнг доводил Арчи до бешенства своим бесконечным потворством фантазиям пациентов.
– Наша работа, – раздраженно заявил, как-то Арчи, – состоит в том, чтобы вернуть их в нормальное общество, а не разделять с ними их мании! Спуститесь с Луны, Карл Густав! Верните Блавинскую в тот мир, где правит сила тяжести и где люди живут, а не мечтают о жизни!
О Пилигриме он как-то сказал Юнгу следующее:
– Вы наслаждаетесь его дилеммой! Вы от нее балдеете! Вы украли его у Йозефа, который мог бы вылечить беднягу, поскольку вам невыносима мысль о том, что кто-то другой будет упиваться этими скрытыми Sturm und Drang («Буря и натиск», литературное движение в Германии 70-80-х гг. 18 века), которые довели Пилигрима до попытки самоубийства и немоты. Вы как ребенок, который завидует, когда другие играют с куклой. Если кукла заговорит, она должна заговорить на ваших условиях, но не сама по себе! И уж тем более не благодаря кому-то другому. В каком-то смысле вы чудовище, Карл Густав! Мое – вот ваше любимое слово! Господи Иисусе! Клянусь, вы скорее дадите ему умереть, чем ожить в руках у Йозефа или у меня, например!.
Доводы приводились на повышенных тонах, то есть, попросту говоря, Арчи орал во весь голос. Юнга это пленяло в Арчи больше всего. «Дерзкий мальчишка, легко возбуждающийся юнец… Почти всегда на грани интеллектуального оргазма…»
К восьмому мая, в тот день, когда Юнг сфотографировал Сибил Куотермэн и Пилигрима, между двумя врачами осталось мало невысказанного. Что же до Йозефа Фуртвенглера, там вообще не о чем было говорить. Он захлопнул перед Юнгом дверь, и все дела.
Но Юнг не слышал безмолвия, попросту его не признавал, поскольку каждый «безмолвный» час, который он проводил с Пилигримом, был наполнен – по мнению Карла Густава – такими же содержательными беседами, как и с любым пациентом, способным говорить. Они молча обсуждали состояние Пилигрима, музыку, которую он любил слушать на «Виктроле» (Марка граммофона), виды из окон клиники, его любовь к вину и отвращение ко многим блюдам. А также его упорное нежелание надевать галстуки в полоску. С точки зрения Юнга, пристрастия человека, пусть даже выраженные только жестом, были равноценны вербальному общению. Что же до нюансов, то опущенный взгляд, пожатие плечами, перемена позы вполне заменяли прилагательные. Сообщения передавались не словами, а отношением. Юнг считал, что наблюдать – такая же работа, как и слушать. Менкен этого не понимал.
Юнг успел полюбить Пилигрима – и за его отказ говорить, и за раздражение, с которым тот относился к допросам психиатров. Когда Пилигрим поправится и вернется в Англию, клиника без него опустеет. Если он поправится, конечно.
Если он поправится… Почему он так подумал? Вот оно! Ambuscade. Попасть в засаду отчаяния. Он не поправится.
Ты ничего не сможешь сделать.
Нет! Не говори так. Ты не имеешь права!
Хорошо. Он поправится. Поправится. И все мы полетим на Луну. Браво!
Господи…
Господи!
Что это значит? Кто говорит? В сознание Юнга вторгся незваный голос – циничный и наглый, предрекающий неудачу в то время как сам он верил в победу.
Быть может, ты один из них, а, Карл Густав? Позволь мне напомнить о твоей матери. Подумай о ней! Ее бессонные ночи, бессвязные проклятия, угрозы и предостережения, обращенные ко всем, включая тебя! Ее сны, кошмары, крик и шепот во тьме… Она была одной из них, а не из нас, Карл Густав. Ты сам так говорил – или по крайней мере думал. Верно? Разве нет?
Да.
А как насчет тебя? Почему бы и нет? Нигде не сказано, что врач не может быть больным.
Юнг потер лоб ладонью.
– Утихни! – прошептал он. – Умолкни и уйди.
Я всего лишь хочу помочь. Только помочь!
Ты поможешь мне, если заткнешься.
Ладно. Я молчу.
Юнг замер.
Я пока помолчу. Но я не уйду. Я останусь, Карл Густав. Я останусь!
Этот знаменательный «разговор» – Юнг не смог подобрать другого слова – состоялся около восьми часов утра восьмого мая, в тот самый день, когда Юнг сфотографировал Пилигрима с леди Куотермэн – и нарцисс, с которым он беседовал в саду.
В тот день Юнг не поехал в Кюснахт обедать. Он остался один в своем кабинете, выпил немного бренди и закурил сигару, погрузившись в глубокое раздумье, словно ожидал, что с ним вот-вот заговорят.
9
В три часа того же дня Арчи Менкен вернулся в кабинет, проведя час с пациентом, которого невозможно было заставить замолчать. Последние недели с больным интенсивно работали: его выслушивали, пичкали хлоралгидратом и настойкой опия, купали в ваннах, привязывали к кровати – короче, всячески пытались прекратить истерику. Но пациент так и не умолк. Он то бессвязно лопотал о датской истории, то называл улицы Лондона в алфавитном порядке, то начинал рассказывать о жизни королевы Александры, то объяснял, почему гильотина не сумела заставить умолкнуть аристократию. Последняя тема показалась Менкену особенно занятной, учитывая, что пациент был сыном герцога из королевской фамилии.
В три минуты четвертого, когда Арчи налил себе немного запрещенного бурбона и закурил сигарету, в дверь постучали.
– Нет! – сказал он, быстро пряча бутылку и стакан на случай, если это Блейлер. – Я занят!
Дверь тем не менее отворилась.
В проеме стоял Юнг.
– Уходите, Карл Густав. Мне надо побыть одному, – сказал ему Арчи.
Лицо у Юнга было серое, в руках он держал пачку только что отпечатанных фотографий.
Он подошел к креслу для пациентов напротив Арчи и рухнул в него так, будто только что закончил пробежку.
– Да что е вами, черт возьми? – спросил Арчи. – Я же сказал: хочу хоть немного побыть один!
– Бога ради! – Юнг махнул рукой. – Не суетитесь. Я просто посижу тут.
– Вы не можете просто тут сидеть! Один – значит один, черт побери!
– Представьте, что меня здесь нет.
Арчи вытащил стакан и глотнул виски.
– Что вы делали – взбирались на гору? Почему вы так запыхались?
– Объясню, когда вы отдохнете. А пока не обращайте на меня внимания.
Арчи сел обратно в кресло и, сдаваясь, вздохнул.
– Выпить хотите? – спросил он.
– Конечно, хочу.
– «Конечно, хочу!» Конечно!.. В этом вы весь!
Арчи повернулся, вытащил второй стакан, налил чуточку бурбона и протянул через стол. Потом налил себе до краев и поставил бутылку в сторону.
Юнг выпил, так и не выпуская из рук фотографии. Его губы шевелились. Он ерзал, то сводя, то разводя колени, как томимый возбуждением подросток.
– Ну? Говорите!
– Вы уже побыли один?
– Не паясничайте. Рассказывайте, зачем пришли.
Юнг раздвинул снимки веером, как игральные карты.
– Вот! Взгляните на них, будьте добры.
Менкен нагнулся вперед и взял восемь еще немного липких снимков.
– Я сделал их сегодня утром, – сказал Юнг, – и отнес проявить Фаллабрекве. Получил полчаса назад.
– Юргену Фаллабрекве?
– Сколько, по-вашему, Фаллабрекве у нас работает? Восемьдесят? Конечно, Юргену, вы…
– Договаривайте, Карл Густав! Облегчите душу.
– Вы, идиот!
– Благодарю. Я давно подозревал, что вы именно так обо мне и думаете.
– Бога ради! Да посмотрите же на снимки!
Юнг встал, допил бурбон и обошел вокруг стола, чтобы налить еще. Таким образом он оказался за правым плечом Арчи Менкена.
Арчи придвинул лампу поближе и разложил фотографии на промокательной бумаге – четыре и четыре. Он изучал, их почти целую минуту, одну за другой.
Три нарцисса – три леди Куотермэн с Пилигримом – одна Психея – один автомобиль («даймлер»).
– Заметили что-нибудь? – не выдержал наконец Юнг.
– Ну… – протянул Арчи, чуть отодвинувшись в сторону. – Они действительно хороши.
– Я не о том! Вы заметили что-нибудь необычное?
Арчи снова просмотрел все снимки.
– Есть у вас лупа? – спросил Юнг.
– Нет. Вообще-то леди … не помню, как ее звать… выглядит немного грустной. Вы это имели в виду?
– Вы правы, но я имел в виду совсем другое.
Арчи внимательно изучил каждый снимок, поднося их по очереди к свету.
Юнг склонился над ним.
– Ну?
– На снимках с нарциссом ничего необычного нет, я полагаю.
– Точно.
– Это один и тот же цветок? Фотографии и вправду великолепны. Вы могли бы их опубликовать. Снег… тени…
– Я говорил не о снимках с нарциссом!
Арчи отложил их.
– Психея?
– Отчасти.
– Она на четырех снимках. На трех – вместе с леди имярек и Пилигримом, а на четвертом – одна.
– Да.
– Крылья у нее покрыты льдом. Это видно. И…
– Посмотрите на Пилигрима!
Арчи положил три снимка леди имярек и Пилигрима прямо под лампу, встал и нагнулся над ними.
– Ну как? Видите что-нибудь? – спросил Юнг.
– Нет.
И чуть погодя:
– Вообще-то…
Еще чуть позже:
– На этом снимке…
Арчи взял фотографию, лежавшую посередине, и поднес ее поближе к глазам. Отошел к окну, где свет был естественным – снежно-белым, не таким желтым.
– Здесь, – сказал он наконец, – на плече у Пилигрима что-то есть, чего нет на остальных снимках.
– Слава Богу! – выпалил Юнг и бухнулся в кресло Арчи.
– Почему «слава Богу»?
– Значит, я не сбрендил.
– Не сбрендили потому, что на плече у Пилигрима что-то есть? – рассмеялся Арчи.
– Скажите мне, что это.
– Не могу. Слишком смутное изображение.
– Посмотрите еще раз! Внимательнее!
– Ей-богу, Карл Густав, это смешно.
– Посмотрите еще раз!!!
Арчи, ошарашенный этой внезапной вспышкой ярости, ничего не ответил и вновь повернулся со снимком к окну.
– Похоже… на бабочку. Хотя, конечно, этого не может быть. Скорее всего это снег – но выглядит как бабочка.
Юнг закрыл глаза и прижал обе ладони к губам. Арчи положил снимок обратно на стол, к остальным.
– Ну и что это значит?
Юнг ничего не ответил.
Он встал, сунул фотографии в карман, допил бурбон, подошел к двери, помахал рукой и заявил:
– Спасибо, мистер Менкен.
Арчи сел за стол.
– Бабочка? Не может этого быть, – сказал он вслух. – Не может!
Назавтра Юнг приехал в Кюснахт обедать.
– Психея, – прочла Эмма, глядя в книгу поверх тарелки с супом, – это персонификация души, охваченной страстной любовью. Изображается в виде миниатюрной крылатой девушки, а иногда – в виде бабочки.
Эмма посмотрела в сторону окна, через которое Юнг глазел на свой нарцисс.
– Тебя это интересовало? – спросила она.
– Да, спасибо, – еле слышно прошептал он в ответ. А потом добавил: – Скажи мне, что ты тоже ее видишь!
Эмма глянула на пресловутую фотографию, подняв лупу, чтобы поймать бабочку в фокус.
– Да, – промолвила она. – Я ее вижу.
– Арчи думает, это просто снег.
– я сама так сперва думала, – откликнулась Эмма. – В конце концов, она же на снимке неподвижна. Но как она выжила? Разве бабочки не впадают зимой в спячку? Откуда она там взялась?
– Это Психея.
Эмма еле сдержала улыбку. Фигура Карла Густава со спины вдруг показалась ей какой-то жалкой. Грустно…
«Не может быть, чтобы он в это верил! Но он верит. Он верит – или же хочет верить, – что статуя Психеи каким-то образом сотворила бабочку, сидящую на плече у Пилигрима. Конечно, это полная чушь. Быть такого не может».
– Иди поешь, – сказала она. – У тебя сегодня есть еще пациенты?
– Да. Один.
– Ясно. Поешь, станет легче.
Юнг сел, развернул салфетку и заткнул за воротник, как это сделал бы ребенок. Или крестьянин.
– Левериц и его медведи, – произнес он.
– Бог мой! Мистер Левериц такой неугомонный! Ты уверен, что справишься? У тебя усталый вид.
– Я и правда утал. Но я справлюсь. Должен. Если, конечно, он не спустит на меня собак.
– Ты вроде говорил, что он с ними завязал.
– Все зависит от степени паранойи. Вот уже неделю никаких собак действительно не было.
Отто Левериц верил, что живет в медвежьей берлоге. Возможно, это было обусловлено тем, что он вырос в Берне. По легенде, в двенадцатом веке основатель Берна заявил, что назовет город в честь первого же зверя, убитого на охоте. Поэтому на городском гербе был изображен медведь.
Танцующие медведи, заключенные в клетку медведи, сидящие в берлоге медведи и затравленные медведи были постоянными спутниками Леверица. А время от времени он сам становился медведем. Во время кризисов его травили собаками так ему казалось, – и тогда на него приходилось надевать смирительную рубашку. Когда-то Юнга заинтересовала мания бедняги, но теперь, по прошествии трех месяцев, сеансы с Леверицем его утомляли. Слишком много собак.
– Который час? – спросил он.
– Рано еще, так что не дергайся. Ешь. Ты должен не только работать, но и жить.
Юнг поднял пустую ложку и опустил ее.
Эмма не спускала с мужа глаз. Он демонстративно уставился в сад за окнами.
«Все будет хорошо, – подумала она. – Все будет хорошо. Это пройдет».
Медведи, собаки и бабочки. Мужчины, которые должны были умереть, но остались в живых. Женщины, обитающие на Луне. Такую жизнь он выбрал, и Эмма должна была поддерживать его силы. Все образуется. Он просто переработался, перенапрягся и пере… Как это? Переутомился. Переоценил свои силы. Тем не менее он здесь, и, с гордостью глядя на него, Эмма подумала: «Он найдет выход. Он всегда находит выход».
10
Сон.
Возможно, он слышал музыку. Похоже на то. Кто-то пел. Леонардо подошел к окнам. Камзол был расстегнут, шнуровка на рубашке развязана, волосы распущены, пояс брошен на пол.
Спину Леонардо освещал огонь камина. Бордовый бархат камзола прочертили оранжевые полосы, как будто пламя оцарапало его своими пальцами.
– Иди сюда!
Герардини замер на месте.
– Иди сюда! Я хочу показать тебе кое-что.
– Что?
– Подойди и увидишь.
Герардини стоял как вкопанный у стола, не спуская глаз с портрета обнаженного юноши. Мой брат. Значит, вот как это было? Невинное на вид приглашение – иди сюда, – и свечи начинают оплывать, свет от камина бежит по полу, а запах ириса, розмарина и апельсинов становится единственной реальностью…
Герардини подошел к окну. Рука Леонардо неожиданно обхватила его за плечи.
– Видишь? Месса кончилась.
Из открытых дверей церкви Святой Марии устремился поток фигур в сутанах с капюшонами.
Рука Леонардо спустилась на талию Герардини.
– Я устал. Ты должен помочь мне.
– Я не знаю как.
– Что за чушь! Прекрасно знаешь.
Леонардо нагнулся и поцеловал юношу в губы, прижимая к себе и расстегивая его камзол.
Герардини отпрянул.
– у меня есть кинжал!
Леонардо выпрямился – удивленный, но улыбающийся.
– Кинжал?
– Да.
– Ты спятил? Что я такого сделал? Мы занимались этим сто раз!
– Вы не понимаете. Я боюсь.
– Ты никогда не боялся. Никогда. Только не меня.
– Вы не понимаете! Я не…
– Что – не?.. Ты меня не любишь?
Леонардо рассмеялся.
Герардини глянул на площадь. Пес умер. Прихожане, оплакивавшие усопших, разошлись. Двери церкви закрылись. Костры по-прежнему горели, но людей, сидящих вокруг, начало клонить ко сну. В их общем силуэте не было ничего человеческого – издали он казался контуром горной гряды.
Рука Леонардо вновь упала на плечо Герардини.
– Я всегда сначала брал тебя сзади. Помнишь? Стоя. Вот так…
Он настойчиво прижался к юноше сзади и с силой сунул ему в рот пальцы свободной руки, приговаривая:
– Вот так, вот так. Тебе нравится, правда?
Его губы впились в левое ухо Герардини. Он сорвал с юноши камзол, и тот повис на одном плече. Леонардо быстро взялся за застежки, скреплявшие лосины юноши с поясом.
– Ты пахнешь точно так же, как и раньше. Волосы, шея, кожа…
Леонардо взял руку Герардини и положил ее на свой восставший член.
– Не-ет!
IОноша развернулся и ударил Леонардо в лицо.
Тот дал сдачи – так сильно, что Герардини упал.
Потом нагнулся, поднял мальчика и сорвал с него рубашку.
Руки Герардини взметнулись вверх, прикрывая тело. Леонардо дважды ударил его по лицу. Дважды – а потом еще раз.
Юноша скрестил руки, прижав локти к груди.
Голос Леонардо доносился до него словно откуда-то издалека.
– Мне не говорят «нет»! Никто! Встань на колени и проси прощения!
Мальчик обмяк и рухнул на колени.
– Простите.
– Еще раз! И как следует!
– Простите, Мастер!
– Встань!
Герардини не мог пошевелиться:
– Встань!!!
Леонардо схватил юношу за волосы и поднял на ноги. Потом взял за руку, протащил по комнате, бросил на стол и, сорвав с него лосины и туфли, швырнул их в огонь.
Герардини опустил руку вниз, прикрывая пах, и закрыл глаза.
Слишком поздно.
Леонардо уже увидел… и отвернулся.
Герардини сел.
– Я пыталась сказать вам, – проговорила она. – Но вы не слушали».
11
Юнг читал это в полночь, сидя в своем кабинете, облаченный в пижаму и халат. Он нашарил пачку с сигарами, вытащил одну и чиркнул спичкой.
Не осознавая, что делает, Юнг поднес горящую спичку к губам и опомнился только тогда, когда почти уже сунул ее в рот.
– Черт побери! – выругался он.
Встал, налил себе стакан бренди.
Ты ведешь себя как пьяница, Карл Густав.
Кому какое дело? Мне нужно выпить! А кроме того, я совершенно трезв.
Ты чуть не поджег себя! И это признак трезвости? АЙ-аЙ-аЙI Целый стакан бренди! Так ты недолго останешься трезвым.
Отвяжись!
Ты слишком много пьешь, Кар Густав. А жаль. Такой острый ум…
– Отвяжись, Я сказал!
От его крика еле слышно задрожали оконные стекла;
С кем ты разговариваешь, Карл Густав? Здесь нет никого, кроме тебя u меня.
С призраками.
Тут нет призраков.
Тебе виднее.
Вот именно.
Юнг сел и выпил. Потом посмотрел на дневник Пилигрима с этой возмутительной историей, написанной его возмутительным почерком, в которой он обливал грязью одного из величайших людей, когда-либо ходивших по земле… И все это в таком спокойном, нейтральном тоне, словно читаешь порнографический отчет из зала суда!
А теперь еще и это. Очередной поворот.
Я пыталась сказать вам, – проговорила онa.
Проговорила она. Проговорила она. Проговорила она.
Выходит, речь шла о какой-то бабе!
Ну-ну, не горячись! Что ты имеешь против женщин? Почитай лучше дальше и узнай, кто она такая.
Я не хочу знать, кто она такая! Она самозванка, черт бы ее побрал!
Опять ты чертыхаешься, Карл Густав. Не стоит опускаться до ругани. Это неприлично.
А мне плевать! Плевать, черт побери!
Вижу. А зря, потому что ты катишься по наклонной. Кстати, что ты делал, читая дневник? Ты сам-то заметил? Мы в университете называли это «шаловливые ручонки». Помнишь? Так мы говорили о мастурбации, то есть, выражаясь более деликатно, о самоудовлетворении.
Я не дотрагивался до себя! Всего лишь поправил брюки. Мне было неудобно сидеть…
Ты будешь курить свою сигару?
Да! Обязательно!
Юнг сунул сигару в рот и закурил.
Перефразируя твоего бывшего друга доктора Фрейда, порой сигара – это просто сигара.
Прекрати! Никакой это не фаллический символ!
А я что говорю?
Ты намекаешь… Послушай! Меня не возбуждает совращение юношей. И перестань обливать меня грязью!
Но она не юноша. Она девушка.
Все равно не возбуждает.
Значит, ты ненормальный.
– Заткнись, Бога ради!
Ты снова говоришь вслух сам с собой.
Хорошо. Раз ты не хочешь оставить меня в покое, я буду читать дальше и узнаю все, что написано в этом проклятом дневнике – и почему!
Тишина.
Только шелест страниц.
А затем удовлетворенный вздох. Вот оно!
«Платье, или, вернее, маскарадный костюм…»
«Платье, или, вернее, маскарадный костюм, полетело к ее ногам. Ей было велено надеть его и сказано – почти с отвращением, – что Леонардо не интересует ее тело… Разве только как объект анатомических изучений.
– Надень его!
Девушка встала и, съежившись, повернулась к нему спиной. Ни один мужчина еще не видел ее обнаженной.
Кто-то из юных друзей Леонардо, очевидно, надевал это платье на масленицу – до пришествия Савонаролы. Голубое, расшитое звездами, вырезанными из посеребренной бумаги и приклеенными на ткань в виде созвездий: пояс Ориона – на талии, Плеяды – поперек груди, Кассиопея – на спине, а по кайме – Млечный Путь. Не будь она так напугана, девушка залюбовалась бы им и, наверное, даже похвалила эту веселую выдумку. Но сейчас ей было не до того.
Натянув на себя неуместное одеяние, она повернулась и устремила взгляд на фигуру, которая стояла теперь прямо, уставившись в окно.
Девушка подняла наконец голову.
– Вы позволите мне сказать?
Тишина.
– Позвольте мне объяснить вам, кто я такая. И почему я пришла сюда в таком виде…
Голос у нее дрожал. Она вцепилась пальцами в платье.
Леонардо не шевельнулся и не промолвил ни слова. В комнате слышалось только потрескивание дров в камине. Злобное потрескивание.
– Умоляю вас, дайте мне объяснить! И рассказать об Анджело.
Леонардо процедил сквозь зубы одно-единственное слово:
– Говори.
И она рассказала свою историю.
* * *
Анджело был моим братом~близнецом.
Наш отец…
Не важно почему, но я ненавидела его. Отрицать это или скрывать нет смысла. Ненависть моя жива и поныне. Я ношу ее, как камень за пазухой. Всю жизнь я ненавидела мужчин. Всех, кроме одного. Моего Анджело.
Мой Анджело. Мой ангел.
Ангел из ада. И как же я любила его за это! Боготворила его порочность. Его необузданность. Любовь к озорным проделкам.
Меня это покоряло до глубины души. Наслаждение… Восхитительный привкус порока. «Давай повеселимся!» – говаривал он.







