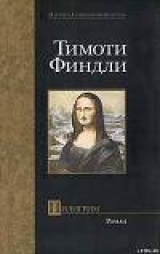
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Как ты, наверное, догадываешься, мне страшно. После такой полнокровной, насыщенной жизни – и вдруг смерть. Мы были так уверены, что она никогда не придет! Вспомни, как часто мы желали ее прихода, хотя знали: то, что смертные называют «гибелью», нам не грозит. Боги этого не допустят. Они даже думать о ней не позволят – и все же вот она…
Двое посланцев прибыли в Цюрих одновременно с нами. Ты помнишь, когда мы приехали, мела метель? Похоже, она была их транспортным средством. Фамилия этой парочки Мессажер. Посланец. Они выдают себя за французов, безупречно говорят по-французски, но больше у них нет никаких человеческих черт. Я узнала их с первого взгляда, хотя не сразу поняла, зачем они явились. Я думала, в Роще будет сбор – и, естественно, сердце у меня подпрыгнуло от радости, поскольку я решила, что на нем будет решено освободить тебя от нынешнего состояния. Но они явились не за тем.
Доктора Юнга, быть может, позабавит – если ты когда-нибудь захочешь рассказать ему об этих событиях, – что он тоже видел моих гостей, поскольку Мессажеры, выдавая себя за новобрачных, были в ресторане в день нашей первой встречи. Я не могла не отметить про себя, как его поразила их неземная красота.
Да, я верно выразилась. Они явно не от мира сего; впрочем, откуда простому смертному это знать? Жаль, что боги и их подручные не появляются здесь чаще. Очень жаль. Так было бы лучше для всех нас.
Хотя моя «жизнь» ни в коем случае не может сравниться по продолжительности с твоей, я уверена, ты сможешь представить, с какими смешанными чувствами радости и трепета я смотрела, как они приближаются ко мне. Ты прекрасно знаешь правило неписаного этикета: «К ним не подходят; они подходят сами». Однако я постаралась всячески облегчить им задачу, усевшись на видном месте в вестибюле отеля и сделав так, чтобы меня назвали по фамилии.
Не могу точно сказать, как скоро я поняла, что они прибыли «позвать меня домой». Раньше я не сомневалась, что моя жизнь будет продлена. Мое пребывание здесь, как ты знаешь, было не слишком долгим. Похоже, мне даровали обычный срок человеческого существования – не больше. Я должна была выполнить свою работу, и, очевидно, моя миссия подошла к концу. Сидя здесь сейчас, я пожимаю плечами, теряясь в догадках. Кто может понять, что все это значит? Я, наверное, никогда не пойму – и готова с этим смириться.
Ты как-то раз сказал мне под большим секретом – и поверь, мой дорогой, я никогда не предам твое доверие, – что твои встречи с Другими всегда происходили в месте, которое ты называл Рощей. Я удостоилась чести быть приглашенной туда лишь однажды – и, право, я этого не ожидала. Но теперь могу признаться: я надеялась, что нас с тобой пригласят туда еще не раз. Хотя ты с горечью как-то обронил, что это «честь быть обесчещенным».
Я знаю, как ты страдал. И то, что ты должен страдать и дальше, более всего печалит меня сейчас, когда мне приходится покинуть тебя. Но меня призвали.
То, что их фамилия Мессажер, почти забавно. В этом так мало такта!.. Хотя во всем остальном они были учтивы и обращались со мной с величайшим почтением. Месье преподнес мне букетик фрезий, а мадам присела в реверансе. Представляешь? В тот миг я была для них королевой! У них такой вид – ты поймешь, о чем я, – как у новоиспеченных чемпионов… У гимнастов, только что увенчанных лаврами. Молодость – но такая, какой она редко бывает, без печати смертности. Сплошь благоухание, нежная кожа и удивленно распахнутые невинные глаза.
Боже мой! Жить – умереть. Что мы знаем? Ничего. Вернее только одно: жить хуже, чем умирать.
Быть отвергнутой жизнью, отринутой, освобожденной от нее. Больше никаких «должна». Мне не придется отныне вставать на заре, быть, брать на себя ответственность, видеть то, что мы видим, грустить, тосковать по тем, кого я люблю, отпевать мертвых младенцев, животных, незнакомцев. Мне не придется больше обещать: «Я не могу, но попытаюсь. Я не могу, но сделаю». Мне не придется больше оказываться в ситуации, когда ты вынуждена говорить: «Я знаю – я вижу, я слышу, я чувствую», поскольку у тебя есть глаза, уши и нервные окончания. Всех этих человеческих качеств я буду лишена, и хотя я рада, что расстанусь с ними, мне невыносима мысль о том, что Я также расстанусь и с тобой.
Я больше ничего не смогу для тебя сделать. Ничего.
О Боже! О боги! О люди!
Быть такой беспомощной даже хуже, чем быть живой.
Наша нужда друг в друге, неизвестно по какой причине, подошла к концу. И в этом конце я вижу необходимость моей собственной кончины.
Моей кончины. Да. Надо тренироваться и почаще произносить слова, относящиеся к смерти. Гибель. Успокоенue.Уничтоженuе. Конец. Уход. Небытuе.
Как же это банально! И бессмысленно. Надеюсь, ты сейчас смеешься. Я, например, смеюсь.
Je suis passee, monsieur. (я прошла, месье, фр.) жизнь тоже passee.
Смейся, Пилигрим, смейся. Один из нас дошел до конца.
Я исполнила свой долг. Я любила смертного, произвела на свет смертных детей, страдала от смертности во всех ее многочисленных проявлениях. Мне повезло родиться в самом привилегированном кругу. Я видела несправедливости – и исправляла их. А иногда не могла исправить. Я была очень – целиком и полностью! – земной. И все же…
Мы все прощаем себя, верно? Прощаем себя и виним кого-то другого – не называя его по имени, но прекрасно видя краешком глаза. Когда нам нужно, всегда находится тот, на кого можно свалить вину. Но только не на себя. На себя – никогда, никогда.
Ныне, в мой предсмертный час, я жалею об этом больше всего, мой дорогой Пилигрим, если не считать того, что я теряю тебя. Мне жаль, что я так часто винила других за свои собственные ошибки. Или же за нехватку терпимости. Я считала, что мужчины не должны любить мужчин, а женщины женщин, что бедность – вина самих бедняков (как я могла так думать?!) и что «благо» – такая штука, которую правительство может определить своими декретами. Бог ты мой! Если мы творим законы, это еще не значит, что мы способны очертить границы чьих-то потребностей, радостей и верований. Как смеем мы определять, что такое «благо» для других, если самим нам его даровали свыше?
Все это – такую малость! – я поняла в тот миг, когда меня призвали. Я поняла, что – не считая нашего с тобой общения, мой дорогой друг – почти не жила. Моя любовь к Генри и детям, в том числе и самая мучительная любовь к Дэвиду, чье предсказуемое будущее разбивает все мои надежды, была «чисто человеческой». У меня были деньги и положение. Все мыслимые привилегии – и я не воспользовалась ими… разве только в том, что касалось тебя. Не странно ли это – а может, и не странно вовсе, – что я так много упустила, имея такой широкий спектр возможностей?
А их и правда было много. Даже мои ненаглядные дети как часто я упускала возможность увидеться с ними! Не могла, не хотела… была занята – и в то же время утверждала, что люблю их.
Все уже позади. Жизнь. Возможности. Единожды дарованные, единожды упущенные… А теперь мне отказано в них навсегда. Горизонт такой широкий! А опыт такой узкий! Жить… Быть живой…
Насколько я поняла, меня повезут в какую-то долину. На машине. Будет снег. Больше я ничего не знаю. И не хочу знать.
Мне остается сказать только одно – и я уже писала об этом доктору Юнгу в последнем письме: в глуши я нашла алтарь с надписью: «Неведомому богу»… и принесла ему жертву.
Я знаю, ты поймешь, хотя доктор Юнг, возможно, не понял. А теперь я скажу тебе то, чего ты никогда не сможешь мне сказать.
Прощай.
С вечной – если я смею так выразиться – любовью…
Сибил».
Юнг сунул письмо в конверт и, не испытывая ни малейших угрызений совести из-за того, что он его прочел, положил обратно в нотную папку Анны.
Вздохнув, устроился в кресле поудобнее. Значит ли это, что он имел дело не с одним душевнобольным пациентом, а с двумя? И один из них сейчас мертв.
Конечно, со временем он покажет письмо Пилигриму – но не ранее, чем смирится с мыслью (а может, и больше, чем мыслью), что прочитанное им послание было адресовано бессмертному.
Книга четвертая
1
«Пятница, 30 ноября 1900
Чейни-Уок
До меня дошли слухи, что Оскар Уайльд умер сегодня в Париже, вскоре после полудня. Интересно, что напишут об этом газеты – если напишут вообще. Они так старательно избегали упоминать его имя, что могут упереться и не напечатать ни строчки. Я думал о нем сегодня вечером во время прогулки».
Эмма смотрела на страницу как завороженная. Оскар Уайльд. Когда-то в ранней юности она читала о его жизни, судебных процессах и смерти. Эмма вновь глянула на дату. 1900 год. За три года до того, как они с Карлом Густавом поженились.
Интересно, что мистер Пилигрим думает об этом обесславленном писателе? И обо всех остальных… Эмма до сих пор с приятным изумлением вспоминала, как Карл Густав разрешил ей прочесть дневники. И не просто разрешил – дал ей задание!
«Я должен побольше узнать об этом человеке, – сказал он сегодня утром за завтраком. – Мне нужно понять, почему он пишет такие невероятные истории. Сны ли это? Или вымысел? Я хочу выяснить, что произошло в его жизни. Что подтолкнуло его к созданию этих фантазий».
Таким образом, задание Эммы состояло в том, чтобы просмотреть дневники и выискать места, относящиеся к самому мистеру Пилигриму и его жизни в Лондоне. До сих пор она лишь однажды читала его дневник, когда переписывала то удивительное письмо к Леонардо да Винчи. Пока она писала, на бумагу капали слезы, и Эмма этого не забыла.
А теперь перед ней впервые оказались собственные воспоминания мистера Пилигрима – о вечерней прогулке в 1900 году и об Оскаре Уайльде.
«Я поужинал один, хотя Агамемнон, как обычно, лежал у моих ног. Милый малыш Ага беспрестанно сопел и чихал. Он простудился, но это пройдет. Мне кажется, ему даже нравится болеть. Ага с нетерпением ждет зимних холодов, когда можно будет подхватить простуду. Он знает, что тогда его вечером уложат в корзинку у камина и дадут чашку теплого молока. Форстер очень терпелив с ним, хотя вечно рискует споткнуться о пса, который обожает спать в темных углах.
На ужин мне подали консоме, густо политое хересом, филе палтуса под изумительным соусом, ростбиф в собственном соку, ростки брюссельской капусты (аl dente (с зубчиками, фр.), как мне нравится) и картофель дюшес. Затем – рисовый пудинг с таким сочным и сладким изюмом, какого я век не едал. И бутылка «Нюи Сен-Жорж». Великолепно! Не забыть бы поздравить миссис Матсон. Десерты и соусы она готовит потрясающе, да и лопатка была зажарена лучше некуда.
Когда я вышел в коридор и взял тросточку, малыш Ага, очевидно, почитая это своим долгом, сделал вид, что хочет составить мне компанию. Но стоило мне подойти к двери, как он вернулся обратно к Форстеру и проскользнул в библиотеку, к своей корзинке.
Я никогда не хожу через реку. Поэтому для меня открыты только три направления. В каждом из трех маршрутов есть свои прелести и загадки. Проходя мимо окон, я представляю себе, как люди живут за ними, и эта игра меня развлекает. А кроме того, за окнами есть и реальная жизнь, с которой я слишком хорошо знаком, и я то восхищаюсь живущими там людьми, то проклинаю их, мысленно бросая им во время прогулки букет или булыжник. (Позже, поравнявшись с домом Уистлера, хоть он там больше не живет, я вслух обругал его за Оскара и бросил тонну булыжников. Сволочь.)
Я прошел по Чейни-Роу, затем по улице Оукли, вернулся на Чейни-Уок, вышел на Флад и, свернув вправо по бульвару Святого Леонарда, очутился на площади Тедуорт. Я часто блуждаю так, словно в лабиринте. Наверное, это тоже своего рода игра. Иногда я думаю: «Как прекрасно было бы заблудиться!» Где я? Ау!.. А потом, как бы случайно, с облегчением найти свой дом. Заплутать. Заблудиться. И чтобы никто не знал, где я.
Лондон в наше время стал до безобразия цивилизованным и безопасным. Незачем оглядываться в страхе по сторонам. Наступающее столетие со всеми его предсказуемыми чудесами словно говорит: «Мы причалили к надежной пристани, и здесь нам ничто не грозит».
Хотя…
Сегодня в шесть утра, еще в темноте, я вновь проснулся в холодном поту, нашаривая лампу. Чуть ее не свалил, но умудрился поймать, потом нашел в ящике ночного стола блокнот с ручкой. У меня так тряслись пальцы, что я не мог написать ни слова. Взяв наконец себя в руки, я начал записывать то, что увидел во сне – хотя до сих пор не понимаю, что все это значит. На сей раз мне пригрезилось слово «Менин». Все три слова у меня записаны в колонку, и каждое из них, как в Дельфах, было произнесено сквозь клубы дыма и пламенные языки.
Аррас.
Сен-Квентин.
И сегодня: Менин (Места сражений Франции во время Первой мировой войны)
А еще фраза: «Сейчас там только сосны, поскольку в этом месте ничего больше не будет расти».
Что бы это значило? Из всех трех слов мне знакомо только одно: Аррас, городок во Франции. Святых я знаю плохо – хотя полагаю, что Квентин скорее всего француз. А кто такой Менин? Я, хотя и без особого успеха, пытаюсь обратить все в шутку: быть может, Менин со святым Квентином прячется, как Полоний, за Аррасом, и их вот-вот убьют? Но кто? Не Гамлет, это точно. Гамлет никогда не появляется в моих снах. В них вообще нет ничего, связанного с театром, если не считать того случая, когда Сара Бернар легла под гильотину и ей отрезали ноги. А все потому, что она упрямо хотела произнести одну из своих речей из «L'Aiglon» («Орленок», пьеса французского драматурга Эдмона Ростана
(1868–1918)) до конца. Во сне ее расчленили. Губы актрисы продолжали шевелиться, даже когда ей отрезали голову. Жутко – хотя и забавно. Помню, проснувшись, я подумал: «Упорство – качество, объединяющее всех великих художников».
Что же касается сосен, у меня нет никаких объяснений.
Этот образ тоже является мне регулярно, почти как декорация. Четыре дня назад я видел во сне незнакомую реку, которая разлилась на несколько потоков, поскольку русло ее запрудили трупы животных – овец, коней, коров, и прочая, и прочая. А неделю назад какие-то люди в старинных доспехах – железных шлемах, забралах и нагрудных латах – ехали по холму, поливая окрестности огнем из садовых шлангов и испепеляя все на своем пути.
Я записал в дневнике все, что мне привиделось, Раз эти картины так упорно повторяются, отсюда можно сделать только один вывод: меня возвращают в то ужасное состояние, от которого я столь пламенно молил меня избавить. Но не на коленях. Я никогда не молюсь на коленях. Это слишком унизительно и по-детски. Если Бог и правда есть, по-моему, он предпочитает встречаться с нами лицом к лицу, глядя прямо в глаза. Именно так я всегда общался с ним, а он, как мне кажется, со мной. Хотя если обстоятельства заставят, я мигом бухнусь на колени.
Я свернул к набережной Челси, глядя на отдаленные огни Бэттерси, сияющие за рекой, и пошел по улице Тэйт.
В доме номер шестнадцать огни не горели. Похоже, после того как Уайльду пришлось продать его со всей обстановкой за гроши, чтобы расплатиться с долгами, никто не хочет тут жить. Изящные белые балконы в лунном свете придают дому одичалый и одинокий вид. Никто больше не выйдет на них, глядя вниз или на речку. Он умер. И Констанс тоже умерла. Что сталось с их сыновьями? Бог весть. В газетах о них – ни слова.
Помню, как он стоял в дверном проеме, высоченный до ужаса. «Наконец-то! Я вас заждался». Не упрек, а приветствие, намекающее на то, с каким нетерпением он предвкушал встречу с вами. Он всегда умел дать почувствовать, что вы – самый почетный гость, невзирая на то, кто еще был приглашен на ужин в тот вечер. Я сиживал за столом Уайльда с самыми выдающимися художниками – живописцами, актерами, писателями. Он не скупился на угощение – лучшее вино, изысканные блюда и «весь бисер, который я мечу, несмотря на отсутствие свиней». Это я цитирую самого Уайльда.
Последняя наша встреча с Оскаром была в своем роде пророческой. Мы виделись летом. Я, как и добрая половина населения земного шара, поехал во Францию, чтобы поглазеть на чудеса парижской выставки.
Приглашения в мастерскую Родена удостоились лишь избранные; сам не пойму, как я попал в их число. Работы скульпторов со всего мира были выставлены в Гранд-Палас, однако скульптуры Огюста Родена экспонировались в отдельном павильоне. Говорят, никому из художников после Микеланджело не удавалось изобразить человеческую натуру с такой живостью и страстью, как Родену, – и это чистая правда.
Но меня пригласили не в павильон Родена, а в его личную мастерскую на улице д'Юниверсите, посмотреть незаконченные «Врата ада». Когда я пришел, Уайльд уже был там с двумя спутниками. Один из них – новый друг писателя, потрясающе красивый и пропорционально сложенный французский морячок, которого Роден позже использует как натурщика. По-моему, его звали Гилберт, хотя я не помню, имя это или фамилия. А вторая – экспансивная женщина, прилипшая к Уайльду как банный лист.
Звали ее Шейнид Эггетт, и она была из Ирландии, как и сам Уайльд. Пока готовился ужин, она дала мне свою визитку, «чтобы вы знали, как пишется мое имя. В Ирландии оно распространено достаточно широко, но я обнаружила, что у многих англичан с ним возникают проблемы. Произносится Шейнид». Несколько недель назад, по словам Оскара, миссис Эггетт пристала к нему на улице: схватила за лацканы и смачно поцеловала в губы. «Надеюсь, что это видел весь мир! – заявила она. – Я преклоняюсь перед вами».
Хотя Уайльда очень смутило ее восторженное приветствие, он был ею очарован. По его словам, она была «храброй искательницей приключений в дебрях искусства».
– Дорогой мой мальчик, – сказал Уайльд, когда все представились друг другу. («Мальчик», несмотря на то что я был всего на год моложе него!) – Я уже не чаял увидеть тебя снова.
– Я пришел из-за тебя, – соврал я. – Где же еще можно встретить мастера слова, как не у мастера каменного безмолвия? Здесь тебе не с кем будет помериться силами, Оскар. Никто не побьет тебя в твоей игре.
– А разве это возможно? – улыбнулся он.
Я заметил, что у него нет нескольких зубов. Мы пожали друг другу руки.
В глазах у него стояли слезы, а рука казалась неживой. Вся его энергия иссякла, и у меня сложилось впечатление, что он держится из последних сил.
Как это ужасно – видеть гиганта в миг падения! Вот он, Уайльд, которому осталось несколько недель до смерти, стоит у «Врат ада», словно пришел занять свое место среди статуй Родена. «Мне встать здесь или там? – казалось, спрашивал он. – Поднять одну руку или обе? Скажите, что я должен делать! Быть может, вы заметили, что в моей теперешней осанке нет ни намека на сожаление о былом? Все прошло. Все».
– Дорогой мой мальчик, – сказал он, выпустив мои пальцы из своих. – Пойдем посмотрим на ад. Там нет ничего такого, чего я не мог бы объяснить.
Мы отошли от других гостей и встали перед гигантской гипсовой моделью «Врат» двадцати футов высотой и более десяти шириной. Роден объяснил, что сперва намеревался создать «порталы» (его слово) для будущего музея декоративных искусств. Музей так и не построили. Воздвигнуть его, естественно, собирались в Париже. Когда я осматривал невостребованную работу скульптора, Роден вот уже двадцать лет создавал различные компоненты композиции, и многие из них стали самостоятельными произведениями.
– Эти порталы – мой Ноев ковчег, – заметил Роден. – Я могу населить их кем угодно. Поскольку никто, кроме Данте, не возвращался из ада, спорить со мной будет некому.
Он сказал это со смехом, хотя я отметил про себя, что его голос дрожит от избытка чувств, которые вызывало в нем это грандиозное и удивительное творение.
У окна сгорбилась фигура, известная теперь под названием «Мыслитель». «Поцелуй» тоже предназначался для «Врат ада», но Роден убрал его из композиции, поскольку он не вписывался в тему. Не менее знаменитой стала скульптурная группа «Уголино и его сыновья», посвященная страшной трагедии слепого помешанного вельможи, который, когда его бросили в темницу, пожрал своих сыновей.
Оскара больше всего заинтересовала фигура падающего Икара, провинившегося лишь в том, что он подлетел слишком близко к солнцу. Глядя на него, Уайльд сказал:
– Я и сам стал знатоком падений. Надо было учиться на его ошибках.
С Роденом я поговорил совсем немного, поскольку его вниманием завладела неотвратимая, как лавина, миссис Эггетт. Мне еле удалось поблагодарить мастера за приглашение и выразить восхищение его работой.
Когда я собрался уходить, то увидел, что морячок Уайльда принес деревянный стул. Оскар уселся на него перед «Вратами ада», держа в руках шляпу и попыхивая турецкой сигареткой с золотистым ободком. Красавчик в морском мундире стоял рядом, и оба они были «прокляты» в глазах приличного общества.
Уайльд обмолвился, что ждет своего юного канадского друга Роберта Росса, который пригласил его вместе со спутниками поужинать в «Le Jardin des Lilas» («Сиреневом саду», фр.), одном из немногих кафе, куда изгнанного отовсюду писателя еще пускали. А затем они собирались устроить экскурсию по ночной жизни Парижа. Не хочу ли я составить им компанию?
С удовольствием.
Уайльд как-то сказал, что у миниатюрного Росса «лицо эльфа и сердце ангела». Впервые его увидев, я с удивлением обнаружил, что у этого канадца довольно атлетическая фигура. Говорят, в 1886 году, когда ему было семнадцать, а Уайльду тридцать два, Росс «совратил» писателя, открыв ему мир гомосексуальных наслаждений. Позже Росс доказал, что он не просто безмозглый соблазнительный юнец. Он остался в числе немногих друзей, которые поддерживали Уайльда до самого конца – как практически, так и морально.
Было решено, что экскурсия по «ночной жизни» – дабы завершить образование миссис Эггетт – должна включить в себя посещение знаменитого борделя «La Vieille Reine» («Старая королева»).
– Дело там поставлено не просто с шиком и блеском, но и со вкусом, – сказал Уайльд. – Вы ни на миг не почувствуете смущения. Дамы в «La Vieille Reille» безупречны – подобраны по внешним данным и по манерам. В этом заведении нет ничего грубого и непристойного. Я много раз там бывал – просто чтобы посмотреть, как они этого добиваются. Все они совершенно обольстительны и очаровательны!
– Такое чувство, что находишься в салоне «синих чулок», – подтвердил Роберт Росс.
Вскоре я обнаружил, что это чистая правда – с одной лишь, но существенной разницей. Чулки были черными.
Хозяйку все звали «Мадам ля Мадам». Ее настоящее имя было известно разве только ее давно усопшим родителям.
Мадам ля Мадам приветствовала Уайльда, приложившись к его ручке и ласково похлопав по плечу. Россу достался более официальный bisou (поцелуй, фр.) в обе щеки. Миссис Эггетт и мне хозяйка просто кивнула. Зато Гилберта взяла под локотки и привлекла к своей груди, словно давно потерянного ребенка – блудного сына, который наконец вернулся.
– О! – заворковала она. – Какая прелесть! Изумительный красавчик! Какая находка! Как вы могли скрывать его, месье Уайльд? Ему вот-вот стукнет четырнадцать, и мы лишимся радости ознакомить его с искусством наслаждения! Вы привели юношу, чтобы сделать нам подарок? Он – ваш дар?
Даже Уайльда немного смутила эта страстная речь. Гилберт выскользнул из объятий Мадам и спрятался за спиной миссис Эггетт. Но Мадам ля Мадам не унималась:
– Я заплачу вам за него!
– Нет, Мадам, нет, – с улыбкой ответил Уайльд. – Он не мой и не ваш, так что его невозможно ни продать, ни купить. Я привел его сюда, чтобы он узнал неведомые ему стороны жизни. Мы пришли не как клиенты, Мадам, и не как товар. Мы просто зрители при вашем восхитительном дворе.
– Какая жалость! – воскликнула хозяйка. – Ну да ладно.
Все равно – добро пожаловать! Я пришлю Росель и велю ей позаботиться о вас.
С этими словами Мадам проводила нас к столику в углу зала и поспешила прочь.
Салон был большой, битком набитый народом и элегантно обставленный. Самой потрясающей деталью была длинная лоза глицинии, искусно вылепленная из раскрашенного гипса. Извиваясь, она петляла по потолку и кое-где спускалась по стенам. С ее зеленых веток, украшенных листьями, свисали «грозди» – бессчетные крохотные канделябры в виде сиреневых цветочков, нежно светившихся в клубах сигаретного и сигарного дыма, которые витали над посетителями. Кроме того, здесь были также китайские фонарики – как в саду.
– Очаровательно! – воскликнула миссис Эггет. – Просто очаровательно!
Миссис Эггетт с детства не была в Париже. Раза три-четыре ее привозили сюда родители, но тогда она, естественно, не встречалась с такими людьми, как Уайльд и его блестящее окружение. Зато сегодня она – как и я сам – стояла вместе с Уайльдом перед самим Огюстом Роденом.
– Поразительный человек! – взахлеб повторяла она потом. – Вы знаете, что он мне сказал? «В классической скульптуре художники искали логику человеческого тела, в то время как я в своих работах ищу его псuхологuю». Удивительно, правда? А как точно подобраны слова! «Логика» и «психология» человеческого тела! Я никогда этого не забуду – и его тона тоже. Он само совершенство! И, конечно же, абсолютно прав. Абсолютно. Меня восхищают художники, которые умеют выражать свои идеи словами. С ними так приятно беседовать! Не сравнить с теми, кто вечно запинается…
Мне вдруг захотелось, чтобы миссис Эггетт тоже запнулась хоть ненадолго.
Тут к нам подошла Росель – высокая, в тщательно продуманном наряде. На ней был корсаж из розового сатина и турецкие шальвары шоколадного цвета, крашеные волосы с бронзовым оттенком уложены в затейливую прическу с серебряными звездами и блестками. Учтиво поклонившись, она спросила, чего бы мы хотели.
Уайльд заказал шампанского.
Я отметил, что другие женщины одеты в том же стиле, что и Росель, только сочетания цветов отличаются: голубые и зеленые, фиолетовые и оранжевые, желтые и зеленые, красные и голубые. Все дамы были примерно одного роста – от пяти с половиной до шести футов – и щеголяли в шальварах, туфлях с загнутыми кверху носками и длинных шарфах с бахромой. В их задачу входило удовлетворять самые невинные желания клиентов – приносить напитки, сигары, пепельницы, подушки и раздавать веера с изображением голых красоток.
Когда Росель ушла, Росс повернулся ко мне и тихонько сказал:
– Вы, разумеется, заметили, что наша официантка – мужчина.
– Боже правый! Нет!
– Они все мужчины, – улыбнулся Росс. – Это делается намеренно, чтобы клиенты не пытались снять их вместо девушек, которые обязаны их ублажать.
Я оглянулся вокруг и, невольно улыбнувшись, заметил, что у всех «официанток» в шальварах слишком большие руки и ноги, а также почти театральный макияж. Тем не менее зрелище было интересное; я решил непременно описать его в дневнике.
Уайльд поднял бокал с шампанским.
– Ла-Манш – не просто канал, отделяющий остров от материка, – сказал он, глядя сквозь шампанское на канделябры в форме глициний. – Высадившись во Франции, ты попадаешь в самое сердце винного рая. Что же до англичан, они обладают непревзойденной способностью обращать вино в воду.
Все рассмеялись, и Уайльд произнес тост «за этот славный отпуск от процесса умирания».
Я поймал себя на мысли: вот мы сидим тут, в парижском борделе теплой летней ночью, и то, что скоро один век сменится другим, волнует нас не больше, чем смена стражи в Букингемском дворце. Стражи… Стражи чего? Вечности? Почему я в этом сомневаюсь?
Пока я продолжал прогулку по Челси, мысли о Уайльде и Родене неизбежно привели меня к воспоминаниям о другом художнике.
Джейме Макнейл Уистлер жил лет двадцать назад в доме номер тринадцать по улице Тэйт, а до того, хотя и недолго, в злополучном «Белом доме» номер тридцать пять. Сейчас он, к моему сожалению, живет на Чейни-Уок, 21. Я говорю «к сожалению» потому что он стал моим соседом.
Несмотря на очевидный талант (говорят, даже гений) и знаменитое остроумие, Уистлер на самом деле просто ханжа и мелкая душонка. А когда дело касается дружбы – даже предатель. Он способствовал возвышению Уайльда, называл его своим любимчиком, а потом стал параноиком из-за головокружительного успеха подопечного. Когда его протеже начинали блистать ярче, становились более знаменитыми и обласканными в свете, чем сам Уистлер, он этого не прощал.
Пресса с удовольствием публиковала пространные письма Уистлера и не менее длинные и вдохновенные ответы Уайльда. Заметив, что двое светских денди готовы вцепиться друг другу в глотку, газеты смаковали их спор, натравливая художников друг на друга. Все, как водится: красные тряпки, быки, тучи пыли и пустой болтовни. Уайльд этим наслаждался; Уистлер – нет. В конце концов он обратился в суд, чтобы защитить свою репутацию, которая, как он утверждал, была подмочена Рескином (Джон Рескин (1819–1900), английский писатель и теоретик искусства); оскорбившим его художественный метод. Это было то ли в 1877-м, то ли в 1878 году, точно не помню. Зато я помню знаменитое заявление Рескина о том, что Джеймс Макнейл Уистлер «швырнул горшок с красками публике в лицо».
Я ни тогда, ни теперь не разделяю мнение Рескина о живописи Уистлера. Она вызывает у меня искреннее восхищение, и, хотя я презираю Уистлера как человека, Рескин явно хватил через край.
В речи судьи, обращенной к присяжным, говорилось, что «определенные слова», сказанные Джоном Рескином, «без сомнения, могут быть квалифицированы как клеветнические». Или что-то в этом роде. Присяжным оставалось только решить, стоит ли ущерб, нанесенный репутации Уистлера, тысячи гиней, которые он требовал, или же ему вполне достаточно фартинга.
Уистлер получил фартинг.
Вдобавок ко всему его постиг финансовый крах. Именно в эту пору он построил свой любимый «Белый дом» – и лишился его. Мало того, там поселился какой-то критикискусствовед!
В этом смысле мне жаль Уистлера. Но когда дело коснулось Уайльда, который был публично ошельмован, Уистлер спрятался в кусты. Он с наслаждением наблюдал за скандалом и время от времени (не зря я назвал его мелкой душонкой!) отпускал в адрес Уайльда ханжеские реплики. Причем чувства юмора ему было не занимать. Самая знаменитая ремарка Уистлера еще в начале паранойи, развившейся на почве зависти к Уайльду, была следующей. Однажды Оскар отвесил ему комплимент по поводу какой-то остроумной шутки: «Ей-богу, Джимми, мне жаль, что это сказал не я!» На что Уистлер ответил: «Еще скажешь, Оскар. Еще скажешь».
Как-то в Париже я ужинал в ресторане – не помню, в каком – а за соседним столиком сидел Уистлер со своими дружками. Естественно, они говорили об Оскаре Уайльде. Одно его имя, произнесенное вслух, вызывало громкий хохот. Они издевались над Уайльдом – щеголем, привыкшим ходить в бархате, а теперь вынужденным носить тюремную робу.







