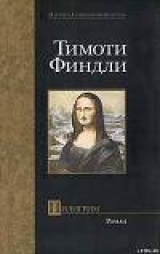
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
11
Было полнолуние, и Татьяна Блавинская не могла уснуть.
Она оделась так, словно собиралась выступить на сцене в роли королевы русалок во втором акте «Жизели». Округлые руки обнажены, лишь полоски светлого шифона свободно падают с плеч до талии. Юбки чуть длиннее колена, под ними – самые лучшие белые чулки. Талия туго перетянута поясом из бледно-зеленой тафты, завязанным бантом, похожим на крылышки. Волосы, заплетенные в косы, уложены сзади от уха до уха, на запястьях – зеленые ленточки.
Положив на колени балетные тапочки, графиня села у окна, глядя вверх на луну, которая взошла над клиникой и над горами и сияла так ярко, что можно было пересчитать все проклюнувшиеся из почек листочки.
Сестра Дора сидела на кровати, боясь оставить пациентку одну в столь задумчивом состоянии. Весь вечер графиня занималась своими костюмами: извлекала их один за другим из шкафа и кофра в углу, подносила к зеркалу, а потом бросала на кровать, на спинки стульев и даже на пол.
Пернатый корсаж принцессы Флорины для па-де-де синей птицы из «Спящей красавицы». Алая пачка с высокой талией – и веер! – для вариаций из «Дон Кихота». Крылья бабочки из «Мотыльков». Фиолетово-пурпурный наряд феи из «Щелкунчика» с диадемой из фальшивых аметистов и волшебной палочкой. Три лебедя – два белых, один черный – и сама принцесса Аврора.
– Императорская Россия во всем блеске ее славы! Посмотри, какая вышивка бисером здесь, здесь и здесь! А это! Мое любимое, любимое, любимое! Сцена, которую танцуют при свете луны. Мирта, королева русалок! Ах, была бы здесь публика, оркестр, кордебалет – я танцевала бы до зари!
Блавинская рассматривала себя в зеркале, отражавшем ее в полный рост.
– Ты даже представить себе не можешь, как я выпрашивала роль Мирты! Видишь ли, у меня тело не такое, как нужно. И все-таки это был мой самый грандиозный успех. По традиции она высокая, а я – нет. По традиции она стройная, как струйка воды, а я – нет… – Графиня улыбнулась. – По традиции она холодная, а я – нет. Но я так хотела! Так хотела! Я должна была ее танцевать! Я уговаривала дать мне эту роль, станцевала ее для них, и они согласились. А что им оставалось делать? Она рассмеялась. – Я была великолепна. – Она села. – Великолепна… – И закончила шепотом: – Потому что я тоже умерла девственницей.
Сестра Дора всегда хранила под рукой успокаивающие средства – флакончик с эфиром и еще один с настойкой опия. Правда, применяла она их неохотно, только в крайних случаях. Однако сегодня она провела с графиней три часа, а та все никак не могла угомониться. Блавинская сидела в кресле, но дышала тяжело, словно только что вернулась со сцены.
– Мы танцуем так, как будто мы мертвые, – сказала графиня по-немецки с русским акцентом. – И все это в лунном свете. Все это в свете луны. Мы – усопшие юные девы, которые погибли, не успев дать обет перед алтарем. А за нами… За нами наблюдает живой. Живой смотрит на нас.
Блавинская нагнулась и надела балетные тапочки – сперва одну, потом другую.
– В балетных тапочках всегда неудобно. Они – само мучение, придуманное в аду и, несомненно, мужчиной. Тем не менее со временем нога к ним привыкает. Они формируют друг друга: стопа – тапочку, тапочка – стопу, и становится чуть легче. Но удобно – никогда.
Она обмотала ленты вокруг ног, особенно туго у щиколоток, аккуратно завязала их и с довольным видом похлопала каждую пухлой рукой.
– Bon! Je suis prete.(Хорошо. Я готова, фр.) Пошли – я буду танцевать в лунном свете.
Блавинская порхнула мимо сестры Доры, подхватив на ходу кашемировую шаль, и направилась к двери.
– Мадам!
– Не возражай, дорогая Schwester (сестра, нем.)! Мы идем в сад. Ступай за мной.
Графиня вышла в коридор и зашагала к лестнице.
Сестра Дора, с трудом выбравшись из-под белого лебедя, черного лебедя и алой пачки, с ужасом обнаружила, что у нее занемела левая нога.
– Черт! Проклятие!
Она упала на колени и снова поднялась, спеша изо всех сил за Миртой, королевой русалок, хромая по коридору и вниз по лестнице, мимо дремлющего в вестибюле привратника, а потом за двери – в ночь.
12
В Кюснахте лунный свет струился сквозь шторы, падая наискосок в изножье кровати, где лежали Эмма и Юнг.
Его рука покоилась на ее животе и уже ощутила один толчок, на который Юнг ответил, выстучав пальцами послание с помощью азбуки Морзе: «Привет тому, кто там живет! Привет!»
– Толчки начались только сегодня, – сказала ему Эмма. Я люблю представлять себе, как она кричит: «Мне нужно больше места! Больше места!»
– Она? – удивился Юнг. – Он так толкается, что это наверняка мальчик. Наш второй сын.
– Это девочка. Мы разговаривали, так что я знаю.
– Разговаривали?.. Не смеши меня!
– Хочешь – верь, хочешь – нет, Карл Густав, но мать общается со своим ребенком. Не всегда словами, другими способами тоже. Я посылаю вниз мысли и знаю, что она принимает их. Она шлет обратно волны в виде ответов – и даже вопросов, – и эти волны текут во мне. Правда, поверь! Она моя маленькая рыбка, а я ее океан. Она моя пловчиха – я ее море. Ты помнишь, что значит плавать в море, родной… На Капри, когда мы плыли рука об руку… помнишь? Мы заплыли так далеко, что за нами пришлось посылать шлюпку.
– Мы могли утонуть.
– Глупости. Только не вместе. Мы плыли рука об руку, а все вокруг дышало таким покоем – голубым, сияющим и теплым. Мне кажется, моя рыбка точно так же плавает в этих… водах матки… Вечно забываю, как они называются!
– Околоплодные воды, – процедил Юнг сквозь усы, нагнувшись, чтобы поцеловать Эмму в живот.
Потом он снова приложил ладонь к ее коже, ощущая ребенка внутри.
– Ты когда-нибудь слышала фразу «онтогенез воспроизводит филогенез»?
– Если бы слышала, я бы запомнила, – рассмеялась Эмма. – Не имею ни малейшего представления, что это значит.
– Человек по фамилии Геккель. Эрнст Геккель. Биолог. Немец. Он давно умер, но в свое время вызывал уйму споров. Мы изучали его в университете. У него было много теорий, полезных и бесполезных. В каком-то смысле он был учеником – нет, не учеником, а скорее последователем Дарвина. Последователем, который расширил его теорию. Пошел дальше учителя, так сказать. И один из примеров тому – «онтогенез воспроизводит филогенез».
– Боже! Какие мудреные слова!
– Онтогенез – это рождение и развитие индивидуума. – Юнг произнес эти слова, как учитель в классе, выстукивая их на животе Эммы, словно барабаня по столу. – Твоей рыбки, например. А филогенез – это эволюционное развитие групп организмов. Понимаешь? В представлении Геккеля – по его теории – твоя рыбка проходит те же стадии развития, которые мы прошли все вместе в процессе эволюции человеческой расы. От протозоа до хомо сапиенс. Теперь понятно?
– Не совсем.
– Тогда я начну с начала, – сказал Юнг, встав и пересев в кресло. – Геккель говорил: «онтогенез воспроизводит филогенез», хотя в сущности ему следовало сказать, что онтогенез повторяет филогенез. Но он был биологом, так что простим ему словесную неточность. Итак…
Юнг взял сигару, лежавшую рядом с ним на столе, и чиркнул спичкой. Залитый лунным светом, он выглядел как китайский Будда в клубах фимиама.
– Геккель предположил, что развитие любого индивидуума, не важно, человека или животного – лягушки, например, – с самого зачатия до рождения, по мере усложнения эмбриона, пересказывает эволюционную историю своего вида. Так, вначале твоя рыбка была оплодотворенной яйцеклеткой, что соответствует одной из примитивнейших форм жизни под названием «протозоа». Ты меня слушаешь?
– Что такое «протозоа»? – Эмма приподнялась повыше и легла на подушки. – Мне кажется, я знаю, но я хотела бы услышать это от тебя.
Юнг обожал роль ментора и застыл на миг в важной позе с сигарой в руках: чеканный профиль в лунных бликах и прусская стрижка, стоящая по стойке «смирно».
– Прото-зоа, – произнес он. – Первые животные. Или, если угодно, первые существа. Это действительно интересно! Когда оплодотворенная клетка развивается, она начинает делиться и умножаться…
– А также складываться и вычитаться? – улыбнулась Эмма.
– Не перебивай! Делясь и умножаясь, клетка образует массу – неорганизованную клеточную массу, похожую на губку. Помнишь губку в нашей ванной? Она способна принимать разные формы и размеры. Затем она проходит стадии, напоминающие медузу. Позже, когда зародыш начинает удлиняться, его нервные клетки переходят в спину и обволакиваются хрящами. Те, в свою очередь, затвердевают, образуя кости – позвоночник со спинным мозгом, и таким образом плод приобретает свойства первых морских позвоночных. У него развиваются жабры, как у рыбы…
– Моей маленькой рыбки.
– Точно. А со временем жабры сменяются легкими. И так далее, и так далее. Понимаешь? Все это уже произошло с твоей рыбкой и будет происходить дальше, пока она не созреет для того, чтобы вылезти…
– … из моря на сушу. То есть родиться.
– То есть родиться, моя дорогая. Итак, весь процесс развития зародыша отражает процесс эволюции. Онтогенез, повторяющий филогенез. «И на сем наша проповедь окончена», – как говаривал мой отец с амвона. Тем не менее теория Геккеля гораздо шире биологии…
– Нет, Карл Густав. На сегодня довольно. Я устала. Уже третий час ночи.
– Но это важно! Крайне важно. Ты не понимаешь. Это имеет отношение к моей работе. Это имеет отношение…
Ко всему.
Нет! Бога ради, не начинай!
Мне казалось, тебе будет приятно, что я слушаю. 11 я с тобой согласен: она гораздо шире…
– Прошу тебя, Эмма, не засыпай! Послушай самое главное!
– Хорошо, Карл Густав. Только рассказывай поскорее.
Юнг выпрямил спину. Боже мой, у него эрекция! Но почему?
Ты возбудился, Карл Густав. Тебя слишком возбуждают идеи.
Я ничего… Ничего не могу с этим поделать. О Господи! Только бы она не заметила!
Даже если заметит, что с того? Сейчас это ее не интересует.
Я и не думал, что хочу… Но факт налицо. Боже правый! Ты только посмотри!
Мне незачем смотреть, я это чувствую. Ты страдаешь кроме всего прочего – интеллектуальным приапизмом. Все очень просто. Возникает идея – возникает эрекция.
Прекрати!
Почему ты не начинаешь лекцию? Эмма уже задремала. Скоро она уснет, и ты не успеешь поразить ее своей гениальностью. По-моему, тебе это нравится. Вспомни Сабину Шпuльрейн! Вспомни эту новую врачиху, которую ты видел в коридоре с Фуртвенглером. Лакомый кусочек! Вспомни несчастную пианистку, чьи прекрасные руки тоскуют по клавишам. Скажи свое слово, Карл Густав! Скажи! Мы все жаждем услышать его. Мы умоляем тебя расстегнуть умственную ширинку и оросить наши мозги твоими теориями. Пожалуйста! Прошу тебя, начинай!
Ты, сволочь!
Я люблю говорить правду, хотя ты не любишь ее слушать. Поведай Нам, о дивный врачеватель душ, что ты хотел сказать!
Я просто…
Говори вслух! Не забудь, что ты хотел произвести впечатление на Эмму.
По крайней мере в данный момент…
– Я просто… Я просто хотел сказать, что, признавая правильность теории Геккеля, нельзя не думать о другой возможности. Если онтогенез повторяет филогенез в биологическом смысле, почему это не может происходить на уровне психологии? Быть может, каждый индивидуум наследует сознание или же часть коллективного сознания – всего человечества? Понимаешь? Если Геккель прав – а он прав, – разве этот принцип не предполагает нечто большее, нежели просто физический процесс отражения и повторения другого физического процесса? А может, природа индивидуума, хоть она и уникальна, также до определенной степени отражает и повторяет природу и опыт своих предшественников? Или всего человечества… Почему бы и нет? Почему? Разве не бывает так, что мы знаем то, чего никогда не учили? Эмма! Эмма…
Поздно. Она уснула.
Юнг с силой ткнул сигару в пепельницу, подбежал к письменному столу и нашарил среди завалов блокнот и ручку.
В ванной комнате он сел на закрытую крышку унитаза и, положив дневник на колени, написал:
«Я – воплощение мечтаний моей матери. Я – атавистические страхи моего отца. В этой пещере, где я сижу…»
Он посмотрел вверх и сощурился. Лампы над зеркалом и вокруг него светили прямо в глаза, отражаясь в каждой плитке кафеля и во всем стекле и металле.
Какая пещера?
Почему он написал «в пещере»?
В этой пещере, где я сижу…
Ему вдруг непонятно отчего захотелось плакать.
На него нахлынуло вдохновение.
Интеллектуальная эрекция.
И власть ее была так же непреодолима, как сила эрекции, натянувшей тонкий белый хлопок пижамных брюк.
Излей ее! Излей!
Интересно, существует на свете такая штука, как интеллектуальная эякуляция?
Почему бы и нет?
Не вмешивайся!
Я не могу не вмешиваться. Я часть тебя. Твое сознание. Ты помнишь? Сознание и помять, Напрягающие тонкую белую мембрану твоего мозга. Эта пещера, в которой ты сидишь, Карл Густав, – твое сознание. Посмотри вокруг. Что тут нарисовано? Какие животные? Какие люди?
Юнг уставился на потолок.
Чей это отпечаток? Чьи боги были здесь? Чьи тотемы, эмблемы, знаки и символы?.. Не бойся! Встань и посмотри.
Блокнот упал на пол. Ухватившись за раковину, Юнг встал и уронил ручку, не закрытую колпачком, в пещеру белой эмалированной чаши.
Он стоял на крышке унитаза, воздев руки.
В углах были тени, на потолке – трещины. Что это – образы существ, которых он никогда не видал? Или карты рек и горных кряжей – маршруты путешествий, начертанные теми, кто ушел до него?
Юнг будто молился – руки подняты, пальцы раздвинуты, глаза затуманены слезами…
«Я прошел такой длинный путь, – услышал он незнакомый голос. – Мы прошли такой длинный, длинный путь. И я могу его вспомнить…»
Я могу вспомнить…
Онтогенез только что повторил филогенез – голосом столь отчетливым и ясным, словно он произнес эти фразы вслух.
Я могу знать то, чего никогда не учил. И могу вспомнить то, чего никогда не пережил сам.
Юнг слез с унитаза и заплакал.
Он никогда уже не будет прежним.
13
«Есть люди, чей жизненный опыт столь далек от нашего, что мы называем их сумасшедшими. Это чистая условность. Мы называем их так, чтобы не брать на себя ответственность за их место в человеческом сообществе. Поэтому мы запираем бедолаг в сумасшедших домах, с глаз долой, не желая слышать их зова из-за закрытых дверей. Но для них нет разницы между снами, кошмарами и миром, в котором они живут каждый день. То, что мы называем видениями и приписываем мистике: чудеса Христа, жизни святых, апокалиптическое откровение Иоанна, – для них всего лишь обыденная реальность. По их мнению, деревья и жабы тоже могут быть святыми, в огне и воде живут боги, а у водоворота есть голос, который, стоит нам только пожелать, они помогли бы нам услышать. Таковы условия существования тех, кто страдает душевным расстройством. Они не живут в «других мирах» они живут в других измерениях нашего мира, которые мы из страха отказываемся признать».
Это было написано в 1901 году человеком, о чьем существовании редко вспоминали в году 1912-м и позже. Родные сменили фамилию, считая его позор столь ужасным, что даже говорить о нем было неприлично. Его падение и гибель стали катастрофой для всех, кто так или иначе былс ним связан.
Американец Роберт Даниэль Парсонс изучал психологию. В 1898 году он приехал в Европу, чтобы продолжить занятия под руководством тогдашних корифеев психиатрии Пьера Жане в парижской лечебнице Сальпетриер и Эйгена Блейлера в цюрихской клинике Бюргхольцли.
Ученики относились к Жане и Блейлеру не иначе как с благоговейным трепетом. Вместе с австрийцем Крафт-Эббингом они прорвали занавес, отделявший психиатрию от других медицинских специальностей. Фрейд еще не написал свое «Толкование сновидений», предоставив таким образом поле деятельности в основном Жане и Блейлеру. Между ними существовали разногласия, не доходившие, однако, до раскола. Они были основателями не столько разных теорий, сколько различных школ.
Юнг, еще в бытность свою студентом, ознакомился с учениями обоих «гигантов». Впрочем, для своего времени они действительно были гигантами. То, что Юнг превзойдет их, до 1912 года никому ив голову не приходило. Но позже Юнгу стало совершенно ясно – и его учителям тоже, как бы они это ни отрицали, – что они с Фрейдом станут главными светилами двадцатого века в области психиатрии и психотерапии. В то время как Жане и Блейлер прятались в безопасной тени своей репутации, Юнг бесстрашно шагал вперед к тому, что он позже назовет бесконечно расширяющейся сферой понимания – порой пугающей, порой даже ужасной, но тем не менее никогда не отвергаемой им. С той майской ночи 1912 года, когда он пережил «ванное откровение», для него не было возврата назад. Ужас – да, и это слово, как мы увидим, отнюдь не является преувеличением, – но только не отступление.
Что же до Роберта Даниэля Парсонса и его места в истории, он стал адвокатом «несчастной массы умалишенных», которым посвятил свою жизнь, а впоследствии и мученическую смерть.
В 1901 году он пережил в Париже откровение, сравнимое с откровением Юнга в 1912 году, но более глубокое и революционное с точки зрения политической.
Утверждение Парсонса, что «помешанные не безумны – они просто другие», было своего рода анархией в психиатрии. Если анархия – вера в то, что любое правительство должно быть свергнуто, то, по версии Парсонса, нужно было свергнуть любое насилие над душевнобольными. «Долой лечебницы, долой санитаров и психиатрические эксперименты!» А также долой все лекарства, сеансы и ограничения. Долой опийную настойку, эфир и хлоралгидрат. Долой водолечение. Долой смирительные рубашки, запертые двери и зарешеченные окна.
Вначале Роберта Даниэля Парсонса воспринимали как забавного маньяка. Ему только что исполнилось двадцать два года. Высокий, стройный, курчавый американец из Вайоминга немедленно привлек внимание сокурсников безупречной фигурой и «ангельским личиком», как выразился кто-то. Студенты были в восторге от шутовских выкриков, которыми он прерывал лекции профессора Жане, и даже сам мэтр находил его очаровательным. Сперва.
Но идеи Парсонса были столь пылкими и зажигательными, что не могли удержаться в рамках нескольких эксцентричных выкриков в студенческой аудитории. Они просочились в коридоры и прорвались сквозь двери Сальпетриер на улицы. Они овладели умами студентов в кафе и бистро. Они начали мелькать в прессе. Вскоре у Парсонса появились ученики и собратья-адвокаты, среди которых было немало женщин. «У сумасшедших тоже есть права!» – с таким кличем группы порсонитов пытались освободить умалишенных из «тюрем и пыточных камер».
В конечном итоге Парсонса благополучно выгнали из лечебницы Сальпетриер, запретив появляться в ее стенах. От него отреклись как персонал больницы, так и члены факультета. Профессор Жане не признавал его своим студентом, заявляя, что знает о безумных эскападах лишь понаслышке.
Тогда Парсонс на два года исчез из поля зрения публики. Он нанялся на работу батраком на ферме близ Россинье, в альпийских долинах к северу от Монтре, и переписывался только со своей младшей сестрой Юнис, учившейся в женском колледже Нью-Гэмпшира.
В то время Юнис Парсонс была, пожалуй, его единственным другом. Семнадцатилетняя девочка, она стала впоследствии довольно неплохой писательницей в жанре, как она говорила, «журналистской беллетристики». Это было время Стивена Крейна и Джека Лондона, время, когда Марк Твен был богом богов для американцев. В ту пору американские писатели создавали уникальную форму литературы, источником которой служил их журналистский опыт. Пиком этого направления станет творчество Эрнеста Хемингуэя и Джона Дос Пассоса.
За время своего двухгодичного «отпуска» Роберт Даниэль Парсонс написал в Россинье манифест от имени помешанных, назвав его «В защиту безумия». Его и поныне можно найти в университетских библиотеках, Институте Смитсона и архивах Института имени Юнга в Цюрихе. Эпиграф был взят из поэмы Кристофера Смарта, нацарапавшего некоторые из своих строк на стенах сумасшедшего дома восемнадцатого века. Парсонса поразила фраза из «Песни К Давиду» – религиозного завещания Смарта:
Кто в дверь стучится, тот войдет,
И обретет, кто просит.
(пер. Евг. Витковского)
Манифест Парсонса стал сенсацией. Помимо всего прочего, автор задал в нем основательную трепку Жане, Блейлеру и Фрейду за насилие над теми, кого он называл «массой, и так лишенной прав на собственную цельность». Слово «масса», похоже, нравилось Парсонсу, и он часто пользовался им при описании своих подзащитных безумцев.
Юнис Парсонс, горячо верившая в брата, которого она звала Радом, занялась изданием его рукописи с жаром Иоанна Крестителя, возвещающего пришествие Иисуса Христа. Она настолько увлеклась, что поставила крест на научной карьере и бросила колледж, чтобы от имени Рада найти издателя, способного рискнуть и вынести радикальные воззрения ее брата на суд широкой общественности. Благодаря ей в 1904 году манифест «В защиту безумия» был опубликован в Америке издательством «Питт, Хорнер и Платт».
Успех был ошеломительным. В то время, когда Мария Кюри представила первые доказательства наличия радиоактивных элементов в урановой руде, когда шедевр Антона Чехова «Вишневый сад» был впервые поставлен в Москве, а Клод Моне начал изучение кувшинок, призыв Роберта Даниэля Парсонса «Свободу безумию!» побил их всех по степени популярности у читающей публики.
Двери открыли – и умалишенные хлынули на улицы. Конечно, это была катастрофа. Власти не приняли никаких мер предосторожности. Освобожденным не предоставили ни жилья, ни какой-либо помощи. Все это не имело ничего общего с намерениями Парсонса. Он писал о том, что нужны воспитатели, способные помочь бывшим узникам освоиться на свободе, учреждения, которые позже назовут «центрами реабилитации», а также финансовая поддержка государства. Но правительство не сделало ничего, и пожары, запылавшие в городах, стали одной из самых ужасных примет того времени.
Когда Юнис Парсонс привезла рукопись брата в Европу, последствия американской публикации еще не получили достаточного освещения в прессе, и издатели ухватились за манифест воспринимая его как «интеллектуальную побрякушку», попавшую в струю общественного интереса к фрейдистским штучкам, вопросам либидо и опасным вещам.
Слово «опасный» было повсюду. Литература должна быть опасной, искусство должно быть опасным, идеи ничего не стоили если не были опасными. Андре Жид, Пабло Пикассо и Айседора Дункан были опасными. На гребне этой волны публике представили трактат «В защиту безумия».
Юнг считал манифест «ценным вкладом в литературу в области психиатрии», Фрейд с ним согласился, но они остались в меньшинстве. Жане, Блейлер, Крафт-Эббинг и другие корифеи повернулись к Парсонсу спиной.
Тем не менее Роберт Даниэль «Рад» Парсонс вернулся из добровольной ссылки в Париж, где двери были взломаны, ворота распахнуты, а безумцы выпущены на волю.
На деньги, вырученные от продажи книги, Парсонс с помощью преданной Юнис открыл в доме 37 на улице де Флери, в тени Люксембургского дворца, приют для умалишенных. Неподалеку в том же переулке находилась студия Гертруды Стайн, куда недавно переехала Алиса Б. Токлас. Каждый день осенью 1904 года мисс Стайн и мисс Токлас прогуливались с собакой к Люксембургским садам, весело маша рукой жителям дома номер 37, которые частенько сидели голыми во дворе за резными железными воротами, среди увядающих гераней. Четырнадцатого октября 1904 года мисс Токлас записала в своем дневнике: «Сегодня утром чудаки парсониты снова сидели там на маленьких марокканских ковриках, великолепные в своем равнодушии к собственной наготе, плетя макраме из бечевок. Г.С. заметила, что если человеку нравится сидеть на земле, то лучше марокканских ковриков ничего и придумать нельзя. «Их расцветка, сказала она, – так прекрасно сочетается с цветом человеческой плоти!» Надо будет подумать об этом».
Кроме Гертруды Стайн и Алисы Токлас, на парсонитов мало кто обращал внимание. Вернее сказать, на них мало обращали внимания власти. Полицейские, проходя мимо, отворачивались, благо ворота были закрыты. Горожане, занимающие высокое место в обществе – высокое с их точки зрения, – вообще избегали появляться на улице де Флери. Детей и собак поскорее тащили в парк. Никто не жаловался.
А потом грянул гром.
Среди пациентов, «спасенных» из лечебницы Сальпетриер, был человек по имени Жан-Клод Венкер, который верил, что прибыл на Землю из другого места (он никогда не говорил точно, откуда), чтобы убить Антихриста и всех, кто в него верит.
Впервые он попал в поле зрения полиции за тридцать пять лет до «спасения» из лечебницы, когда его вынесло на берег возле Марселя в объятиях мертвой матери. Оба они были в числе двухсот пассажиров перегруженного корабля, затонувшего между алжирским и французским берегами. Все остальные погибли. В кармане передника так и не опознанной матери нашли листок бумаги, на котором карандашом было написано: «Жан-Клод Венкер». Без сомнения, именно с этим человеком она собиралась встретиться, высадившись на землю Франции.
Мальчику было от силы года четыре, если не меньше. На каком языке с ним ни говорили, он не понимал ни единого, и происхождение его осталось загадкой. Его помещали в один сиротский приют за другим, и каждый раз Жан-Клод провоцировал собственное изгнание поджогами и яростными воплями, которыми он встречал пожарную команду.
В последние годы его жизни в детских приютах один терпеливый до святости иезуит придумал для Жан-Клода язык, вполне справедливо рассудив, что главное несчастье ребенка заключается в неспособности к общению. В результате получилась помесь из упрощенного французского, еще более упрощенной латыни и условного лексикона, состоящего из междометий, бурчаний и вздохов. Бог был «Deo-Dieu», Христос «Corpus» (тело, лат.), а Антихрист – «Diabolo».
В конечном итоге тело священника нашли – кусок за куском; оно было расчленено и разбросано по разным местам. Голову так и не обнаружили. Жан-Клода Венкера посадили в тюрьму (как предполагалось, пожизненно) для невменяемых преступников в Лавуа Па, в предместье Парижа. За месяц до возвращения Парсонса из ссылки Венкера забрали в Сальпетриер как образец для изучения языка сумасшедших.
И как раз в тот момент помешанных начали выпускать. Жан-Клод Венкер оказался в приюте на улице де Флери.
Там, следуя какой-то зловещей логике, он пришел к выводу, что Парсонс – сам дьявол во плоти. Быть может, вывод основывался на том простом факте, что Парсонс сидел во главе стола, когда коммуна обедала. Венкер и его последователи стащили Парсонса с постели, раздели донага и прибили гвоздями к кресту. Затем крест перевернули вверх ногами и сожгли на закрытом дворе в доме номер 37 по улице де Флери. Прежде чем изгнать из приюта Юнис Парсонс, ее заставили наблюдать за мученической гибелью брата.
Эти события произошли в ночь с шестнадцатого на семнадцатое октября 1904 года, с воскресенья на понедельник. В понедельник милиция штурмом взяла ворота и арестовала пятнадцать живших там парсонитов, включая Жан-Клода Венкера.
Алиса Токлас отметила в своем дневнике, что ночью пылал огонь и раздавались душераздирающие человеческие вопли. «Залаяли собаки, и Г.С., проснувшись, сказала мне: «Не включай лампу, зажги только свечу. В Париже сейчас много русских, и не исключено, что мы окажемся в центре погрома. Не стоит привлекать к себе внимание». Я послушно зажгла одну свечу и поставила ее посреди комнаты, где ее нельзя было увидеть через окно».
Пресса разразилась обычными сенсационными заголовками. «Эксперимент парсонитов сгорел в огне!» «Парсонизм умер на кресте!» И так далее. Реакция мировой общественности последовала незамедлительно. Именно тогда близкие Парсонса в Вайоминге и других местах ушли в подполье, сменили фамилию и исчезли из поля зрения публики. Юнис Парсонс в течение двух лет тщетно пыталась издать собственную книгу – и в конце концов покончила с собой. В Торонто ученик Фрейда Эрнест Джонс прочел лекцию об опасности «заигрывания с парсонизмом» и экспериментирования в области психопатологии. Жане и Блейлер в Париже и Цюрихе праздновали победу над крахом «безумца безумных», а Фрейд в Вене сжег личный экземпляр манифеста «В защиту безумия».
В Кюснахте все было иначе. Юнг завернул свой экземпляр книги Парсонса в вощеную коричневую бумагу из мясной лавки, перевязал веревкой и запер в бюро, где хранились его дневники, письма и запасная бутылка коньяка.
В предрассветных сумерках после «ванного откровения» Юнг надел халат, сунул ноги в шлепанцы и спустился вниз.
Оказавшись в кабинете, он открыл окна и ставни, подошел к запертому бюро, вставил ключ, откинул вниз дверцу и вытащил на свет Божий перевязанный веревкой пакет в коричневой обертке, в котором находилась книга «В защиту безумия».
Пилигрим. Блавинская. Геккель. И эта пещера, где я сижу.
Он развязал веревку и бросил ее на стол. Развернул и разгладил вощеную коричневую бумагу, положив ее рядом с бечевкой, чтобы не потерять. Сама книжица – не более пятидесяти страниц – выглядела так, будто ее только что купили: чистенькая серо-голубая обложка, не успевшие поблекнуть черные буквы. Юнг закрыл правой ладонью лицо, словно говоря себе: «В темпе, в темпе! Давай!»
Автор книги, вне всяких сомнений, был мучеником. Он совершил чудовищную ошибку – и тем не менее был совершенно прав.
Еще один Лютер. Еще один Руссо. Еще один да Винчи. Еще одно чудовище, скрывающееся внутри святого, – и еще один святой внутри чудовища.
И если выпустить на волю святого, ты одновременно освободишь чудовище.
«У водоворота есть голос, – прочел он, – который, стоит нам только пожелать, они помогли бы нам услышать».
Пилигрим. Блавинская. Эммина рыбка – наше дитя.
И Юнг написал:
«В сознании Пилигрима между теми двумя мгновениями, когда он стоял перед Леонардо и когда предстал перед моими глазами, не существует времени и пространства. Как для Блавинской – между ее жизнью на Луне и появлением здесь. И для нашей рыбки – между океаном матки Эммы и берегом, на который ее вытащат в один прекрасный день».
Все в мире едино.
Это верно.
Пространство и время неделимы.
Тоже верно.
Так мы видим – а остальное не имеет значения.
И так мы помним.
Да. И чувствуем.
И говорим.
Объемли все разом. Все едино.
Юнг склонился вперед.
Ручка на мгновение застыла в воздухе. Потом он написал:
«Все время – все пространство – мое. Коллективная память человечества сидит рядом со мной в пещере – моем мозге. И если, утверждая это, я пополняю ряды безумцев, пусть будет так. Я безумен».
14
«Отель «Бор-о-Лак»
Цюрих
14 мая 1912
Итак, дорогой мой друг, я обращаюсь к тебе в последний раз. К сожалению, мне приходится делать это в письменном виде, хотя я предпочла бы попрощаться с тобой как обычно – пожать руку и поцеловать.







