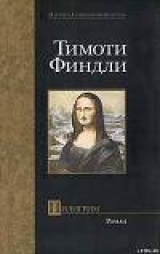
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– Сомневаюсь.
– И все-таки попробуйте, пожалуйста.
– Я постараюсь.
Пилигрим уселся в кресле поудобнее.
– В каком-то смысле она была мне сестрой. Первым человеком, которого я встретил в своем нынешнем воплощении. Хотя мне не нравится слово «воплощение». Есть люди, которые рождаются заново. А другие, вроде меня, просто живут одной жизнью, а потом другой. В основном наша личность остается той же самой, и мы живем вечно. Процесс не прекращается. Ты просыпаешься– засыпаешь – и просыпаешься снова в разных обличьях: то слепого старца, то испанского пастуха, то английского школьника. Именно поэтому мы хотим умереть и положить всему конец. «Рождение наше – только сон», доктор Юнг, «похожий на забвение. Душа зайдет за горизонт, погаснув в отдалении. Она вела нас, как звезда – и снова канет в никуда» («Обещания бессмертия», стихотворение аглийского поэта У.Вордсворта (1770–1850). Так сказал мистер Вордсворт, и был прав. Он также сказал: «Господень мир, его мы всюду зрим» («Господень мир…», пер. В.Левика), – И снова был прав. Я устал повсюду зреть Господень мир. А мир устал от меня.
Юнг, естественно, отметил про себя упоминание об испанском пастухе. Они никогда не говорили о Маноло, поскольку темы дневников Карл Густав пока не касался.
– Вы сказали: то в обличье испанского пастуха, то слепого старца. Что это были за люди?
– Слепого старца вы знаете наверняка. Его – то есть меня – звали Тиресием. Пастух? Я едва его помню, но имя не забыл. Маноло.
Юнгу стало не по себе. Он отвернулся.
– Что с вами, доктор Юнг? – спросил Пилигрим.
Карл Густав закрыл глаза. Боги осудили Тиресия на вечную жизнь. Как и Кассандра, он был прорицателем, только слепым.
Прорицателем – только слепым.
– Жрицы в Дельфах, – словно читая мысли Юнга, произнес Пилигрим, – слепли от дыма, причем добровольно. Они садились на помост, под которым горел огонь, и слушали голоса богов, чаще всего Аполлона. Кассандра же была зрячей, и поэтому ее предсказаниям никто не верил. Она была обречена на вечное неверие со стороны окружающих, хотя жизнь вновь и вновь доказывала ее правоту. Я знаю, поскольку был се другом.
«Нет, – подумал Юнг. – Не может этого быть. Это вымысел. Талантливый, убедительный, красивый вымысел. Безумие».
– А вас, – сказал он, – не приговаривали к вечному неверию?
Пилигрим ответил просто и искренне – так, словно они разговаривали о самых обычных вещах:
– Приговаривали, и не раз. Вызвать неудовольствие других очень просто. И тогда они выносят вердикт. Меня приговорили к бессмертию, поскольку, стараясь не обидеть правдой одного, я обидел другого. Поэтому я вечно страдаю от неверия. Того самого неверия, которое у вас вызывает мой рассказ. Да и не только у вас. Меня обрекли на вечную жизнь, то в мужском обличье, то в женском, лишь потому, что в возрасте восемнадцати лет я случайно увидел совокупление священных змей в Священной Роще, то есть преступил закон, установленный богами для смертных. Это считалось кощунством.
Юнг подумал, что пора вытащить блокнот и начать записи. Священная Роща. Не ее ли имела в виду леди Куотермэн в своем письме? Они оба ненормальные…
Пилигрим, казалось, совершенно погрузился в прошлое.
– Война. Первая из всех виденных мною войн. Она попрежнему со мной. – Он улыбнулся и закрыл глаза. – Когда греки осадили Трою, считалось, что мы, троянцы, погрязли в распутстве. На крепостных стенах собиралась знать – смотреть на убийства, а слуги в белом подавалй чай. Чай и печенье с изюмом и медом. А также то, что мы теперь называем коктейлями – крепкие спиртные напитки и вино, лившееся из посеребренныx графинов в стеклянные кубки и фарфоровые чаши.
Юнг, онемев от изумления, уставился на него. Потом отвел глаза.
– Мы никогда не собирались в самый разгар битвы, – продолжал Пилигрим. – Но когда на поле боя начиналось что-нибудь интересное, мы выходили на крепостную стену и стояли там под зонтиками, обмахиваясь веерами. Особенно если в поединке сходились двое человек – или богов, если хотите. Так я стал свидетелем гибели Гектора. Знаете, когда он умер, лил дождь. Ливень. Ахилл привязал его за лодыжки к колеснице и умчался прочь. Простертые назад руки Гектора и длинные черные волосы волочились по грязи… Больше я никогда его не видел. Я помню все так живо, будто это случилось вчера.
Юнг искоса глянул на Пилигрима. Тот сидел, повернувшись к залитой солнцем спальне и клетке с птицами.
Темный костюм. Желтый галстук. Безукоризненный. Прекрасные руки с длинными пальцами. Ухоженные, тщательно отполированные ногги. Квадратные колени, тонкие лодыжки, худые, но не дряблые ягодицы. Широкие плечи (чтобы легче удерживать крылья, как сказал бы Кесслер), длинная шея, сильный подбородок, точеное худощавое лицо с орлиным носом, ярко выраженными скулами, высоким лбом и пронзительными глазами. Волосы, по-прежнему подобно метели падапшие на лоб, стали белее, чем были в апреле, когда его привезли. Что ж, это вполне понятно.
– Когда-то у меня были черные зубы, – задумчиво промолвил Пилигрим, не отрывая глаз от птичьей клетки. – Знаете, от витражей. Свинец. Он отравляет людей. Все становится черным – зубы, ногги, кожа, а потом ты умираешь.
– Но вы не можете умереть, – прошептал Юнг. – Я не могу – а другие умирали.
– Где вы работали с витражами?
– В Шартре. Вы там были?
– Нет. Моя жена их видела, а мне не довелось.
– Вашей жене попезло. А вы дурак. Это самое великое из чудес западного мира. – Пилигрим улыбнулся. Они по-прежнему избегали смотреть друг на друга. – Я был там витражных дел мастером. Брал стекло, изготовленное другими, и обрамлял его свинцом. Мы работали вместе, целой командой. Самое увлекательное занятие за все мои жизни!
– И когда это было?
– Вы называете это одиннадцатым пеком.
– Боюсь, я не совсем вас понимаю. Я называю это одиннадцатым веком? Что вы имеете в виду?
– Я появился на свет до христианской эры, доктор Юнг. И я не признаю ваш дурацкий календарь.
– Дурацкий?
– Разве Рождество Христово – начало и конец времен?
– Есть люди, которые так считают.
– Есть люди, которые сходят с ума, – сказал Пилигрим, повернувшись к Юнгу и напряженно глядя ему в лицо – а есть и нормальные.
– Вы сегодня очень воинственно настроены, мистер Пилигрим.
– У меня есть веская причина. Скоро я вас покину.
– Не думаю.
– Посмотрим.
– Давайте вернемся к витражам. Чем вы докажете, что были в Шартре и участвовали в создании собора?
Юнг приготовил блокнот.
– Я выгравировал свои инициалы на стекле. Голубом. Сейчас оно известно под названием Notre Dame de la Веllе Verriere.
– Богородица на прекрасном стекле.
– Святая Дева. С младенцем Христом на коленях.
– Да, конечно.
– Да, конечно! – передразнил Пилигрим, имитируя акцент Юнга. – Да. Конечно, герр доктор Остолоп! Кто же еще? Уверен, что вы молитесь ей каждый день. Или у вас другой святой покровитель?
– У меня нет святых.
– Сдается мне, они вас просто бросили. Со временем боги покидают нас всех. Они уходят – и небеса остаются пустыми.
Юнг сел на подоконник.
– Какие у вас были инициалы в то время, мистер Пилигрим?
Он приготовился писать.
– С. Мл. Симон Младший. Мне было двадцать два года. А мой отец был одним из лучших стеклодувов Франции. Волшебник красок. Никто – по сей день! – никто не знает как он добился такой голубизны в том стекле. Оно осталось непревзойденным.
Имена, безусловно, были истинными. Симон – и его тезка-сын.
«Он искусствовед, – подумал Юнг. – Естественно ему все это известно. Он посвятил свою жизнь исследованиям, и все, что он говорит, изучено им досконально. И придумано тоже во всех подробностях».
Потом ему в голову пришла еще одна мысль: «Похоже, он не знает, что я читал его дневники, несмотря на тот прокол с письмом Джоконды. Странно, что он ни разу не упомянул о ней. Хотел бы я знать…»
– Все эти жизни, мистер Пилигрим… – произнес он вслух. – Каким образом во время своей текущей жизни вы узнаете о прошлых?
– Воспоминания приходят точно так же, как пророчества. Во сне. Сны эти начинаются примерно с восемнадцати лет. И постепенно становятся воспоминаниями…
– Вы наверняка не помните все подробности своих жизней. Или это возможно?
– Нет, конечно. Вы тоже не помните всех подробностей вашей жизни. Но я помню, кем был, точно так же, как вы или любой другой человек помнит, каким он был в прошлом. Причем со временем воспоминания о прошлых жизнях начинают вытеснять из памяти детские годы жизни настоящей. Я очень мало помню о своем детстве. Я имею в виду детство Пилигрима.
Юнг решил сменить тему.
– Поиски бессмертия… Что подтолкнуло вас начать их?
Пилигрим уставился на Юнга в крайнем изумлении.
– Меня ничего не подталкивало. Вы вообще слушаете когда-нибудь или нет?! – Он встал и окинул комнату взглядом, словно что-то ища. – Неудивительно, что мы все тут сдвинутые… Наши врачи отказываются нас слушать!
Юнг ничего не ответил.
Пилигрим пошел в ванную и вернулся со стаканом воды. Поднес его к губам, запрокинул голову, выпил залпом и швырнул стакан на пол.
Юнг не шелохнулся.
– Вы видели, как я выпил воду, – сказал Пилигрим. – Вы меня видели. Но стакан, в котором она была, разбит. Так? Правда, то есть мой рассказ, и есть вода. Она во мне. А разбитый стакан – ваша реакция на нее. Точно так же говорил Заратустра! С таким же успехом…
Пилигрим откинулся на спинку кресла и промокнул губы желтым носовым платком, скатав его затем в шарик.
Юнг помолчал немного, потом спросил:
– Скажите, а кем была леди Куотермэн?
Вопрос прозвучал так неожиданно, что Пилигрим не сразу нашелся, что ответить.
– Если вы дадите себе труд подумать, ее имя скажет вам все, – проговорил он наконец.
– Сибил?
– Сивилла, герр доктор Олух! «Сивилла» значит «оракул». Как в Дельфах. Аполлон избрал ее, и она говорила его голосом. Их называли то жрицами, то прорицательницами. В наше время их кличут медиумами.
– Все это я понимаю, – сказал Юнг. – Я просто хотел удостовериться, что выбор имени не был случайным.
– Отнюдь. Ни в коем случае. Имя ей дали боги. Те самые боги, которые призвали ее домой.
– Ясно.
Они оба ненормальные.
Некоторое время сидели молча: Юнг – на подоконнике, Пилигрим – в кресле, комкая в руке носовой платок.
– Сибил умерла, мистер Пилигрим. Как и все смертные. Она была просто человеком.
– Это вы так думаете.
– Да, я так думаю. – Юнг помедлил немного и спросил: – Она, как и вы, жила вечно?
Голос его был почти лишен интонаций. Так священник мог бы говорить с кающимся грешником – спокойно и без эмоций.
Пилигрим вцепился в плстеную ручку кресла.
– Не так долго.
– А ее смерть? Вы видите какой-то смысл в том, что она умерла?
Пилигрим подался вперед.
– Возможио, боги покидают нас, и смерть – их прощальный подарок.
Юнг моргнул и отвел глаза.
Этот человек мучился от неподдельной боли. Нестерпимой боли. Юнг поймал ссбя на мысли: «Ждать так долго…»
Он нахмурился, закрыл блокнот и встал.
– Вы уходите? – спросил Пилигрим.
– Да.
– Не могу сказать, что мне жаль.
Юнг подошел к двери, прихватив по дороге нотную папку и сунув в нее блокнот.
– Мистер Пилигрим! Я от всего сердца хочу вам помочь. Но в данный момент не могу.
Пилигрим ничего не ответил.
Взявшись за дверную ручку, Юнг обернулся и посмотрел на фигуру, озаренную солнцем.
– Ночью мне приснился сон. Вернее, кошмар. Мне снилось, что весь мир охвачен огнем и никто не может его погасить…
Пилигрим уставился на свою руку с зажатым носовым платком.
«Если бы ты понял пророческую природу своего сновидения, тебе все равно никто бы не поверил», – подумал он.
– Сон был таким ужасным – передать не могу! – продолжал Юнг. – Я думал, он никогда не кончится. Это был настоящий ад. Но я нашел способ положить ему конец.
– Да? – Пилигрим сунул носовой платок в карман. – И как же вам это удалось?
– Я проснулся, – ответил Юнг. – Надеюсь, вы последуете моему примеру.
Когда Юнг ушел, Пилигрим застыл без движения.
«Я зверь, – думал он. – Зверь без охотника. И никакой хищник меня не задерет. Пришел бы кто-нибудь с ружьем! Или неведомое чудище вышло бы из лесу и пожрало меня… О боги! Отвернитесь и обратите внимание на кого-нибудь другого! Разлейтесь, реки, и поглотите меня! Или вы, горы, – обвалитесь и погребите меня под собой! Перестань цепляться за меня, жизнь… Отпусти!»
11
Beчepoм девятнадцатого июня Пилигрим послал Форстеру вторую записку.
В первой он писал: «Получил весточку, что вы готовите эвакуацию. Купите карты Швейцарии и Франции. Переведите пятьсот фунтов в Цюрихский банк. П.».
Во второй записке говорилось: «Ежедневные прогулки по закрытому двору за клиникой. Осторожнее с битым стеклом. Возьмите веревочную лестницу. Дату и час сообщу через два дня. Побольше бензина для машины. Путешествие длинное. П.».
В клетке осталось два голубя.
На следующий день, во вторник, двадцатого июня, Пилигрим в белом костюме и с зонтиком – жара стояла невынoсимая – спустился на лифте на первый этаж и позволил вывести себя в «тюремный двор».
Кесслер без умолку болтал об ангелах:
– Вы слышали о девяти уровнях небесной иерархии, мистер Пилигрим? Поразительно! Там есть серафимы, херувимы, престолы, силы, господства, власти, начала, архангелы и ангелы. Я думаю, вы могли бы стать девятым чином. Я видел ваши крылья, когда вы прибыли.
– Видели, говорите?
– Да, сэр.
– И где же теперь мои крылья?
– Трудно сказать. Очевидно, у меня в голове. Я знаю, что они не настоящие – но дело в том, что они казались реальными. Мне очень хотелось в это верить. Вы никогда не хотели, чтобы что-то нереальное стало реальным? Даже если знали, что эrо невозможно… Как чудесные пейзажи, которые видишь во сне, или ангелы …
– Да, я очень хотел, чтобы нереальное стало реальным. Очень.
– Вот видите! А я что говорю!
Пилигрим улыбнулся. Простодушие Кесслера было неотразимо.
Во дворе гуляло множество пациентов. Некоторых Пилигрим узнал, других – нет. Там был человек, считавший себя собакой, пациент, который утверждал, что съел своих детей, больная, пытавшаяея убить санитарку и напичканная успокоительными настолько, что еле передвигала ногами, и женщина, похожая на хозяйку английского борделя.
Внимание Пилигрима привлекпи две нсзнакомые фигуры. Первый из них высыпал на скатерть горстку песка и теперь усердно считал песчинки. «Neun-tausend-zwеi-und-funfzig, – бормотал он. – Neun-tausend-drei-und-funfzig»(Девять тысяч пятьдесят два, девять тысяч пятьдесят три, нем.). Кучка на столе, казалось, почти не уменьшалась.
Второй незнакомкой была женщина, похожая на актрису, играющую ребенка. Росточком меньше пяти футов, с большущим розовым бантом в распущенных волосах. На ней было платье двенадцатилетней девочки, белые чулки и ярко-красные шлепанцы. Присматривала за больной Schwester Дора, все еще оплакивавшая графиню Блавинскую. Пилигрим заметил черную ленточку, приколотую у санитарки на груди. Эта унылая парочка вышла на прогулку рука об руку, прячасъ от солнцa под бумажным японским зонтом.
«Пестрая у нас тут компания! – думал Пилигрим, вливаясь в ряды прогуливающихся. – Собаки, каннибалы, неудавшиеся убийцы, песочные люди, хозяйки борделей и взрослые дети. Не говоря уже об ангелах Кесслера. Хотя крылья мне бы не помешали. Я сыграл бы роль Икара – только, зная о его судьбе, не подлетал бы близко к солнцу. Зато я смог бы удрать отсюда».
Это было в два часа пополудни.
В половине третьего доктора Блейлер, Фуртвенглер, Менкен, Радди и Юнг столпились у открытого окна, глядя во двор. Они собирались идти к директору на очередное совещание, во время которых Блейлер выслушивал и оценивал отчеты врачей о лечении пациентов.
Увидев фигуры в окне, Пилигрим занервничал. Не дай Бог, кто-нибудь из них – пусть даже один – подойдет к окну во время его побега! С этого наблюдательного пункта забор был виден как на ладони. А может, и местность по ту сторону тоже.
– Почему во дворе так много пациентов? – вопросил Блейлер. – Вы разучились их лечить?
Юнг отвел взгляд. «Зачем он унижает нас? Он не имеет права так с нами разговаривать! Не имеет! Как может глава психиатрической клиники быть такой бесчувственной дубиной? Мы стараемся!»
Фуртвенглер, всегда готовый дать объяснения, сказал доктору Блейлеру, что, по его мнению, на «тюремном дворе», как он выразился, так много пациентов оттого, что врачи слишком часто вмешиваются в чужую работу. Никаких имен он, правда, не назвал.
– Пациент – это пациент, – разглагольствовал Фуртвенглер. – И у каждого из них должен быть свой врач. Один, и только один. Вмешательство, – тут он сделал ударение, придав слову какой-то зловещий оттенок, – дало свои плоды. В результате у нас не только увеличилось число больных на «тюремном дворе», но одна пациентка скончалась.
– Полагаю, вы имеете в виду графиню Блавинскую? – уточнил Блейлер.
– Естественно, – откликнулся Фуртвенглер. – Если, конечно, мы не потеряли еще кого-нибудь.
Все застыли в молчании.
– Если доктор Фуртвенглер настаивает на своих обвинениях, – сказал наконец Юнг, – я готов уйти из клиники…
– Я не называл имен, Карл Густав, – прервал его Фуртвенглер. – Ни одного имени.
«Потому что не хотел говорить при всех, – подумал Юнг. – Интриган! Лизоблюд».
– Смерть графини Блавинской и на моей совести тоже, – сказал он вслух. – Потому что я не сумел уберечь ее от манипуляций Йозефа Фуртвенглера. – Он повернулся к побледневшему Фуртвенглеру и заявил ему прямо в лоб: – Вы убили ее. Вы убили в ней волю к жизни. Вы лишили ее способности к выживанию. И кстати, – Юнг так распалился, что несколько прогуливающихся больных остановились и уставились на окно, – на дворе четверо ваших пациентов!
– Это правда? – спросил Блейлер после короткой паузы.
– Да, сэр, – ответил Радди, заведующий отделением для буйных. – К сожалению, правда.
Доктор Радди перечислил всех четверых: «каннибал», «неудавшаяся убийца», «хозяйка борделя» и «песочный человек».
Блейлер кивнул и спросил:
– А остальные?
– «Человек, который жил вечно» – мой, – признался Юнг.
– «Женщина-ребенок» – моя, – сказал Артур Менкен.
– Почему вы упустили этих двоих? – поинтересовался Блейлер. – Как это случилось?
Арчи глянул на Юнга и ответил:
– По-моему, у нас общая проблема. Эти двое не имеют никакого представления о реальном мире. Они не избегают его, как остальные, – они его просто не признают.
– Вы согласны, доктор Юнг? – спросил Блейлер.
– Да, сэр.
– А вы, доктор Фуртвенглер? – не унимался Блейлер. «Каннибал», «неудавшаяся убийца», «хозяйка борделя» и «песочный человек» – у них есть какое-то представление о реальности?
Фуртвенглер приторно улыбнулся.
– Ну конечно! Они живут в ней.
Блейлер снова посмотрел вниз, во двор.
Парадное шествие продолжалось, хотя лица больных с такой высоты разглядеть было трудно.
«Если там поставить колесо, – подумал Юнг, – они могли бы накачать воды из колодца или смолоть зерно…»
– Пойдемте в кабинет, – велел Блейлер.
Актриса-ребенок споткнулась, упала и завопила благим матом.
Коленки у нее были разбиты в кровь, на чулках расползались дырки.
Schwester Дора подняла ее и усадила на стул. Тут же подошла хозяйка борделя, чтобы утешить бедняжку.
– Какое прелестное дитя! – воскликнула она. – А ты умеешь петь?
Актриса, всхлипывая без слез, как это делают дети, выдавила сквозь зубы:
– Я могу спеть «У нашей Мэри есть баран».
– Тогда давай споем! – обрадовалась хозяйка борделя и затянула: – «У нашей Мэри есть баран…» Подпевай, моя хорошая! «Собаки он верней…»
Малышка наконец подхватила.
– Вот так! Молодец! «В грозу, и в бурю, и в туман баран бредет за ней» (Пер. С.Я.Маршака).
Больные остановились, прислушиваясь. У хозяйки борделя был почти баритон, зато у актрисы голосок звенел, как колокольчик. Покончив с «Мэри», они принялись за «Ку-ку».
– «Ку-ку потеряла овечек: они разбежались под вечер. И где их искать – кто может сказать?»
Пилигрим с тоской смотрел на забор.
«Я должен сбежать отсюда! Должен!»
Если организовать отвлекающий маневр наподобие пения, то удрать удастся за пару секунд, и никто ничего не заметит!
12
Вечером Юнг пригласил Эмму поужинать с ним в отеле «Бор-о-Лак».
– Жен не приглашают, – заметила Эмма. – Их берут с собой.
– В таком случае я беру тебя с собой.
На шее у Юнга был красный галстук. Эмма надела голубое платье. «Голубой, – напомнила она себе, – это цвет надежды».
Она не могла не думать о том, с какой стати Карл Густав решил поужинать в ресторане именно сегодня. В честь какой-то годовщины? Их встречи? Или свадьбы? Или в память о смерти кого-то из родителей? Нет, конечно. Они были женаты вот уже более девяти лет, и Эмма знала все памятные даты наизусть. «Как романтичны мы были когда-то! – грустно улыбнувшись, подумала она. – Мы поженились в 1903 году на день святого Валентина, и мой букет был украшен бумажными сердечками…»
Наверное, Карл Густав хочет сказать ей что-то наедине, без Лотты и фрау Эмменталь, подслушивающей за кухонной дверью. Или же он приготовил для нее сюрприз… Что-нибудь увлекательное – путешествие или нежданного гостя. А может, он предложит ей родить еще одного ребенка? Или объявит, что его роман с Антонией Вольф закончен… Она уезжает в Америку. О! Это было бы чудесно! Китай, конечно, еще лучше, но Америка тоже сойдет. Лишь бы их разделял континент или океан.
Эмма так и не угадала. Позже она поймет, что это был очередной шаг к душевному кризису Карла Густава.
Они поехали в Цюрих на машине. В небе сияла луна. На полпути Юнг остановил «фиат», заявив, что им непременно надо выйти и постоять у обочины на траве. Порывшись в багажнике, он выудил оттуда два бокала и бутылку охлажденного шампанского.
Когда шампанское было открыто и налито, Юнг поставил бутылку на землю, зажав ее между ног. Эмма была спокойна, хотя совершенно не понимала, что происходит. Закутавшись поплотнее в шаль, она взяла у Карла Густава бокал. Ее трясло от холода, хотя вечер был теплый и безветренный. Стрекотали сверчки, где-то неподалеку призывали друг друга лягушки. «Я здесь! – пели они. – Я здесь. А ты где?»
– Отпразднуем восхождение богини! – сказал Юнг, подняв бокал к луне. – За графиню Татьяну Сергеевну Блавинскую! Да сопровождают ее полет трубный глас и пение скрипок!
Они выпили.
Прежде чем вернуться в машину, Юнг вытащил из внутреннего кармана пиджака записку и подвесил ее на горлышко бутылки с шампанским, которую закупорил снова. Осторожно поставив бутылку на обочину, где ее непременно должны были заметить, он процитировал Эмме текст записки. «Для тех, кто поедет мимо сегодня ночью. Прошу вас остановиться и выпить за Луну».
В полночь, когда они возвращались, бутылка была пуста.
В ресторане они заняли тот самый столик, за которым Юнг сидел во время двух встреч с леди Куотермэн. Разговаривали отрывочно и ни о чем. Никаких важных вещей так и не обсудили. Поговорили о бывших и нынешних пациентах, о песчаных замках, могилах и пещерах. Эмма вспомнила о дневниках Пилигрима: она нашла там отрывки о Шартрском соборе, описание эпизода, случившегося в Иерусалиме в четвертом веке до нашей эры, и прусских интриг при дворе Фредерика Великого.
Юнг слушал ее рассеянно.
Он думал о леди Куотермэн, о Блавинской, о Пилигриме – о ком угодно, кроме женщины, которая была рядом с ним. «Она сидела там, а я – здесь. Она сказала то-то, а я – то-то».
Из-за столика в углу за ними наблюдал мужчина с пышными усами.
Они заказали говядину, жареный картофель и артишоки. Эмма была ослепительна, Юнг – нет. Он поблек рядом с ней, невзирая на красный галстук.
В половине двенадцатого они встали и направились к выходу.
Усатый поднял бокал.
– За вашу потерю! – сказал он вслух.
Шагнув в ночную прохладу, Эмма закуталась в шаль. «Все это нереально, – думала она. – На самом деле нас тут нет. Мы нигде. Я заблудилась. А Карл Густав? Он где-то в тумане, и я бреду за ним».
13
Утром в пятницу, двадцать первого июня, Форстер получил записку с третьим голубем: «Завтра в два часа дня. Песни. Услышав сигнал «Давай!», перебросьте лестницу через забор».
В субботу в половине второго Пилигрим с Кесслером спустились в «тюремный двор». Пилигрим выглядел куда более объемистым, чем раньше. Дело в том, что под костюмом на нем была пижама, а в карманах – удостоверение личности, чековая книжка, дневник и стопка его любимых носовых платков, надушенных одеколоном «Букет Бленхейма». Бутылочку ему пришлось оставить. Кроме того, он вынул из серебряной рамки фотографию Сибил Куотермэн и положил в карман жилета, между складками одного из дущистых платков. Костюм на нем был темный, из переплетенных черных и синих нитей. «В конце концов, – решил он, – я убегаю в ночь».
На небе не бьшо ни облачка. В руках Пилигрим нес черный зонт, словно собираясь открыть его для защиты от солнца. Вместо этого он незаметно бросил зонт через забор, где Форстер поймал его и положил на заднее сиденье маленького «рено». Со стороны Пилигрима это был рискованный шаг, но он сознательно пошел на него, чтобы посмотреть, обратит кто-нибудь внимание или нет. Никто не обратил.
В четверть третьего во двор вышли актриса-ребенок и schwester Дора. У актрисы был чрезвычайно трогательный вид. Возможно, она играла маленькую Нелл (Персонаж романа Ч.Диккенса «Лавка древностей»). В руках у нее были цветы, в волосах – ленты, а в глазах – слезы.
– Вы пели вчера, – обратился к ней Пилигрим.
– Да. Я люблю петь.
– А мне больше всего нравятся песни-считалки, – сказал Пилигрим. – Вы их знаете?
– Я могу спеть вам «Три», – ответила маленькая Нелл.
– Что еще за «Три»? – спросил Пилигрим, никогда не слышавший такой песенки.
– Один плюс один плюс один будет три, – пропела женщина. – Четыре минус один – три, и два плюс один – тоже три. Трижды один – снова три. Я, моя плоть и душа – тоже три.
– Очень глубокомысленно, – сказал Пилигрим.
Женщина-ребенок улыбнулась.
– У меня десять пальцев на руках, десять пальцев на ногах, две руки, две ноги, две губы, два уха и одна голова. А остальное – сплошная неразбериха.
– Понятно.
– Вы умеете считать? – спросила она.
– Да, это мое любимое занятие.
– Вы знаете «Расти, камыш, и зеленей»?
– Вроде бы. Но я давно ее не пел.
У женщины были огромные блестящие глаза, производившие тревожное впечатление, поскольку она ни начем не могла остановить взгляд.
– Давайте встанем в круг, – предложила она, схватив Schwester за руку, – и спляшем.
Пилигрима это совершенно не устраивало. Он надеялся, что петь будут другие, и не собирался принимать в этом участия.
– Я буду дирижировать, – сказал он.
Женщина заткнула букетик за пояс и восторженно раскинула руки в стороны. Хозяйка борделя, каннибал и человек-собака незамедлительно к ней присоединились. А также Schwester Дора и другие санитары, включая Кесслера.
– Начинайте! – крикнула актриса.
Пилигрим начал:
– Я спою вам двенадцать, эй! Расти, камыш, и зеленей!
Все послушно повторили:
– Я спою вам двенадцать, эй! Расти, камыш, и зеленей!
– Что для вас двенадцать? – спросил нараспев Пилигрим.
Все закричали наперебой. Одни, ничего не понимая, несли какую-то чушь, но другие вопили:
– Это двенадцать апостолов, эй!
Они начали сужать круг, в центре которого стоял Пилигрим.
– Одиннадцать? – пропел Пилигрим.
– Те из них, что попали в рай!
– Десять?
– Десять заповедей!
Пилигрим повернулся и посмотрел на забор. – Девять? – крикнул он.
– Девять небесных планет, эй! Расти, камыш, и зеленей!
– Восемь?
Пилигрим нырнул под руки поющих, водивших хоровод, и начал пятиться назад.
– Смелых парней!
– Семь?
– Семь сияющих звезд! Шесть несбыточных грез!
– Пять?
– Это знак у твоих дверей! Расти, камыш, и зеленей!
– Четыре?
– Святых евангелиста, и в их числе Матфей!
– Три?
Пилигрим добрался до середины забора. Певцы и танцоры смотрели под ноги, поскольку двигались то в одну сторону, то в другую.
– Любовный треугольник, эй! – пропели они.
– Давай! – крикнул Пилигрим, обернувшись к забору, после чего крикнул во двор: – Два?
– Два мальчика, поехавших в лицей! Расти, камыш, и зеленей!
Веревочная лестница упала на землю.
Пилигрим начал карабкаться наверх.
– Один! – крикнул он через плечо. – Один.
– Один – сам себе господин! И будет таким до седин!
Пилигрим остановился на секунду. Несмотря на то что ступеньки лестницы были обмотаны тканью, ладони у него стерлись до крови.
Не важно.
Он глянул назад.
Все, с этим покончено.
Пилигрим осторожно поставил ноги на плечи Форстера и спрыгнул на землю. Форстер стащил лестницу с забора.
– Один – сам себе господин! И будет таким до седин! самозабвенно пел хор.
Пилигрим побежал за Форстером. Тот бросил лестницу на заднее сиденье автомобиля. Никто из них не промолвил ни слова.
Пилигрим вытащил пару носовых платков и обмотал ладони. Раны были неглубокими.
– Поехали, – прошептал он.
Сегодня утром, на рассвете, он выпустил четвертого голубя с запиской, адресованной герру доктору К. Г. Юнгу, в клинику Бюргхольцли Цюрихского университета.
Там было написано всего одно слово: «Прощайте».







