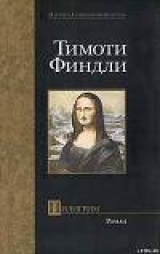
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Доре здесь нравилось, и каждый раз, приводя пациентов на процедуры, она жалела, что не может поплескаться вместе с ними нагишом. Она никогда не понимала. зачем в других гидротeрапевтических центрах надевают купальники. Они тесные, под ними сжато в тиски, кожа зудит. Нервное напряжение в таких условиях снять невозможно – оно скорее тoлько усилится. С тем же успехом их могли 5ы заставлять купаться в смирительных рубашках. Таково было мнение Доры.
Миновав очередной ряд дверей, они вошли в просторное помещение, похожее на пещеру, населенную призрачными фигурами в простынях. Здесь слышались только приглушенные звуки шагов да плеск воды. И еще пение одного из призраков.
Певица находилась довольно далеко, однако благодаря влажному воздуху и отсутствию эха ее кристально чистый голос разносился по всей купальне. Никаких слов – только льющаяся, плавная мелодия.
Графиня Блавинская протянула Доре Хенкель руку, будто принимая приглашение на танец, и застыла как статуя.
«Я не понимаю! – словно говорила она. – Это бальный зал? Вы за мной ухаживаете? Я не знаю, кто вы».
Очевидно, ее сбило с толку женское пение.
Меццо-меццо-меццо-сопрано!
Вы знали, что Луна – это меццо-сопрано?
Поток серебристых звуков лился по пещере, и фигуры, окутанные парами, останавливались, прислушиваясь.
Дора повернулась и посмотрела на Блавинскую.
«До чего же она хороша! – подумала медсестра. – Светлые, почти розоватые волосы, детские глаза. Если бы… Ах, если бы…»
Мелодия подходила к своему завершению, пропадая в тумане. Последняя нота воспарила в воздухе – и растаяла без следа.
Татьяна отпустила руку Доры.
Люди, стоявшие перед ними и по сторонам, начaли расходиться.
«Если бы здесь каждый день звучала музыка, – подумала Дора, – ничего не надо было бы говорить».
Дора повела графиню вперед. Она искала свободную ванну, но все они были заняты. Рядом с больными стояли или сидели санитары – включали краны и ловко направляли на пациентов шланги так, будто поливали в саду увядшие цветы в надежде вернуть их к жизни.
В конце концов Доре удалось найти незанятую ванну, и она встала за спиной у графини, зная, что, прежде чем та разденется и погрузится вводу, ей придется пережить небольшой приступ паники.
Ванна глубиной в четыре фyта была из ирландского мрамора с зелеными, похожими на прибитые приливом водоросли, прожилками и завитушками. Над подсоленной фосфоресцирующей водой, словно над Атлантическим океаном, поднимались пары. Казалось, ты стоишь туманным и теплым днем на скалистом берегу.
– На Луне нет воды, – сказала однажды графиня. – Нет воды, нет приливов, нет ничего, кроме пыли и пепла. Мы купаемся в пепле! – торжествующе воскликнула она. – Мы купаемся в пепле и пудримся пылью!
Дора спросила, как же они утоляют жажду.
– Там нет жажды, – ответила графиня. – Нет ни жажды, ни голода – ничего человеческого. Нет желаний. Нет страстей. Нет тоски. Мы свободны.
– Как это, должно быть, печально, когда нет желаний, – заметила Дора. – Человек должен чего-то хотеть.
– Никогда. Ничего. Только танцевать. Парить, победив силу тяжести.
– Наверное, там очень счастливая жизнь, раз вы так хотите туда вернуться.
Тут графиня отвела глаза, но лишь на краткий миг.
Дора положила ладони на плечи Блавинской. Пора было снять халат и направить ее к ступенькам, уходившим под воду.
– Расстегните! – сказала Дора.
Графиня послушно и обреченно, как ребенок, развязала пояс и расстегнула пуговицы халата. Дора, перебросив халат через руку и глядя, как Лунная Леди спускается по ступенькам, невольно шагнула вперед, чтобы поддержать графиню, если та упадет. Ступни у Татьяны Блавинской были крошечные, с высоким подъемом, руки и ноги пухлые, округлые – руки и ноги танцовщицы, – ягодицы твердые, как фарфоровые луны. А груди… Дора закрыла глаза. Она не могла думать о них, это было невыносимо!
Блавинская со вздохом погрузилась в воду.
Дора, не спуская с нее глаз, села на край ванны. Графиня сидела внизу на встроенной скамеечке, раскинув руки в стороны. Веки опущены вниз, рот приоткрыт, голова запрокинута назад – она словно ждала, что ее сейчас обнимут.
Нет, это невозможно. Любить кого-то и не сметь поцеловать, прикоснуться, обнять…
Невозможно – и все-таки приходится терпеть.
15
Пилигрим сидел в инвалидном кресле с клетчатым пледом на коленях. На нем была голубая пижама, серый больничный халат, белые носки и замшевые шлепанцы с опушкой из овечьей шерсти. Кисти с забинтованными запястьями – напоминание о кратком пребывании в изоляторе – лежали на коленях.
Кесслер, следуя указаниям доктора Фуртвенглера, вывез его на застекленную веранду, выходившую в сад. Вдалеке за деревьями виднелись горы, что окружали неразличимое отсюда Цюрихское озеро. Пилигрим сидел в полном молчании, безучастно глядя вдаль. Горы ничего ему не говорили. Небо тоже. Солнце, клонившееся к закату, было незнакомо. Пилигрим решил считать его своим другом, но у солнца не было имени. Как же к нему обращаться?
у меня болят запястья.
Ноют.
Он не знал почему.
Он ничего не помнил.
Бинты.
Белые.
Снег?..
Он знал слово «снег» и видел его за окнами.
Он также знал слова, обозначающие горы и окно. А вот слов для таких понятий, как город – здания – дома – люди, – У него не было.
Мужчины и женщины?
Может быть.
Он видел других пациентов. Двое сидели в креслах-каталках, другие стояли, прислонившись к стене или прильнув к окну. Пилигриму они казались похожими на шахматные фигуры.
Шахматная доска.
Игра началась?
Игра.
Это игра. Кто-нибудь передвинет меня. Рука опустится вниз…
Пальцы.
Надо мной задумаются.
Кто-то кашлянет.
Пальцы коснутся меня. Почти поднимут – но нет. Решат, что мне здесь безопаснее.
Пилигрим окинул окружающих взором.
Три пешки, один слон, два коня, король и королева. Король был разлучен с королевой. Она стояла одна, беззащитная, а короля стеной окружало его войско. Белое.
Белый король. Белые пешки. Белая королева.
А где же черные фигуры? НИ одной не видать – все белые. И когда противник сделает следующий ход?
Доктор Юнг подошел и встал у него за спиной, прижимая палец к губам, чтобы Кесслер ничего сказал.
Санитар кивнул и шагнул в сторону.
Юнг вышел вперед по диагонали, направляясь вправо от пилигрима, перебрасываясь приветствиями со знакомыми санитарами.
Было четыре часа пополудни.
Солнце клонилось к закату, готовое вот-вот скрыться за горами. Низкое зимнее солнце со странным, каким-то летним оттенком. Оранжевое, как апельсин.
«Там апельсин, – подумал пилигрим. – Возможно, он тоже участник игры. Фигура. Или же игрок. Бог».
Бог.
Ну конечно!
Бог был огненным шаром в…
В чем? В чем? Как же это называется?
Теперь Пилигрим был полностью виден Юнгу в профиль. Юнг ничего не говорил. Он наблюдал.
Пилигрим шевельнул руками. Кисти у него онемели.
Они замерзли в снегу.
Они умрут.
Часть меня умрет.
Как чудесно…
Юнг заметил, что Пилигрим чуть приоткрыл рот, но так и не произнес ни слова.
Сумерки. Самое хорошее время. Промежуток между светом и тьмой.
Юнг вспомнил слова леди Куотермэн о «вечных сумерках», в которых пилигрим провел первые восемнадцать лет жизни.
Возможно, тогда он не помышлял о самоубийстве. Судя по тому, что Юнг узнал за долгие годы изучения шизофрении, эта болезнь обычно настигала людей в возрасте семнадцати-восемнадцати лет. Ну, возможно, девятнадцати-двадцати.
Неужели пилигрим так долго жил с раздвоенным сознанием? Никто не смог бы скрывать это столько лет. Ему сейчас около пятидесяти. Выходит, шизофрения – если у него действительно шизофрения – началась гораздо позже. Крайне необычный случай.
Но когда пилигриму исполнилось восемнадцать, с ним определенно что-то случилось. Шок, несчастный случай, чья-то внезапная смерть, болезнь, драматический разрыв отношений… Что-то. Душевная рана, какой бы она ни была, стала первопричиной потери самосознания. А потеря самосознания – это, быть может, еще не болезнь, но уж точно состояние.
Он снова вернулся к ненавистной для леди Куотермэн мысли о том, что мистер Пилигрим болен.
Да, человек, сидевший сейчас в кресле-каталке, безусловно, был болен. Временная депрессия или отчаяние не могут довести до такого состояния. Сама его поза криком кричала об этом – одеревенелые спина и шея, недвижные, словно скованные кандалами, ноги, неестественно двигающиеся руки…
Пилигрим был залит потоком солнечных лучей. Он походил на статую короля, высеченную из камня. Орлиный нос, широко расставленные глаза, копна волос над лбом – и рот, который жаждал выговорить хоть слово, но не мог.
Юнг кивнул Кесслеру, чтобы тот увез пациента в палату. Когда санитар поднял тормоз и покатил кресло, Пилигрим громко крикнул – вернее, думал, что крикнул, показывая на солнце: «Нет, не надо! Он еще не умер!»
На самом деле на веранде не раздал ось ни звука, если не считать мышиного попискивания колес каталки, которую Кесслер толкал обратно во тьму.
16
Графиня Блавинская снова легла в ванну. Ее ступни, изуродованные балетом, уплывали в туманную даль. Когда-то у нее были крошечные идеальные ступни. Мама всегда так говорила. И отец тоже. И брат.
Алексей.
Он сунул руки под одеяло и взял мои ступни в ледяные ладони, прижимая большие пальцы рук к моим подошвам и шепча: «Ножки мои, ножки, бегите по дорожке!»
Как давно это было!
Разве?
Да. Давным-давно.
Мне так не кажется. Я до сих пор чувствую холод его пальцев.
Тебе было тогда всего двенадцать.
Двенадцать? Я не помню. Я помню, что была танцовщицей. Это я знаю.
Причем хорошей. Тебе уже в детстве прочили, что ты станешь великой балериной.
Да. И я стала.
Ее волосы разметались по плечам, доставая до груди. Когда пряди касались сосков, те твердели. Дора Хенкель велела ей не развязывать ленты, но Татьяна отвернулась и уплыла от нее прочь.
В воде была соль. Целебное средство, как сказал невропатолог. И еще «релаксант» – слово, которое Дора никогда раньше не слыхала. «Соль способствует ощущению невесомости, говорил врач. – А это помогает расслабиться».
Графиня, безусловно, выглядела куда менее напряженной, сонно плавая в Саргассовом море своих волос. Дора снова, села и улыбнулась.
По словам доктора Фуртвенглера, Блавинская танцевала сперва в Санкт-Петербурге, а потом в русском балете Дягилева. Однако что-то случилось – доктор не сказал, что именно, – и через несколько месяцев после свадьбы с графом Блавинским ее карьере пришел конец. В том году она стала прима-балериной. Фокин специально для нее поставил хореографию, Стравинский сочинил музыку. Началась работа над декорациями и костюмами, однако что-то…
Что-то произошло.
Что-то произошло, и Татьяна Блавинская переселилась на Луну. Она говорила, что полетела туда, чтобы найти свою мать. Мою мать – Селену, богиню Луны…
Сами боги влюблялись в Селену. Но она полюбила смертного человека, и Селену изгнали из ее владений. Она обвенчалась со своим возлюбленным в присутствии русского царя! Так говорила графиня. Со временем у них появилось двое детей – Алексей Сергеевич и Татьяна Сергеевна.
Сперва все было хорошо. Судя по словам врачей, посколькуи доктор Юнг, И доктор Фуртвенглер прекрасно знали ее историю, Селена и Сергей Иванович жили в волшебной сказке,
Но что-то… что-то произошло.
Только никто не знал, что именно…
Доктор Юнг уверял, что графиня знает, однако не может или не хочет сказать. Доктор Фуртвенглер придерживался иного мнения. Он считал, что ничего не произошло. Просто графиня заболела, а потому ее надо лечить. И ее вылечат. «Время и терпение – вот что необходимо Татьяне Блавинской. Никто не живет на Луне. Это невозможно».
«На Луне, – сказала как-то Блавинская Доре Хенкель, мы все невесомы. Поэтому я так люблю воду. Я словно возвращаюсь домой и летаю туда-сюда…»
Что касается се мужа…
Нет.
Она не станет обсуждать свой брак. Детей у них не было. «Да и откуда им взяться?» – загадочно промолвила она.
Граф Николай Блавинский погиб. Его убили. Ходили слухи, что убийцей был ее отец.
Татьяна приоткрыла рот и поймала губами прядь волос. Сколько ни вглядывайся в клубы пара, там нет тех, кого она хотела бы видеть. Все, кто был ей нужен, исчезли. Остались только те, кого она видеть не хотела. Ее брат, отец, она сама.
Алексеи сунул руки под одеяло и сжал мои ступни, а кто-то…
Кто?
А кто-то смотрел.
Но на что? На что? На что – на что – нa что?
Татьяна забил ась в воде, откусив в припадке прядь волос. Застонала без слов, судорожно ловя воздух ртом.
Дора Хенкель побежала к другому краю ванны..
– Графиня! Графиня! – Она не имела права крикнуть во весь голос, чтобы не взволновать других пациентов. – Скорее! – вполголоса позвала Дора. – Кто-нибудь! Помогите мне!
К ней подбежали санитар и другая медсестра.
Санитар залез в ванну и связал Татьяне руки. Графиня сучила в воздухе ногами и била его пятками. Однако он держал ее, пока Дора Хенкель с другой медсестрой не выволокли графиню из воды и не замотали в полотенца, соорудив из них подобие смирительной рубашки.
Татьяна откинула голову назад, чуть не сломав себе шею, и взвыла:
– Помогите! На помощь! Помогите мне! Помогите!
Никто не пришел ее спасти. Никто. Вокруг были все те же люди, что и раньше, и все они, как и раньше, твердили: «Не надо звать на помощь. Все хорошо. Мы с вами. Тише, тише!» Старая история. Только ты одна можешь увидеть своих врагов – а твои враги видят только тебя.
17
На следующее утро Пилигрим отказался от еды.
Джем горкой лежал на блюдце рядом с тостом, который Кесслер аккуратно намазал маслом, в точности как это делал мистер Пилигрим: не слишком густо и не слишком тонко, очень ровненько, до самых краев.
В чайнике был заварен «Лапсан-сучонг» вместе с «Инглиш Брекфест» – любимыми сортами Пилигрима, по словам леди Куотермэн.
Грейпфрута на сей раз не было – только чай: джем и тост.
Все осталось нетронутым.
Через полчаса, когда пришел доктор Юнг, Кесслер как раз принес поднос и поставил его на кровать.
– Мы ничего не едим, – пожаловался он. – Мы успешно сходили в туалет, помылись и почистили зубы. Я решил не брить его. Мне кажется, ему сейчас не стоит видеть бритву.
– Возможно, – отозвался Юнг. – Хотя я бы на вашем так не волновался. Завтра я сам его побрею.
– Хорошо, сэр.
– Он спал?
– Не сомкнул глаз. Я тоже.
– Сочувствую. Вы сможете работать?
– Я не отказался бы соснуть, когда унесу тарелки. Вообще-то я сам могу съесть его завтрак. Когда я смотрю, как он голодает, у меня под ложечкой сосет.
– Тогда ешьте на здоровье. А потом отдохните. Сейчас девять часов… Приходите к полудню..
– Спасибо, сэр.
Кесслер взял поднос с кровати и ушел в гостиную.
На Пилигриме была все та же пижама, тот же серый холат, те же белые носки и замшевые шлепанцы. Кто-то сменил ему повязку, хотя с медицинской точки зрения в ней уже не было нужды. Бинты просто скрывали шрамы от взгляда Пилигрима.
Юнг встал перед ним и улыбнулся.
– Знаете, вам все-таки надо поспать. Нам всем нужен сон, хотя, должен признаться, сам я сплю очень мало. Однако не спать вообще я бы не смог.
Пилигрим перевел взгляд.
Голуби сидели на…
… зубчатой стене с бойницами.
Голуби на…
… пороге…
… плите под очагом…
… том месте за…
Там. Просто там. За… чем-то.
– Мистер Пилигрим!
Голуби.
_ Вы меня видите?
Да. Ты здесь.
_– Поговорите со мной.
Я не могу.
– Вы меня боитесь?
Что?
_ Вы – ме-ня – бо-и-тесь?
Конечно, боюсь. А ты разве нет?
– Посмотрите на меня, мистер Пилигрим!
Не тут-то было. Пилигрим уставился на голубей, сидевших на подоконнике и балконе, хотя он до сих пор не мог найти слов для обозначения этих мест.
Зубчатые стены с бойницами.
– Если вы понимаете меня, кивните.
Никакой реакции.
– Если вы в состоянии меня понять, подайте какой-нибудь знак. Не важно какой – просто дайте знак.
Ничего.
– Я знаю, что вы можете двигаться, мистер Пилигрим. Я видел, как вы шевелили пальцами, ступнями и головой. Дайте мне знак. Вы понимаете?
Ноль эмоций.
– Вы меня слышите?
Одна ладонь коснулась другой.
Большой палец стукнул по другому большому пальцу. Один раз.
Юнг полез в карман.
– Вы курите, мистер Пилигрим?
Никакой реакции.
– Надеюсь, вы не станете возражать, если я выкурю сигару? Боюсь, я не в силах противиться этой привычке. Манильские сигары и бренди для меня все равно что еда.
Он вытащил из кармана сигару.
– М-м-м! Восхитительно! – воскликнул Юнг, поднеся сигару к носу и не спуская с Пилигрима глаз. – Могу дать и вам, если хотите.
Нет ответа.
– Не хотите? Ладно.
Юнг взял спички.
– Огонь, – улыбнулся он. – Подарок богов.
И чиркнул.
Пилигрим посмотрел на спичку. Огонь – это интересно.
Юнг прикурил, выпустил два клуба дыма и спросил:
– Вам нравятся сигары? Или сигареты? А может, вы курите трубку?
По-прежнему никакой реакции.
– Я заметил, что ваша подруга леди Куотермэн предпочитает сигареты. Вчера мы вместе с ней обедали. Она просила передать вам привет.
Голуби нахохлились в утреннем свете. Самого солнца еще не было видно.
Нет солнца. Нет Бога.
Солнце каждое утро всходило за клиникой и каждый раз, как сегодня, пряталось там, словно дразня ожидающий мир. Егокосые лучи про щупы вали длинную, поросшую лесом долину, в которой скрывалось Цюрихское озеро, и уходили вдаль, туда, где в облаках маячил призрак Юнгфрау (Горный пик в Швейцарских Альпах).
– Мистер Пилигрим!
Юнг принес стул и поставил его справа от Пилигрима.
– Я хотел бы услышать ваше мнение о пейзаже. Восприятие гор часто зависит от того, где человек вырос. Вы в детстве видели горы? Я, например, видел, только не такие. Эти горы выше и величественнее тех, что окружали меня в детстве. Вы понимаете, о чем я?
Пилигрим моргнул. Руки, лежавшие на коленях, перевернулись ладонями кверху.
– Я всегда хотел жить у моря, – продолжал Юнг, – но как-то не пришлось. Конечно, я могу съездить к морю или океану, однако поселиться там… Нет. Это привилегия тех, чья робота позволяет им жить на побережье.
Юнг бросил взгляд на профиль Пилигрима.
Пилигрим сидел недвижно. Но слушал.
– А я работаю здесь. Правда, тут тоже есть водоемы – Цюрихское озеро, река Лиммат, другие реки и озера. И все-таки это не море, верно? И не океан. Что ж… Приходится довольствоваться тем, что есть.
Голуби.
– Вы когда-нибудь думали о смерти в воде, мистер Пилигрим? О том, чтобы утонуть?
Да.
– Я тонул во сне. Хотя во сне я умирал очень по-разному. Я уверен, что все мы видим такие сны.
Вы когда-нибудь во сне кончали жизнь самоубийством, доктор?
– Вы писали о смерти. Об умирании. Я читал вашу книгу о жизни и смерти Леонардо. Прекрасная работа. Столько прозрений, столько открытий – и столько злости. Меня это заинтриговало. Почему вы так злы на Леонардо да Винчи?
А почему бы и нет?
– И все же ваша книга так убедительна, что ей почти веришь.
Почти?
– Остается только вопрос: откуда такая убежденность?
Я знал его.
– Критиковать, конечно, легко, и основания для критики тоже есть, но гениальность вашей книги – я не случайно употребляю слово «гениальность» – заключается в том, как четко вы разграничиваете осуждение человека и восхищение его искусством.
Это всею лишь справедливо.
– Я просто очарован! И потрясен до глубины души.
Пилигрим повернул руки ладонями вниз.
Жест не ускользнул от зорких глаз Юнга.
– Мы побеседуем о вашей книге, когда вы решите заговорить. Если, конечно, вы не считаете, что тема Леонардо да Винчи для вас исчерпана. Хотя я в этом сомневаюсь. Вы нападаете на него с такой страстью, что, по-моему, вы еще не все сказали.
Пилигрим сосчитал голубей. Шесть.
Солнце взошло слева от здания, но в этом апрельском солнце не было предощущения весны.
Юнг, проследив за взглядом Пилигрима, заметил:
– В Швейцарии кажется порой, что зима никогда не кончится. Тем не менее снег уже тает. Я слышал сегодня утром, как под настом бегут ручьи. Недели через три, вот увидите, у озера появятся крокусы и нарциссы. Вообще весна настает очень быстро. Стоит только снегу начать таять, как оглянуться не успеешь, а его уже нет.
Осталось пять. Один улетел.
Юнг встал.
– Интересно, что Леонардо думал про снег во Флоренции, где горы скорее напоминают холмы? Боюсь, его познания ограничивались тем, что таяние вызывает ужасные разливы Арно. Грязь, ил и мусор – но не снег, белый, как здесь. Насколько я помню, он никогда не рисовал снег, хотя я, конечно, не так хорошо знаю его творчество, как вы, мистер Пилигрим. Со снегом его, похоже, ничего не связывало. Леонардо не видел его внутренним взором, у него перед глазами были другие ландшафты и другие образы. Правильно? Не снег, а ветер и дождь… Грозовые тучи, драмы, которые разыгрываются на фоне его пейзажей… Но без снега. Надеюсь, вы согласитесь со мной, мистер Пилигрим. Мы не выбираем то, что должно привлечь наше внимание. Скорее нас выбирают. Именно таким образом я избран вами, мистер Пилигрим. Вы – мой снег.
Юнг прошел за негнущейся спиной Пилигрима и направился к двери.
– Я вас оставлю. И вернусь, только когда вы сами меня позовете. Не раньше. Всего хорошего, мистер Пилигрим.
Дверь открылась…
Дверь закрылась.
Руки Пилигрима приподнялись с колен и вцепились в подлокотники кресла.
Он: покачнулся. Открыл рот.
И заговорил.
– Небо, – сказал он.
И повторил снова:
– Небо.
Сощурив глаза, посмотрел на солнце. Солнце его исцелит.
Если он и правда снег – он растает.
18
– Карл Густав! – окликнул Фуртвенглер.
– Да, Йозеф?
Фуртвенглер увидел Юнга со спины, когда тот закрыл дверь палаты Пилигрима и пошел по коридору.
– Подождите минутку!
Юнг приготовился к худшему – очередной тираде, произнесенной ледяным тоном, очередным параноидным обвинениям.
– Выходит, вы снова умудрились украсть моего пациента? – сказал Фуртвенгпер.
«Началось!» – подумал Юнг.
– Да, – ответил он. – Хотя я не назвал бы этокражей. – А как бы вы это назвали?
– Согласием на деловое предложение. Меня, как обычно, просили ответить «да» или «нет». Я сказал «да».
– Нет, не как обычно! На сей раз вы подсуетились. Сегодня утром в половине девятого Блейлер вызвал меня к себе и сказал, что Пилигримом будете заниматься вы. Подчеркнув, что на этом настаивает леди Куотермэн. Но у него хотя бы хватило порядочности извиниться.
– Вы жаждете извинений, Йозеф? Нет проблем. Примите их! Они все ваши.
Доктора подошли к лестнице и стали спускаться вниз.
– Я их не приму! – заявил Фуртвенглер. – Если бы я хоть на секунду поверил в вашу искренность – другое дело. Но я слишком хорошо вас знаю, Карл Густав. Вы с ней сговорились! Вы обольстили ее, одурманили и навели на меня поклеп. Вы специально пошли к леди Куотермэн, чтобы она отказалась от моих услуг!
– С чего вы взяли?
– Вас видели! Вы с ней обедали вчера. А вечером она позвонила директору и ничтоже сумняшеся заявила, что мой диагноз и методы лечения мистера Пилигрима неверны и неприемлемы. Неверны u неприяемлемы! Что я сделал, чтобы заслужить такой отзыв?
– Вы не поняли своего пациента.
– Я его не понял?! Чушь!
Они спустились на площадку и умолкли, пропуская двух поднимающихся наверх медсестер. Улыбки, дружелюбные кивки – сплошная любезность. Персонал не должен знать, что врачи ссорятся. По крайней мере до тех пор, пока дело не будет улажено.
– Да, я вчера обедал с леди Куотермэн, – сказал наконец Юнг, не двигаясь с места. – Но она сама меня пригласила. Я ничего не делал, чтобы отнять вашего пациента, солгал он. – Ничего!
Он отвернулся и начал спускаться полестнице. Фуртвенглер, стараясь сохранить лицо, поборол искушение и не побежал за ним, а не спеща проследовал вниз с таким видом, словно там его ждала толпа восторженных почитателей.
– Должен признать, Карл Густав, выв этом хорошо поднаторели, – произнес он ледяным тоном.
– В чем?
– Вы втыкаете людям нож в спину, а потом ведете себя так, будто они каким-то образом умудрились изогнуться и всадить его сами.
– Мне очень жаль, что вы так реагируете, Йозеф. Я надеялся – и леди Куотермэн разделяла мою надежду, – что вы будете продолжать работать над этим случаем в качестве главного консультанта.
Они стояли в фойе, залитом солнечным светом. Пациенты, их родственники, санитары и медсестры шли в столовую на обед. Было первое мая, и кто-то поставил на конторку дежурного несколько горшков с гиацинтами и нарциссами. Их нежнейшие краски и аромат напоминали о том, что сезон цветения уже не за горами.
Фуртвенглер лишился дара речи. Потом, придя в себя, спросил:
– Вы предлагаете мне помириться? Искренне?
– Конечно, – улыбнулся Юнг.
– Пилигрим пробыл у нас всего неделю, но я успел привязаться к нему. За это время произошло так много событий… Меня заинтриговал его случай, и мне не хочется совсем его бросать.
– В этом нет необходимости.
Фуртвенглер нерешительно улыбнулся.
– Ладно. Раз так, желаю вам успеха в лечении.
Юнг насмешливо поклонился.
– Благодарю.
Они стояли, не совсем понимая, исчерпана тема разговора или требуется сказать что-то еще. Затем Фуртвенглер как всегда, когда ему нужно было время, чтобы подумать вынул носовой платок и начал протирать очки, которые носил в кармане исключительно как символ интеллектуальности.
– Вы сейчас вышли от мистера Пилигрима. Как он, по-вашему? Я провел с ним вчера целый час и должен признаться, что никогда еще не видел человека с такими несчастными глазами.
– Согласен, – кивнул Юнг. – Сегодня утром ничего не изменилось. Он не сказал ни слова. Только двигал руками вот так, – Юнг показал, – и смотрел на горы. Он вглядывается вдаль с почти фанатичным упорством, словно ожидает, что кто-то оттуда заговорит с ним. Я пробую различные уловки. Я довольно долго беседовал с ним об окружающем пейзаже, о снеге и Леонардо да Винчи. И я чувствую, после того как перечитал его книгу, что скорее всего подействует разговор на тему да Винчи. Мне нужно спровоцировать его на спор, задеть за живое. Хотя я сказал ему, что не вернусь, пока он сам меня не позовет.
– А это не слишком рискованно?
– Возможно. Но я уверен, что он хочет говорить. Что ему мешает – Бог весть. Физической способности к речи он не потерял. У него не было ни апоплексического удара, ни каких-либо травм. Он практически здоров, хотя редко ест и совсем не спит. Организм у него выносливый, как у быка.
Фуртвенглер сунул очки обратно в карман и принялся крутить в руках носовой платок,
– Йозеф! – сказал Юнг. – Я хочу попросить вас об одолжении.
– Об одолжении? Не скажу, что меня это радует, – буркнул Фуртвенглер. – Хотя… валяйте. Просите.
– Не приходите, пожалуйста, к мистеру Пилигриму денекдругой. Мне необходимо стронуть с места какие-то винтики в его голове, чтобы развязать ему язык, с Кесслером он беседовать не станет – во всяком случае, о том, чем он мог бы поделиться с вами или со мной. И я хочу, чтобы он заговорил именно со мной. Надеюсь, вы меня понимаете.
Фуртвенглер улыбнулся. На сей раз это была не наигранная улыбка. Скорее кривая и беспомощная.
– Когда-нибудь, Карл Густав, – сказал он, – вы будете руководить клиникой. И я не уверен, что захочу в ней остаться.
– Вы опять рассердились.
– Да. Я желаю принимать участие в лечении Пилигрима, как вы обещали. Если я ваш главный консультант, мне необходимо общаться с пациентом.
– Я прошу два дня, Йозеф. Всего два дня. А потом будем работать вместе.
Фуртвенглер отвел взгляд.
– Наука превыше всего, – сказал он. – Наука превыше всего – или же пациент будет для нас потерян.
– Чепуха! – возразил Юнг. – Превыше всего пациент.
– Вам виднее. Но, по-моему, вы только что нарушили соглашение, которое мы заключили пару минут назад. Вы его практически отменили. Честь имею.
Фуртвенглер развернулся и зашагал прочь.
Провожая его взглядом, Юнг подумал: «Тем лучше. По крайней мере не будет путаться у меня под ногами».
Направляясь в свой кабинет, он начал насвистывать мелодию вальса «Сказки Венского леса» – и вскоре поймал себя на том, что приплясывает на ходу.
19
Часов в одиннадцать вечера Кесслер задвинул кресло-каталку в угол и заставил Пилигрима лечь в кровать.
Сам Кесслер обычно спал на маленькой раскладушке в углу гостиной; днем раскладушка убиралась за шкаф. Он выключил лампы, кроме одной, стоящей на столе в углу комнаты, если что случится, он все увидит, и в тоже время свет не будет резать глаза.
– Спокойной ночи, мистер Пилигрим, – сказал Кесслер и, не раздеваясь, забрался под одеяло.
Ответа не последовало.
«Как же! Дождешься от него ответа! – обиженно подумал Кесслер, скидывая с ног туфли. – Он будет молчать до Судного дня».
В полночь, когда часы пробили двенадцать, Кесслер почти уже уснул, но машинально сосчитал удары так, как другие считают овец.
К двум часам он спал крепким сном.
– Вы здесь? – раздался чей-то голос.
Во сне, что ли?
– Вы здесь, приятель?
Нет, это не сон. Просыпайся!
Кесслер приподнялся на локтях и прислушался.
– Говорите же! Вы здесь?
Кесслер никогда не слыхал голоса Пилигрима. Совершенно незнакомый голос.
Он встал и, пошатываясь спросонья, подошел к кровати.
– Мистер Пилигрим?
– Есть тут кто-нибудь? Доктор!
Кесслер включил торшер.
– Мистер Пилигрим!
Пилигрим лежал к нему спиной. – Мистер Пилигрим!
Никакого ответа.
Кесслер, боясь спугнуть пациента, обошел кровать и встал так, чтобы тот мог его видеть.
– Вы не спите?
Ни звука. Определить состояние Пилигрима по его позе было трудно, однако Кесслеру казалось, что пациент спит глубоким сном. Никаких моторных реакций – только еле заметное дыхание.
Кесслер подошел к столу и написал по-немецки: «Пациент заговорил примерно в пять минут третьего ночи». Потом сел, положив на листок зажатую в пальцах ручку, и выжидающе умолк.
– Скажите что-нибудь, мистер Пилигрим! – взмолился он наконец. – Скажите хоть слово!
Тишина.
Кесслер глянул на часы и написал: «В четырнадцать минут третьего пациент перестал говорить». Надев на перо колпачок, он выключил свет и остался сидеть в темноте.
«Когда все покинут его, – думал Кесслер, – я останусь. Я все время вместе с ним. Не его подруга леди Куотермэн, не доктор Юнг и не доктор Фуртвенглер, а я. Его караульный. Сторож. Защитник. Хотя все лавры достанутся им. Для них я не более чем санитар. И тем не менее именно я буду знать его лучше всех, когда он пойдет на поправку. Не другие, не его врачи, а я, коротавший с ним ночи».
От кровати донесся легкий храп. Значит, пациент действительно спит как убитый.
Кесслер встал и пошел к раскладушке.
Он устал. Казалось, еще чуть-чуть, и он рухнет как подкошенный. Кесслер лег, дожидаясь шелеста крыльев, предшествующего сну, и, услышав его, погрузился в небытие.
20
Утром, узнав, что Пилигрим говорил во сне, Юнг попросил Кесслера найти еще одну раскладушку и поставить ее в ногах у Пилигрима.
– Сегодня я останусь С ним на ночь. Будем надеяться, он снова заговорит.
Когда они вышли в гостиную, где Пилигрим не мог их услышать, Юнг спросил:.
– Вы уверены, что назвал меня?
– Не по фамилии, – ответил Кесслер. – Нет. Он сказал: «Доктор!» Вернее: «Есть тут кто-нибудь? Доктор!» Но без имен.







