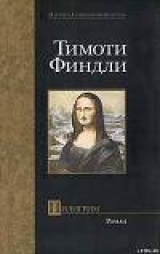
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Все они одеты в лохмотья. От тел остались лишь кожа да кости, как и у женщины, напротив которой они стоят. Одни выходят вперед, другие отворачиваются и безучастно бредут к кострам.
Метрах в десяти от съежившейся фигуры, которая смотрит на них, открыв рот, стоят уже около двухсот человек.
Кто-то поднимает дубину, толстую и страшную, сучковатую из-за веток, отпиленных ножом.
Снова раздастся крик. А потом вопль – отчаянный вопль человека, который знает, что сейчас умрет.
Толпа, до сих пор приближавшаяся к коленопреклоненной женщине с размеренностью войска, внезапно ломает ряды. Секунду назад они действовали сообща, как единое целое – а теперь превратились в орущую орду, в которой каждый сам по себе. Они мчатся вперед, будто соревнуясь, кто нанесет первый удар. Гонки – и ждущий победителя приз.
Вопли женщины неотличимы от криков ее убийц. Единый человечий вой взлетает к небу – и смолкает. Все кончено в считанные минуты.
Люди отворачиваются, потупив взоры. У одних руки безвольно повисли вдоль тела, другие сжимают их, словно от боли. Они молча разбредаются к кострам, где те, кто не принимал участия в убийстве, ждут их возвращения.
Посреди площади остаются лишь ошметки одеяния женщины: оторванные рукава, нижнее белье, смятые юбки, корсаж – все перемешано в кучу, перепачкано кровью. Пустые тряпки. Самой жертвы не видно.
От костров, у которых снова съежились человеческие фигуры, отползают собаки: уши прильнули к голове, хвосты зажаты между задних лап. Они приближаются к тряпью, обнюхивают его и поворачивают назад.
Все, кроме одной. Она ложится на землю, кладет голову на лапы и безмолвно скорбит».
Юнг оторвался от чтения.
На его глазах убили незнакомку – незнакомку из другого времени, такого далекого, что он недоумевал, как мог Пилигрим столь живо описать это в своем дневнике.
Дневник. Ежедневные записи… То, что Юнг прочел, было написало в настоящем времени, как будто…
Как будто Пилигрим сам там был. Но разве такое возможно?
Совершенно невозможно.
Почерк был такой неразборчивый, а глаза у Юнга так устали, что, казалось, голова вот-вот разорвется на части.
Что же он такое прочел?
Юнг полистал страницы дневника, размышляя о том, сколько еще удастся прочитать сегодня. Разве можно описать события прошлого так, словно они увидены глазами очевидца? Костры, женская одежда, пение хора мальчиков, собаки, дети… Результат мастерского исследования? Или обычный вымысел, часть будущего романа?
Юнг потер глаза, собираясь закурить сигару, и вдруг услышал, как отворяется дверь.
– Карл Густав! Уже три часа. Ложись спать.
В дверном проеме стояла Эмма. Лицо ее плыло во тьме, из которой она возникла. Голос прозвучал так неожиданно – почти замогильно, – что Юнг поспешно захлопнул дневник Пилигрима, точно жена застукала его за разглядыванием эротических японских картинок. За спиной у Юнга, за стеклянной дверцей шкафа, было заперто несколько экземпляров, которые он хранил исключительно из профессиональных соображений, Эмма – чтобы отличить нормальные позы от безумных и опасных сексуальных фантазий самых озабоченных пациентов. И я…
– Что ты читаешь?
– Ничего.
– Нельзя сидеть и читать ничего в три часа утра.
– Это просто…
– Да?
– Всего лишь…
– Что – всего лишь? – прервала его Эмма. Она пришла, чтобы уложить мужа в постель, и ей не хотелось выслушивать туманные объяснения.
Юнг погладил кожаный переплет и налил себе еще немного бренди.
– Ты что-то хотела? – спросил он, махнув жене бутылкой.
– Конечно, нет.
– Конечно, нет. Замечательно. В таком случае…
– Что?
– Не надо вмешиваться в мою работу, Эмми.
– Я никогда в нее не вмешивалась – и не собираюсь. Побойся Бога, Карл Густав! Я делаю для тебя половину исследований, я проверяю твои рукописи и правлю твои бесчисленные ошибки. И ты называешь это „вмешиваться“?
– Я делаю не так уж много ошибок.
– Ты пишешь абсолютно безграмотно! Ты представления не имеешь о пунктуации, а почерк у тебя такой отвратительный, что, кроме меня, ни единая душа на свете не смогла бы его расшифровать. Даже ты сам. Ты хоть помнишь, сколько раз приходил ко мне и спрашивал: «Скажи, пожалуйста, что я тут написал?» Если это называется «вмешиваться», Я тут же все брошу и начну учиться готовить!
– Не сердись! Я просто хотел…
– Ты просто не хочешь сказать мне, что у тебя на уме.
– Я преступил рамки закона.
Эмма вошла в кабинет и села в кресло для пациентов, напротив мужа.
– Преступил рамки закона? – переспросила она, разглаживая на коленях халат. – Каким образом? Как?
– Иногда это необходимо.
– Нарушать закон? Почему?
– Выпей немного бренди. Держи.
Юнг протянул ей бокал.
– Я беременна, Карл Густав. Мне нельзя пить, да я и не хочу.
Он налил себе еще. Эмма молча смотрела на него.
– Я жду. Ты совершил правонарушение? Тебя арестуют и посадят в тюрьму?
– Надеюсь, что нет.
– Что же ты сделал?
– Я преступил моральный закон, этический… И если об этом узнают, моя карьера будет в опасности. Не исключено, что меня подвергнут дисциплинарному наказанию, а то и вовсе дисквалифицируют.
– Перестань ходить вокруг да около, Карл Густав! Скажи мне, что ты натворил!
– Эта книга… – Юнг постучал по ней указательным пальцем, – дневник одного из пациентов.
– Ну и что?
– А то, что я читаю его без разрешения.
– Он в состоянии дать тебе разрешение?
– Нет.
– Так в чем же проблема?
Юнг просиял.
– Эмма! – воскликнул он. – Я тебя обожаю! Ты сказала именно то, что я надеялся услышать.
– Понятно. Значит, когда тебя арестуют, я буду виновата.
Эмма рассмеялась, встала и запахнула халат.
– Я пошла спать. Можешь сидеть тут сколько хочешь, только не брани меня, если утром будешь похож на сонную курицу. У тебя в девять назначена встреча.
– С кем?
– Понятия не имею. Я не твой секретарь, я всего лишь твоя жена. Спроси фройляйн Унгер. Я знаю только, что ты с кем-то встречаешься в девять.
– Постараюсь не засиживаться.
– Решай сам. Спокойной ночи.
Эмма пошла к двери и обернулась.
– Карл Густав! – сказала она. – Жена знает о муже то, чего не знает никто другой, даже он сам. Будь я женой Йозефа Фуртвенглера, я бы забеспокоилась, если бы застала его за чтением чьих-то личных записей. Но я, слава Богу, не Хейди Фуртвенглер. Я Эмма Юнг, и когда я снова залезу под одеяло, то усну, как младенец. – Она присела перед ним в шутливом реверансе. – Доброй ночи, мой дорогой. Когда-нибудь, надеюсь, ты все мне расскажешь.
– Обязательно, – пообещал Юнг. – Причем скоро, потому что тебе придется провести кое-какое исследование. Приятных снов.
Эмма ушла от него во тьму. Юнг сидел, слушая, как она поднимается по лестнице, а потом ненадолго закрыл глаза.
«Я счастливчик», – подумал он и вновь открыл дневник Пилигрима.
Листая страницы, чтобы найти место, где остановился, Юнг наткнулся взглядом на фразу, которая заставила его похолодеть. «Даже сейчас, когда я записываю свои воспоминания, эта сцена настолько живо стоит у меня перед глазами, что я сжимаю перо так, будто хочу сломать его пополам».
Воспоминания… Настолько живо стоит перед глазами…
Любопытно.
Похоже, Пилигрим писал о том, что действительно помнил.
Это не вымысел, навеянный Чтением исторических книг. Такое ощущение, что он описывал собственные переживания.
Но этого не может быть! Просто не может. Или…
Юнг взял блокнот, отодвинув дневник Пилигрима, нашел ручку и написал: «Жизнь души не требует ни пространства, ни времени. Она протекает внутри своих собственных рамок – рамок безграничности. Никакой замкнутости. Никаких требований рассудка».
«Продолжай! – велел он себе. – Читай дальше».
Вопрос о том, чей это голос, решится сам собой, если он даст ему возможность говорить свободно. Принадлежит ли он Пилигриму или кому-то еще, Юнга уже почти не волновало. Главное, что голос нес в себё явный отпечаток цельности.
Юнг выпрямил спину.
Четыре утра. Вернее, пятнадцать минут пятого.
Ему хотелось сделать паузу, поразмыслить, придумать новые вопросы, но Пилигрим оставался загадкой, которую он не сможет разгадать, если не почитает еще.
Дневник был открыт. Юнг продолжил чтение.
4
«Поднимается ветер. Ветер, колышущий флаги, которые вывешены в окнах и на балконах площади Святой Марии. Алые флаги в честь папского нунция, чья миссия заткнуть Савонароле рот благополучно провалилась. Флаги, ободранные руками умирающих от холода горожан. Лохмотья, машущие нунцию вслед, словно сносимые ветром с палубы тонущего корабля матросы: «Прощай! Уезжай обратно в Рим».
Звонят все колокола всех церквей – шквалы колокольного звона. Кажется, их раскачивает сам ветер. На площади у костров сгорбились фигуры, натягивая на себя тряпье по самые уши. Понедельник, понедельник. Завтра, возвещают им колокола, последний день масленицы, день святого Матфея; обычно мы все вместе ликовали, танцевали и пели, сытые и пьяные. Теперь это «завтра» запрещено эдиктом Савонаролы».
Юнг, увидев это имя, инстинктивно закрыл глаза. Савонарола был святым и чудовищем. С точки зрения Юнга, больше чудовищем, чем святым. Фанатик, бесспорно. А фанатики всегда требуют жертв.
Юнг записал в блокноте: «Исследование для Эммы: Савонарола».
«Подхваченные порывами ветра, огненные языки взметаются ввысь на фоне стен, малюя на них рваные тени. Хор в церкви словно с испугу начинает петь громче:
… Chorus Angelorum te suscipit,
et cum Lazaro, quondam paupere
aeternam habeus requiem.
Да примет тебя хор ангелов,
И вместе с Лазарем, ранее несчастным,
Да обретешь ты вечный покой.
Неожиданно площадь по диагонали пересекает кавалькада всадников на серых скакунах. Слышен цокот копыт. Сами наездники кажутся силуэтами с разметавшимися по ветру волосами и руками, похожими на плети.
А потом появляется…»
* * *
Юнг попытался перевернуть страницу, но не смог. Он послюнил палец и наконец разлепил склеившуюся бумагу.
«А потом появляется человек. Похоже, с непокрытой головой. В рясе, туго перевязанной на поясе. Высокий. Крепкий. Хорошо сложенный, в добротной одежде. Путешественник, должно быть. Пилигрим. Хотя – кто знает?
Он вышел на площадь с северо-восточной стороны, то есть с виа Марони. Его тень падает на истрепанные флаги, однако по мере того как он идет вперед, тень опережает его и словно ложится ему под ноги дорожкой, по которой он шествует, точно привыкший к церемониям принц, рассеянно глядя вокруг.
От костров к нему подходят собаки. Они смотрят на незнакомца с любопытством, но без страха. Правда, и не без некоторой опаски – чуя свою судьбу и направляясь к ней мерной поступью. Пилигрим останавливается и поворачивается, глядя на приближающихся собак
Их штук десять, а то и двенадцать. Они останавливаются ненадолго, но не уходят.
Один пес начинает медленно махать хвостом.
Очевидно, пилигрим что-то говорит ему, поскольку пес подходит ближе и приветствует его, изогнувшись и вытянув шею, глядя на освещенное кострами лицо.
Человек нагибается, потом садится на корточки. Протягивает вперед обе ладони. Достает из-под рясы дорожный мешок.
Собаки льнут к нему все ближе, дрожа от возбуждения и даже залезая лапами друг на друга.
Что он дает им? Определенно еду, поскольку псы яростно набрасываются на нее, скуля и выпрашивая еще, пока не опустошают весь мешок.
Горожане, сидя у костров, оборачиваются и молча смотрят. Они наверняка ненавидят этого человека и кипят от злости – давать еду псам! Но никто не говорит ни слова.
Похоже, они знают пилигрима. Собаки, во всяком случае, знают его точно.
Он поворачивается и идет к центру площади, где в полном одиночестве лежит скорбящий пес. Он так и не встал и даже не шевельнулся во время кормежки.
Собака поднимает голову, но остается лежать, растянувшись на животе. Они смотрят друг на друга. Пилигрим встает на колени.
Что тут стряслось? Что-то явно случилось. Что?
Пес не шевелится. Человек протягивает руку. Собака опускает голову, не двигаясь с места.
Пилигрим подходит к ближайшей группе попрошаек и открывает кошелек. От группы отделяется мальчик и, взяв головню, следует за пришельцем, который возвращается к собаке.
Благодаря свету от факела теперь можно рассмотреть лицо пилигрима.
На макушке у него маленькая шапочка. В длинных волосах темно-рыжего цвета, характерного для уроженцев Тосканы, поблескивают седые пряди. Борода, подстриженная по моде, введенной королями Франции и Испании, аккуратно очерчивает челюсти, щеки и рот. Большие, широко расставленные глаза, а нос… Будь он статуей или картиной, можно было бы сказать, что нос у него в стиле Лоренцо Великолепного. Пилигрим и вправду похож на Медичи, вернувшегося, чтобы заявить права на свой город. Каждое его движение, каждый жест исполнены королевского величия, словно он рожден, чтобы повелевать.
Под пристальным взглядом мальчика пилигрим снимает сутану и расстилает ее на земле рядом с собакой.
Садится, достает из кармана длинной вязаной куртки альбом. И карандаш.
Мальчик подходит поближе. Факел пылает, отбрасывая свет на страницу, лежащую на коленях у странника.
Пилигрим начинает рисовать».
«Я видел этот рисунок, – прочел Юнг. – К своему горю и изумлению, я видел его. На нем изображены голова, шея и передние лапы несчастной собаки. А еще там нарисована зверски изуродованная рука с куском хлеба.
Надпись под рисунком сделана, очевидно, позже, его знаменитым зеркальным почерком. Вот она:
Рука флорентийской женщины – написана при свете факела в ночь на шестое февраля 1497 года. Пес остался с ней. Умер к утру. Рукав у женщины из темно-синей хлопчатобумажной ткани. Одна пуговица деревянная.
Это была моя первая встреча с Леонардо».
5
Прошло десять минут, а Юнг все также тупо смотрел на страницу.
Леонардо.
Ну конечно! О ком еще мог писать Пилигрим во Флоренции, в пятнадцатом веке?
В его книге о да Винчи наверняка есть репродукция этого рисунка – первого оригинального творения Леонардо, увиденного Пилигримом, судя по его заключительным фразам. Возможно, именно тогда он впервые увидел знаменитую зеркальную систему письма художника.
Юнг выключил лампу. Заря разгорелась и угасла. Взошло солнце.
Он замерз, читать больше не хотелось. Юному Анджело придется подождать. «На сегодня мне вполне хватит встречи с Леонардо», – подумал Карл Густав.
Юнг поднял воротник халата и обхватил себя руками, скорбя о женщине, которая умерла четыреста пятнадцать лет назад.
Одна пуговица деревянная.
Он глянул на открытую страницу, словно ждавшую, чтобы ее перевернули.
Нет. Не сейчас. Только не сегодня.
Взяв стакан с виски, Юнг встал и подошел к окну. Неужели Эмму не разбудила вся эта суматоха?
Странная мысль… Почему-то он вообразил, что она видела то, о чем он читал. Слышала завывание ветра, цокот копыт, лай собак, смотрела на пляшущие тени…
И вместе с тем ему казалось, что описанная сцена разворачивается у него перед глазами, точно он сам выглянул в окно и увидел фигуру шагающего к свету пилигрима. Леонардо.
Юнг услышал, как за открытой дверью по коридору прошла служанка.
Святые угодники! Как ее зовут? Как же ее зовут? Она была новенькая. Фрау Эмменталь наняла ее всего неделю назад. Как он мог забыть ее имя? Она так вежливо представлялась ему по восемь раз на дню! Улыбаясь, кланяясь, повторяя нежным голоском: «Меня зовут… Меня зовут… Меня зовут…»
– Кто ты, черт побери?
Она несла поднос с хлебом и горячим шоколадом для Эммы – и остановилась у двери как вкопанная, ничего не понимая. Доктор говорил, но явно не с ней.
Девушка всмотрелась в сумеречный коридор, пытаясь понять, к кому он обращается.
– Я, сэр?
– Да, ты.
– Я Лотта, герр доктор. Шарлотта, ваша новая служанка. Фрау Эмменталь…
– Ах да… – А дальше что? Он чувствовал себя дурак-дураком. – Я видел тебя раньше?
Еще глупее.
– Да, герр доктор. Я уже целую неделю работаю у вас.
– А шоколад на кухне еще есть?
– Да, сэр.
Лотта, покачивая медвяной косой, прошла мимо него, поставила поднос на библиотечный стол среди кучи книг и тихонечко испарилась.
Часы пробили семь.
Какой теперь сон? Хлеб, шоколад – не спеша и с удовольствием побриться – я постригу усы! – понежиться в ванне, а потом прямиком к Пилигриму.
Наливая в чашку шоколад, Юнг улыбнулся. Какой образ! Прямиком к Пилигриму, даже не одевшись! Надо же – опять пошел снег…
Отхлебнув из чашки, Юнг закрыл глаза и представил, как он, обнаженный и окутанный паром, вылезает из ванны и идет под снегопадом.
Я возьму с собой блокнот, это уж непременно. И ручку. И еще, возможно, посох.
Посох. Точно!
Идеальный образ голого пилигрима.
6
В музыкальной комнате, названной так потому, что она была оборудована для пациентов, проходивших курс лечения музыкой, было двадцать одно окно. Семь, семь и еще семь. Узкие и длинные. В девять часов утра Юнг читал дневник Пилигрима. Он стоял в музыкальной комнате спиной к двери, которая вела в коридор. Снег за окнами падал так, будто тучи разбрасывали пенсы – громадные белые пенсы тех времен, когда они были размером с наручные часы. Юнг смутно помнил их.
Двое часов тикали вразнобой.
В углу стояло большое пианино, с открытой, словно в ожидании, крышкой. Виолончель в кожухе притулил ась к стене забытая и заброшенная. Три невидимые скрипки отдыхали в футлярах на трех' золоченых креслах.
Неужели никто не придет?
У стены сгрудились пюпитры, обмениваясь сплетнями: «Вы слышали?.. А вы знаете?..» Две флейты, гобой и кларнет, тоже в футлярах, стояли на полке – а на другой, под ними, аккуратной кучкой лежали партитуры Баха и Моцарта. «Концерт для пианино ля-минор» Шумана стоял, повернутый к стене. В углу помещают торчало ухо великана, которое оказалось арфой.
Юнг попросил фройляйн Унгер зарезервировать музыкальную комнату. Позвонив суперинтенданту, секретарша Юнга отправилась в палату 306 и передала Кесслеру, чтобы мистера Пилигрима привели вниз в девять часов.
Сейчас двадцать минут десятого. Может Кесслер что-то недопонял? Или фройляйн Унгер дала ему неверные указания? Юнг рассматривал картинки и страницы, разложенные на столе длиной в милю. Если он сядет за стол, самое ярко освещенное окно окажется у него за спиной.
Стол длиною в милю. Или полмили. В общем, очень длинный. Измерять его настоящую длину не имело смысла. Весь фокус в том, чтобы произвести на пациента впечатление – поразить его гигантскими размерами реальности.
Что касается света, Юнг вовсе не намеревался приводить Пилигрима в замешательство и заставлять его гадать, кто именно сидит перед ним. Но когда Юнг заговорит, голос его должен быть бестелесным. Он хотел непосредственно встретиться с Пилигримом опосредованным способом, то есть провести вербально-образный ассоциативный тест. Юнг обожал парадоксальные фразы, такие как непосредственный контакт опосредованным способом. Звучит, возможно, бессмысленно, но на самом деле это совершенно точное описание теста. Вот они, перед вами: слово – объект образ. Что вы можете из них сотворить?
Фуртвенглер подтрунивал над техникой, которую изобрел Юнг – вернее, изобретал методом проб и ошибок. Юнг говорил отдельные слова, короткие фразы, междометия – бум! бум! бум! – а пациент должен быть отвечать первое, что приходит в голову. Иногда Юнг ничего не говорил, а лишь показывал картинки – рисунки, фотографии, репродукции – и ждал реакции. Молчание больного, как успел усвоить Юнг, могло быть столь же красноречивым, как и его слова.
Нервничая, сам не зная почему, Юнг подошел к пианино и сел.
Что?
Что-нибудь простое. Мамину колыбельную, например… Если только он вспомнит. Пальцы бродили по клавишам, но мелодия ускользала. Быть может, на самом деле Юнгу не хотелось ее вспоминать. Он начал просто брать аккорды.
И вдруг услышал голос Кесслера:
– Там никого нет. Мы опоздали. Наверное, он ушел.
Юнг встал.
– Доброе утро, – сказал он по-английски.
Кесслер щелкнул каблуками и кивнул. Пилигрим молча сидел в кресле-каталке.
Юнг, улыбаясь, вышел вперед.
– Вы наверняка слышали музыку. Быть может, на пианино играли призраки? Вы верите в привидения, мистер Пилигрим?
Пилигрим отвел взгляд.
Юнг щелкнул Кесслеру пальцами.
Санитар кивнул и удалился, закрыв за собой дверь.
Юнг сел за стол длиною в милю.
– Не хотите подъехать поближе?
Пилигрим не шевельнулся.
– У меня есть тут кое-что интересное.
Пилигрим молча закрыл глаза. Очевидно, он слушал музыку.
– Я смотрю на руку, – сказал Юнг. – Не мою. Другого человека.
Никакой реакции.
– Женскую руку.
Тикали часы.
Солнечный луч подполз по полу к Пилигриму и ткнулся, словно зверушка, носом в кожаные шлепанцы, потом в брюки, колени.
– Я думаю, вы видели эту руку, – невозмутимо продолжал Юнг. – Женскую руку с согнутыми пальцами…
Он подождал. Потом добавил:
– … держащую…
В окна забился ветер.
«Кто-то хочет войти», – подумал Пилигрим.
Юнг помахал листком бумаги, пытаясь привлечь внимание пациента.
– Это всего лишь рисунок. Не настоящая рука.
Он по-прежнему говорил небрежным тоном, как бы подразумевая, что все это не важно. Я просто хотел вас развлечь.
Глаза у Пилигрима расширились, как у сонного кота, который якобы спит, однако подглядывает сквозь щелочки.
Юнг помахал листком взад-вперед.
– Вы боитесь бумаги, мистер Пилигрим? Страниц? Альбомов? Рисунков? – Юнг взял другие бумаги и потряс их так, как будто стряхивал пыль с одежды. – Вам страшно? да? А если да, то почему?
Он положил все листки, кроме одного.
Пилигрим опустил голову и уставился на свои руки, лежащие на коленях..
– На этом рисунке, мистер Пилигрим, – продолжал Юнг, – художник не случайно выбрал для изображения именно руку. Как по-вашему, почему он это сделал? В чем причина?
Эта рука прекрасна.
– Вы не забыли, что я сказал? Пальцы руки немного согнуты и держат…
Согнуты. Держат.
Пилигрим открыл рот, шевеля губами, как будто пытался что-то сказать. Но не издал ни звука.
Юнг встал и подошел к креслу-каталке поближе. Пилигрим увидел туфли доктора, края брюк и белый расстегнутый халат. К халату был прижат лист бумаги. Пустой. Просто пустой лист.
Там ничего нет.
Он врет.
Никакой руки. Ничего.
Ничто держит ничто.
Юнг начал переворачивать лист.
Жест был таким медленным, что Пилигрим не сразу понял. По комнате промчался легкий ветерок – сквозняк, – и бумага заколыхалась, ослепляя его.
Пилигрим закрыл лицо рукой.
– Мистер Пилигрим!
Юнг шагнул еще ближе и опустил поднятую руку Пилигрима. Их движения напоминали хореографическую миниатюру, а сам доктор и его пациент – танцоров, исполняющих разные па.
Юнг вложил лист бумаги в руку Пилигрима.
– Посмотрите на него, – мягко проговорил он. – Не бойтесь. Просто взгляните.
Пилигрим медленно склонил голову. Поднял лист бумаги, сфокусировал на нем взгляд.
Сначала он смотрел на рисунок совершенно бесстрастно. Потом нагнул голову еще ниже и зарыдал.
Юнг подождал немного и спросил:
– Вот видите? Вам нечего бояться, мистер Пилигрим. Все хорошо.
Он забрал листок, обошел вокруг стола и сел, не выпуская картинку.
Репродукция из альбомов Леонардо называлась «Изучение женских рук. 1499».
Одна рука, с чуть согнутыми пальцами, держала другую.
7
«Сон. Все тот же дым. Те же костры. Огонь, похоже, горит повсюду. Сейчас он горит в комнате.
Страцци съежился у камина, грея руки. Герардини стоял у окна, глядя на продуваемую всеми ветрами площадь. Пилигрим ушел, мальчик с факелом тоже. Пес остался лежать, прижав уши к голове, положив длинную серую челюсть на лапы. Ветер теребил шерсть у него на загривке и хвосте.
Герардини закрыл глаза, но видения не исчезли. Под веками плясали тени – быть может, машущие руки? Кто-то машет рукой… Зачем? На прощание?
Герардини поднял правую руку. Пальцы тронули оконное стекло. Холодное.
Помаши в ответ!
– Все нормально, – повернувшись, сказал Страцци. Попрощайся.
Прощай.
Голова собаки откинулась набок. Она умерла».
Весь нескончаемый и трудный рабочий день Юнг с нетерпением ждал этого момента – момента, когда он сможет дальше читать дневник Пилигрима.
Но что же он читает? То, что казалось реальностью в предыдущем отрывке, было теперь названо сном.
Сон.
В этом сновидении, как выяснилось, два человека наблюдали сцену убийства на площади. Один из них юноша, о котором Пилигрим говорил во сне. Юношу кто-то рисовал, а звали его, по словам леди Куотермэн, Анджело Герардини.
Неужели это был только сон? Вообще все? Или же Пилигрим, если он и вправду медиум, порой говорит чужими голосами в состоянии, которое он называет сном? Называет – имея в виду нечто другое. Озарения, обрывки реальности. Душевное расстройство. Чужие голоса, вторгающиеся в его реальность. Если человек, спрятавшись в укромном уголке, подслушивает разговоры внедрившихся в сознание людей, значит, у него явные симптомы шизофрении. Его мозг словно дом, где хозяйничают мародеры, в то время как беспомощный хозяин смотрит со стороны.
А потом все увиденное и услышанное внезапно всплывает в памяти.
Итак – сон.
«Дым от горящего дерева… Более едкий, чем от масляной лампы. Более пряный, чем дым от благовоний, курящихся в разинутой дверной пасти церкви Святой Марии. Более резкий, чем запах угля, тлеющего в жаровне. Запах горящего дерева. Смолы. Воска. Герардини невольно вспомнил леса на Флорентийских холмах над городом. Горит, все горит… Все перед глазами пылает огнем.
Открылась дверь. Его обдало сквозняком, напоенным благоуханием. Кто-то вошел.
– Добро пожаловать! – сказал Страцци. – Мы вас не ждали.
Герардини открыл глаза. В стекле он видел отражение факелов из галереи – ослепительные оранжево-золотистые языки. Чей-то силуэт – нет, не силуэт, а тень медленно гасила эти огни, продвигаясь вперед, пока не закрыла дверной проем.
Он хотел повернуться, но не мог. Не надо! Кто-то пришел их убить?
Не надо!
Герардини потянулся за кинжалом, спрятанным за поясом камзола.
– Я развел огонь, – как будто издалека донесся голос Страцци.
Тень вернулась к двери и закрыла ее.
– Я пришел, – сказал некто.
Тень сняла плащ. Воздух взвихрился, лизнув плечи Герардини.
Налили вино. Кто-то выпил. Бокал вернулся на место и был наполнен вновь.
– Давно я вас не видел.
Голос был густым и пряным от только что выпитого вина.
Посмотри на него! Ты должен!
Герардини повернулся. Свет костров, струившийся с площади в окно, сорвал с комнаты пелену, и чудовищная ясность – почему чудовищная? – придала всему, что скрывалось в тени, внезапный цвет и объем.
Перед ним стоял человек в бордовом камзоле со стоячим воротником, вышитым и расстегнутым, открывавшим рубашку со множеством складок. Все застежки на одежде сияли серебром.
Это был пилигрим. Леонардо.
Шагнув вперед, он положил свой альбом на подоконник – в раскрытом виде, с рисунком руки умершей женщины и умирающей собаки. Альбом лежал так, что Герардини ясно видел эти образы, очерченные быстрыми, четкими линиями искусного рисовальщика. Герардини закрыл глаза. Одного взгляда было достаточно, чтобы картина врезалась в память навсегда.
Леонардо подошел поближе и склонился, улыбаясь и заглядывая Герардини в глаза. Свободная рука, без бокала – огромная, как показалось юноше, – погладила щеки Герардини, сперва одну, потом другую.
Страцци стоял в стороне, глядя, как мог бы смотреть на орла, склонившегося над добычей, – со страхом и в то же время с восторгом, вызванным точностью движений хищника. Леонардо, не отпуская ладони от правой щеки Герардини и поглаживая влажные кудри юноши, слегка нагнул его голову в бок и смачно поцеловал в губы.
– Я уж думал, что никогда больше тебя не увижу. Сколько мы не виделись? Год? Полтора?
Герардини не мог ответить.
Волосы и борода Леонардо были надушены. Корень ириса, розмарин, что-то еще… Он положил два пальца на губы Герардини. Его тело прижалось крепче, еще крепче – правое бедро высунулось из-под камзола, коснувшись паха юноши и раздвигая ему ноги, как стадо пасущихся животных раздвигает на лугу траву.
Герардини вздрогнул и попытался увернуться, но оконный переплет не давал ему пошевелиться.
Леонардо раздвинул губы юноши и сунул ему в рот свои пальцы, отдающие привкусом надушенных перчаток.
– Помнишь, как мы играли в дочки-матери и как ты сосал мои пальцы, а я гладил тебя по голове?
Он запахнул камзол и подошел к большому комоду, где были свалены его книги и эскизы.
Страцци глянул на Герардини, пожал плечами и отвернулся.
Леонардо рылся в ящиках, выдвигая их один за другим и все больше раздражаясь.
Два свежих сосновых полешка в камине вспыхнули так, как это бывает во сне, когда события происходят сами по себе, вне времени и пространства. Если поленья подбросил Страцци, то когда?
С площади снова донесся стуккопыт. По случаю масленицы стражу усилили отрядом всадников с палаццо Веккио. На кавалеристах были невзрачные мундиры. Савонарола! Никакого золота и пурпура, которые так любил Медичи, – только блеклые мундиры цвета хаки да серые монашеские рясы. На стальных саблях плясали смутные отблески луны.
Она тоже появилась из ниоткуда. Очевидно, ее пригнал ветер, развеяв серые каменные замки облаков, и…
– Вот! Нашел.
Леонардо смел со стола все безделушки, подвинул лампы и положил длинный альбом в кожаном переплете. Листая тяжелые страницы, он бормотал:
– Ты узнаешь их и вспомнишь… Вот они! Здесь я учил тебя искусству обольщения… палец за пальцем, волосок за волоском… Да? Ты их вспомнишь!
Страцци смущенно поежился у камина.
Герардини подошел поближе, глядя, как руки Леонардо порхают над страницами. Сколько мальчиков и юношей погребены под его мелками и карандашами, чернилами и красками! И Страцци среди них. Десятки и десятки тел между обложками. Каждая линия отмечена присущей Леонардо страстной жаждой совершенства, страстным желанием уловить все детали. Пиши с натуры. Пиши саму вещь. Забудь учителей. Единственный учитель – реальность.
Герардини уставился на собственный профиль с опущенными глазами. Его спина, от плеч до ягодиц. Обнаженная. Его ступни. Руки. Рот. Пальцы.
И в сидячей позе: одна нога вытянута, рука покоится на груди, гениталии на виду, глаза полузакрыты. Голова слегка склонилась набок, волосы разметались по плечам, губы дышат, как живые, точно он вот-вот уснет.
Леонардо глубоко вздохнул. Перевернул страницу и помахал над ней рукой, словно отгоняя пелену или тень. Герардини заметил, что на глаза его навернулись слезы.
Юноша посмотрел на страницу, протянул руку и провел пальцами по контурам изображенной там фигуры, как будто эти контуры могли сохранить тепло.
Воздух всколыхнулся. Затрепетали свечи. Дверь открылась и закрылась. Страцци вышел из комнаты. Герардини был наедине с портретом брата – и рука, создавшая этот образ, лежала у него на плече».
Юнг закрыл глаза.
«Портретом брата…»
Ясно. Значит, на рисунке не сам Анджело, а его брат. Эта история – или фантазия, или сновидение, чем бы она ни была – сделала неожиданный поворот.
И я пойду туда, куда она меня поведет.
Но как быть с мозгом, породившим эти сцены? Как проникнуть в сознание Пилигрима? И как помочь ему справиться с фантазиями, ставшими реальнее самой действительности? Реальнее мира, существующего здесь и сейчас. Мира, от которого Пилигрим бежал в безмолвие и хотел бежать в небытие.







