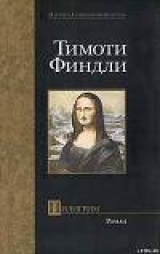
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Ни один мужчина, кроме Пилигрима.
Она была самим воздухом, которым он дышал.
«Нет, не делай этого! – взмолилась про себя Эмма. – Не надо!»
И тем не менее Пилигрим отчаянно хотел умереть. Сможет ли уничтожение картины – именно этой картины – освободить его? Он совершенно не сомневался, что сам был Джокондой. Быть может, он, подобно Дориану Грею, решил, что стоит ему вонзить в сердце портрета нож, как долгожданная смерть наконец придет к нему? А что, если Уайльд тоже знал? Может, Пилигрим посвятил его в свою проблему, и Оскар Уайльд положил ее в основу романа? В конце концов, они были друзьями и делились личными переживаниями. Пилигрим оплакивал Уайльда как близкого человека, которому доверял. Может, он был Дорианом Лизой – или же Моной Греем?
Эмма закурила последнюю сигарету. Дымок поднимался вверх. Срезанные розы, согревшись в комнате, немного поникли и раскрыли лепестки. Аромат в воздухе витал опьяняющий, насыщенный и волшебный, но Эмма смотрела на цветы в смущении. «Мы режем и убиваем всех подряд, – думала она. – Мы режем и убиваем всех, кто стоит у нас на дороге. Так, как Карл Густав зарезал и убил меня. Так, как я зарезала и убила своего ребенка. И как мистер Пилигрим зарежет и убьет «Джоконду». Потому что она стоит между ним и вечностью».
Юнг в клинике – ничего еще не зная о краже – поднялся на третий этаж и вошел в палату З06.
Там до сих пор стояла пустая клетка с распахнутыми дверцами – символ побега Пилигрима, такой явный и нахальный, что Юнг неволыю улыбнулся.
Он окинул комнаты взглядом. Некоторые ящики выдвинуты, двери шкафа открыты, окна стоят нараспашку – а около них собрались голуби, ожидая кормежки.
Юнг порылся в комоде, нашел коричневый бумажный пакет с засохшими крошками и покормил птиц.
В другом ящике он обнаружил лежащую вниз лицом фотографию, которую Пилигрим вынул из серебряной рамочки, вставив туда снимок леди Куотермэн.
Юнг перевернул фотографию. На ней была снята по плечи печальная, но прекрасная женщина – та самая, которая, по словам Пилигрима, утверждала, что она его мать.
В конце девятнадцатого века, когда ее снимали, женщине было лет сорок пять. Странно, но она сидела почти в той же позе, что и Элизабетта Герардини на портрете Леонардо да Винчи. Быть может, это вышло случайно, хотя не исключено, что, с точки зрения фотографа, такой ракурс лучше всего позволял запечатлеть лицо. Леонардо всегда требовал от своих моделей, чтобы лицо было повернуто под углом к туловищу.
Вот она, «женщина, которая утверждала, что она – моя мать». Ни улыбки, ни вуали. Сплошная печаль.
Пилигрим, похоже, ненавидел ее и считал самозванкой, поскольку был уверен, что у него вообще нет родителей. Уникальная форма помешательства: не родиться – и тем не менее существовать.
Юнг сунул фотографию в карман. Он решил, что попросит Кесслера упаковать все имущество Пилигрима – одежду, ювелирные безделушки, книги и туалетные принадлежности, чтобы вернуть их беглецу, когда его поймают и водворят на место. А пока он проследит за тем, чтобы в номер никого другого не селили. Эти комнаты казались Юнгу чуть ли не святилищем. Он хотел, чтобы они оставались, пусть даже пустые, в его распоряжении.
Отныне он каждое утро приходил сюда кормить птиц.
6
За два дня до этого, в понедельник, первого июля, Пилигрим с Форстером встали на рассвете, упаковали сумки и положили их в багажник «рено». Выписавшись из отеля «Поль де Вер», они поехали на автостанцию, где их машину подготовили к дальнейшему путешествию. В бак залили бензин, а на заднее сиденье поставили запасную канистру. На этом настоял Пилигрим, хотя Форстер пытался убедить его, что бензина вполне достаточно и везти канистру с собой даже опасно.
– У меня есть на то причины, – отрезал Пилигрим.
В кармане у него был список других необходимых вещей.
«Мягкие хлопчатобумажные перчатки – две пары. Спортивная обувь. Плащи. Папка с двенадцатью листами бумаги для рисования. Мелки и карандаши. Складное кресло с сиденьем из холстины. Кусачки. Нож. Деньги. Корзина для пикника, паштет, хлеб, фрукты, шоколад, вино».
Все это было собрано и уложено в машину.
Форстер припарковал «рено» прямо за углом, на улице Пон-Неф, в двух кварталах от Лувра.
Ровно в десять они явились в музей и предъявили пропуск, подписанный месье Монкрифом. Охранник распахнул двери, обращаясь с посетителями столь почтительно, словно Пилигрим был особой королевской крови.
Громадные залы были пусты. Шаги Пилигрима и Форстера гулким эхом разносились меж молчаливых статуй. Эти статуи да собственные отражения в зеркалах сопровождали их на пути в зал Карре. Затем издалека послышались и другие звуки кто-то начал тихонько насвистывать, хлопнула дверь.
– Черт! – выругался не видимый мужчина и снова стал насвистывать.
Свет, хотя и рассеянный, освещал каждую деталь – резные притолоки над дверями, мраморные фигуры в нишах, красочные гобелены и зеркала в золоченых рамах.
Плавные изгибы лестниц вели из залов во все стороны.
Над одной из них была стрелка с надписью «Мона Лиза». Форстер нес походное кресло, папку и коробку с принадлежностями для рисования, в которой были спрятаны нож и кусачки. Пилигрим держал в руке корзину для пикника; он выглядел так, будто собрался в Тюильри.
Пилигрим показал охраннику, стоявшему у входа в зал Карре, подписанный Монкрифом пропуск. Сердечные приветствия, поклоны – и они продолжили путь.
У противоположного входа стоял на стремянке реставратор в белом халате. Очевидно, он уже успел починить раму и теперь заделывал швы, чтобы скрыть следы своей работы.
Пилигрим с Форстером неторопливо обошли весь зал и в конце концов остановились перед «Моной Лизой».
Пилигрим снял плащи шляпу, бросив их на скамейку; предназначенную для посетителей, однако перчатки снимать не стал. Усевшись в кресло, он открыл папку и положил ее на колени. Форстер потянул ему коробку с мелками и карандашами, а сам встал сзади, разглядывая портрет.
– Попробуй поговорить с этим парнем, – тихонько шепнул ему Пилигрим. – Нужно решить, что с ним делать.
– Да, сэр.
Пилигрим стал набрасывать эскиз Моны Лизы, то есть свой собственный портрет. Наложение нынешнего облика на образ дамы позабавило его. Стекло, покрывавшее картину, отражало лишь контуры его лица – овал, строение черепа и освещенные места. Все остальное было смесью искусства и реальности. Портрет времени.
Как оказалось, реставратора звали Винченцо Перуджа. Родился он на севере Италии, в городке Домена, в районе озера Комо. Вообще-то по профессии он был маляр, но, совершенствуя свои таланты, стал реставратором-самоучкой. Все это Форстер выяснил при первом знакомстве, стоя под стремянкой, пока усатый итальянец работал наверху.
Они также обсудили проблему отращивания усов, и Форстер признался, что это занятие для него в новинку.
Перуджа был невысок, даже ниже Форстера. Смуглое, довольно привлекательное лицо – правда, слишком серьезное. Поджарое, ловкое тело, отличная фигура. До странности маленькие – во всяком случае, так показалось Форстеру – руки. Однако работал он искусно и очень ловко. Форстер завороженно глядел, как маляр смешивает краски, чтобы замазать места, где старый гипс соединялся с новым.
Их разговор сам представлял собой комичную помесь английского с итальянским с вкраплениями французского.
Пока они беседовали, охранник по фамилии Верронье подошел к Пилигриму и встал у него за спиной.
С первого взгляда было видно, что он просто замещает постоянного охранника и работа его совершенно не интересует. «Мона Лиза» ничего не значила для него. Он словно говорил: «Я – сторонний наблюдатель. Мое дело присматривать за картинами, а это всего лишь одна из них».
– Вам нравится? – по-французски спросил Пилигрим.
– Ничего. Хотя грудь могла быть побольше.
Пилигрим улыбнулся. Он помнил ощущение тяжести этих грудей.
– Она была довольно миниатюрной женщиной.
– Она же сидит! Откуда вам знать? Мне, например, не хотелось бы заниматься с ней любовью.
– Да? Интересно почему?
– Не люблю я, когда бабы превосходят меня в чем-то. Женщина должна знать свое место.
– По-вашему, она в чем-то вас превосходит?
– Она глядит на всех свысока, хотя я не назвал бы ее красоткой. По-моему, она слишком холодная. В ней нет человечности.
– Вы, случаем, не студент?
– Нет.
– Вы говорите как студент. Ничего не знаете, однако беретесь судить обо всем.
Это была ошибка.
– Я не дурак! – возмутился Верронье. – Так же, как и вы, судя по вашей мазне, не художник. По-вашемy, человек не имеет права на собственное мнение?
– Имеет, конечно, – сказал Пилигрим. – Извините. Мне просто кажется, что вы ошибаетесъ. По-моему, она очень человечна.
– На вкус и цвет товарищей нет. Если бы у меня была такая женщина, я хотел бы, чтобы она смотрела на меня снизу вверх.
– Понятно.
Наступило неловкое молчание. Пилигрим прекратил рисовать. Верронье кашлянул.
– Я вас оставлю на минутку, – сказал он. – Пойду в туалет выкурить сигарету. А вы пока присмотрите за этим итальянцем в конце зала. Кто знает, а вдруг он вор? Итальянцы вообще нечисты на руку, как и цыгане, и другие темнокожие.
– Хорошо, – отозвался Пилигрим, возобновив работу над рисунком.
Ровно в полдень Форстер вернулся к хозяину и предложил пойти пообедать.
– А как тот человек на стремянке?
– По-моему, нам нечего его бояться.
– Он может нам пригодиться?
– Возможно, хотя я не знаю для чего.
– Давай пригласим его с нами пообедать. – Пилигрим улыбнулся, как нашкодивший мальчишка, и добавил: – В конце концов, доброжелательность рождает ответное чувство.
Они поели на площади Карусель.
Перуджа принес с собой хлеб, сыр и вино, но не отказался от груши, шоколада и вина из корзинки для пикника.
Сияло солнце. Пилигрим неплохо говорил по-итальянски и смог поддержать беседу с маляром. Как выяснилось, Перуджа был холост, тридцати двух лет от роду и приехал в Париж на заработки, поскольку в Италии царила такая нищета и безработица, что он чуть не помер с голоду.
Практически неграмотный, он мог написать свое имя и разобрать по слогам заголовки в итальянских газетах, однако за всю жизнь не прочел ни единой книги. И ему никто никогда не читал. В школу он не ходил, а считать умел только по пальцам. Тем не менее он был искусным ремесленником и много раз работал в Лувре.
Пока они ели и пили, Пилигрим расспросил Перуджу о его пристрастиях. Как и многие другие необразованные люди, итальянец жил скорее чувствами, нежели разумом, причем страсти его были глубокими и сильными. Неумение читать и писать являлось источником постоянного конфликта, раздиравшего маляра изнутри. Он не мог по-настоящему общаться с людьми – и от этого необходимость в общении становилась особенно настоятельной.
Главной страстью Перуджи был его патриотизм. «Италия – мать всех народов». Просто и прямолинейно. «La donna Italia!» – воскликнул он, подняв бокал. Кроме того, поскольку Винченцо частенько работал в Лувре, от его внимания не ускользнуло, что все выдающиеся произведения искусства были созданы итальянцами. Все до единого! Тициан! Тинторетто! Караваджо! Боттичелли! Леонардо!
Он произносил эти имена, будто выпевая их на музыку Верди.
– А главное сокровище Лувра – это Джоконда! Она сама Италия, наша общая мать!
Пилигрим улыбнулся и кивнул, но ничего не ответил.
– Если бы не Наполеон, – продолжал Перуджа, – Джоконда и все прочие шедевры остались бы в Италии, где их создали.
– Наполеон? – переспросил Пилигрим.
– Конечно, – откликнулся Перуджа. – Он пришел в нашу страну и ограбил ее! Забрал все шедевры. Французы поступали так везде. Вторгались в чужую страну, воевали, убивали, жгли и уходили, оставляя позади разруху. Больше всего на свете я хотел бы вернуть итальянские картины из Лувра во Флоренцию, Рим и Венецию – туда, где они родились. И пусть бы хранились там вечно!
– Идея прекрасная, – сказал Пилигрим. – Однако нсосущсствимая.
– Ничего подобного! – возразил Перуджа. – Вполне осуществимая! Я, например, знаю, как открутить «Мону Лизу» от стены.
Пилигрим ничего не сказал.
«Вернуть ее домой, – думал он. – Да. Захотеть возвращения света. Возжелать света вместо тьмы – вот что мне нужно».
Он вспомнил свою буйную выходку в музыкальной комнате клиники Бюргхольцли. Вспомнил, как швырнул на пол пластинки и расколотил скрипку. Вспомнил свою ярость, вызванную тем, что искусство – все искусство! – ни на что не способно. А еще он вспомнил скорчившуюся на полу фигуру графини Блавинской, которая глядела на Кеселера и кричала: «Не надо!»
Захотеть возвращения света. Возжелать света вместо тьмы. Как же заставить их понять? Просто произведение искусства – этого мало. Нужно расшевелить души зрителей, читателей, слушателей. Вытащить человечество из болота жестокости и деградации, куда оно так охотно погружается. Может, спасение как раз в таких простых людях, как Перуджа, который нутром почуял, что вернуть картину на место ее рождения – значит подарить отчаявшимся согражданам лучик света?
– Проблема в том, – сказал Перуджа, – что мне духу не хватает. Я часто бывал с ней наедине, но так и не осмелился снять ее со стены и удрать.
– А если кто-нибудь поможет? – спросил Пилигрим. – Тогда у вас хватит смелости сбежать с ней?
Перуджа помолчал, затем спросил:
– На что вы намекаете, месье?
– Я с вами согласен, – ответил Пилигрим. – Я согласен, что ее место в Италии. Во Флоренции. Мне понравилось то, что вы сказали о рождении картин. Это абсолютно справедливо. Все шедевры рождаются. Их мать – это страна и ее культура, а отец – художник, скульптор, композитор или писатель.
– Я не смог бы так выразиться, – улыбнулся Перуджа, – но я тоже так думаю.
На том и порешили.
В два часа дня охранник Верронье снова пошел в туалет на перекур.
Перуджа отвинтил картину от стены.
Пилигрим вынул ее из рамы и отдал итальянцу холст, сунув его в папку.
Из зала Карре они разошлись поодиночке. Форстер бросил на лестничной клетке раму и стекло. Все трое вышли из Лувра в двадцать минут третьего.
Пилигрим дал Перудже пятьсот франков и пожелал счастливого пути.
Никто из них не оглянулся на прощание. Пилигрим с Форстером пошли к «рено» и положили корзинку, складное кресло и коробку с карандашами на заднее сиденье, рядом с канистрой. Пилигрим, сияя от восторга, кинул на корзинку плащ и сказал:
– В четыре часа мы уедем из Парижа. Но сначала отпразднуем это дело. Поехали в «Сиреневый сад» пить шампанское!
Когда они высхали на Луврскую набережную, Пилигрим проводил взглядом крохотную фигурку Винченцо Перуджи, шагавшего по улице Пон-Неф и, казалось, сгибавшегося под тяжестью папки с драгоценным грузом, зажатой под мышкой.
«Она свободна, – подумал Пилигрим. – Я свободен. Мы свободны».
Свершилось!
Теперь его ждала новая цель. Шартр.
7
Американский писатель и историк Генри Адамс, прочитав в 1910 году монографию Пилигрима о Леонардо «Сфумато – туманная вуаль», послал англичанину свою собственную книгу «Гора Сен-Мишель и Шартрский собор», изданную в 1904 году. После этого они стапи переписываться, хотя так и не встретились лично. (Семь писем Пилигрима хранятся в архиве Адамса в Массачусетском историческом обществе.)
Любовь Адамса к Шартрскому собору заинтересовала Пилигрима, смутно помнившего о своей работе над витражами, однако он ничего не написал об этом американскому знакомому. Пилигрим просто похвалил его книгу, и все. Адамс, в свою очередь, считал, что его связывают с «заокеанским другом», как он называл Пилигрима, особые узы. Его поразило сходство в восприятии той эпохи, которую Адамс называл «последним веком постижения, до вмешательства разума». Прочитав монографию Пилигрима, Адамс убедился в том, что правильно трактует прошлое. Американский историк никогда не расспрашивал Пилигрима, откуда тот так хорошо знает жизнь давно ушедших столетий. Он просто поверил ему как выдающемуся знатоку истории и искусствоведу.
«Голос мистера Пилигрима, – отметил Адамс в своем дневнике, – уникален и переполняет меня восторгом, поскольку, как и я сам, он отбросил пелену учености и рассудка, мешающую исследователю видеть прошлое не таким, как ему бы хотелось, а таким, каким оно было на самом деле».
Пилигрим тоже сделал записи в дневнике, касающиеся трактата Адамса о двенадцатом веке. Записи представляли собой краткий перечень попаданий и промахов. О последних он в своих письмах никогда не упоминал. «В общем, – написал в заключение Пилигрим, – он понял все верно».
Но исследования прошлого больше не привлекали Пилигрима. Он встал на путь «неприятия», как он записал в блокноте, который дал ему Форстер. «Давайте отвернемся от несостоятельных амбиций рода человеческого и посмотрим правде в лицо. Тогда мы увидим, как низко мы пали!»
Успех эскапады с Джокондой так вдохновил Пилигрима, что, направляясь на юго-запад по новой дороге между Парижем и Шартром, он запел:
Прекрасный мечтатель, проснись во мне,
Мы будем со звездами наедине…
(«Прекрасный мечтатель» – песня американского автора Стивена Форстера (1826–1864))
«Дай-то Бог, – робко подумал Форстер, – чтобы шампанское, которое мистер Пилигрим выпил сегодня, помогло ему наконец заснуть».
Возможно. Но только не в машине.
– Посмотри, как тонет солнечный корабль, – говорил Пилигрим Форстеру, который вел машину в своих громадных очках. – Взгляни на птиц, что летают в небе, и на деревья, деревья, деревья…
«У него приступ поэтического вдохновения, – решил Форстер. – Полет фантазии, так сказать».
– Мы направляемся в Шартрский собор, Форстер, – неожиданно сказал Пилигрим. – Самое грандиозное, величественное и священное из всех сооружений христианства. Он ждет нас – и ни о чем не подозревает. Самый большой пожар случился там в 1194 году. Семьсот восемнадцать лет назад. Семьсот восемнадцать лет! Она знает, что мы едем. Ты слышишь? Она знает! Мы были там раньше. Она почует запах моих подошв. Вспомнит прикосновение моих пальцев. Она поймет, что я вернулся. Она меня вспомнит.
Форстер поднял воротник пыльника повыше. Солнце светило прямо в глаза, и он дал себе обещание, что купит очки потемнее. «Что мы будем есть на ужин? – думал он. – И где заночуем?»
– Американец мистер Генри Aдaмc написал о Шартрском соборе, что у того бывают разные настроения. И добавил, что порой он бывает мрачным и даже суровым. – Пилигрим тихонько рассмеялся. – Интересно, какое у нашей дамы настроение сегодня? Наверное, она полна предчувствий.
Перед ними огнем горел закат, дрожа в тумане и испарениях, поднимавшихся с земли. Казалось, небо лизали пламенеющие языки.
Ужасныс пожары, – протянул Пилигрим. – Говорят, всего их было три. Один из них случился на моей памяти
«О Боже! – подумал Форстер. – Опять эти воображаемые жизни…»
Такое уже случалось прежде, в саду на улице Чейни-Уок когда, по выражению миссис Матсон, у хозяина ехала крыша. Он то бил тростью по веткам в полной уверенности, что через забор лезут сарацины, то залезал в тачку, утверждая, что это повозка, в которой его везут на гильотину, то хватал своего пса Агамемнона в охапку и умолял не выдавать его Клитемнестре. Трудные мгновения, что и говорить, но они их пережили. А теперь он собирался разрушить Шартрский собор.
Что ж…
Они украли и отдали «Мону Лизу». Тоже неплохая фантазия. Форстер даже усомнился на миг, что это не сон. Неужели они действительно ее увели?
Да. Это было на самом деле. И сейчас она где-то в Париже – скорее всего спрятана под кроватью.
А они едут в Шартр.
– Мы не станем там задерживаться, – сказал ему Пилигрим. – Зарегистрируемся в гостинице, а в четыре утра уже уедем.
Он решил остановиться в отеле «Du Реlеrin» («Пилигрим», фр.). Пока они туда доехали, настроение у Пилигрима сильно упало. Он даже забыл сказать Форстеру, что они будут жить в гостинице «Пилигрим». Там была малюсенькая столовая, и они поужинали, хотя без особого удовольствия. Рагу было мерзкое, вино еще хуже. В номер удалились в отвратительном расположении духа, одцако лишь Пилигрим позволил себе разрядиться. Он швырнул свои ботинки в стену и закатил обличительную речь против поездок в автомобиле минут этак на двадцать, после чего пошел в туалет, жалуясь на запор. В одиннадцать вечера Пилигрим улегся спать прямо в одежде и велел, чтобы его разбудили ровно в два часа ночи.
8
Во вторник, второго июля, в четыре часа утра, Пилигрим с Форстером вышли из вестибюля гостиницы с чемоданами в руках и направились к «рено», припаркованному на конющенном дворе.
Со времен появления автомобилей на таких дворах стоял густой запах конского навоза, смешанный с запахом масла и бензина. Кроме того, в воздухе витали ароматы сена и угля. Пилигрим остановился на минутку, с удовольствием вдыхая эту пряную смесь. Несколько часов сна вернули ему доброе расположение духа.
«Пилигримы во времени, – думал он. – Сколько же их тут перебывало за эти годы! И все они останавливались в гостинице «DuPelerin», зная, что в конце путешсствия их ждет величественный собор со шпилями, витражами и христианскими реликвиями. Семьсот лет паломничества – семьсот лет пилигримов. И я, последний пилигрим, который сотрет Шартрский собор с лица земли. Чтобы понять, чтоБог умер, нам нужны Доказательства. Habeas Corpus (Распоряжение о предоставлении арестованного о суд, лат.). Руины собора, посвященного Иисусу Христу, докажут нам, что Христа нет и что все его евангелисты были лжецами. Именно там впервые погибло искусство».
Пилигрим вспомнил историю зданий. После большого пожара 1194 года сохранились три реликвии, и в народе говорили, чтоПресвятая Дева Мария таким образом продемонстрировала любовь и уважение к набожным горожанам. Остались нетронутыми череп матери Богородицы святой Анны, витражное стекло с изображением Девы Марии, держащей на коленях младенца Христа, и загадочный покров.
Считалось, что в этот покров Дева Мария была облачена в ту ночь, когда родила Иисуса. Его подарил первому Шартрскому собору – тоже погибшему вогие – Карл Лысый, внук Карла Великого, в 876 году.
На сохранившемся витраже, как говорил Пилигрим Юнгу, остались его инициалы «С той поры, когда я играл роль Симона младшего, мастера по витражам и сына знаменитого стеклодува». Тогда он тоже был евангелистом – по стеклу. Один Бог знает, почему именно этот витраж не сгорел при пожаре, но факт оставался фактом.
Фигура Богородицы была семи футов высотой. Над ее головой парила голубка, распростершая крылья, словно предупреждая о грядущем кресте. На коленях у Девы Марии сидел младенец Иисус, поднявший правую ручонку в благословении. В левой руке он держал книгу, в которой по-латыни была написана цитата из книги пророка Исайи: «Всякий дол да наполнится», «И всякая гора и холм да понизятся» (Книга пророка Исайи, 40:4), – припомнил Пилигрим.
Что ж… Сегодня ночью Шартрский собор понизится, да еще как!
До собора доехали быстро, хотя и поплутали немного из-за отсутствия уличных фонарей. Машина то и дело сворачивала в темные переулки. Город казался во тьме то ли заброшенной деревней, то ли осажденной крепостью, в которой все горожане забаррикадировались за закрытыми ставнями.
На церковном дворе в отдельных закутках за заборами спали нищие и прокаженные. Чтобы защитить их от дождя, во дворе построили соломенные и деревянные навесы. У каждой группы отбросов общества были собственные костры, по которым они легко отличались. Костры прокаженных горели еле-еле, почти не давая тепла, поскольку им было запрещено собирать в городе хворост и угли и приходилось рассчитывать исключительно на благотворительность. А также милость Божью.
Казалось, эти нищие калеки сидят там уже десяток тысяч лет. Пилигрим был уверен, что узнал некоторые лица, освещенные тусклыми отблесками костра.
Они шептали одно и то же: «Дай нам немного хлеба, пилигрим!»
Хлеба у него не было, но Пилигрим без слов бросил им пригоршню монет.
Когда они вошли в здание, громадная дверь заскрипела и застонала, словно ее не открывали сто лет. Церковь была освещена лишь свечечками молящихся, однако света хватало, поскольку свечи стояли повсюду, во всех углах и нефах, а также у алтарей, посвященных Богородице и святой Анне.
Нефы и алтари европейских соборов обращены на восток, по направлению к Иерусалиму. Поэтому главныи портал собора всегда выходит на запад. Во время заутрени и вечерни прихожане освещены соответственно восходящим или заходящим солнцем. Хоры в основном расположены вдоль южной стены, хотя и не везде. Но в Шартре было именно так, и там, за хорами, уходило ввысь «личное окно» Пилигрима.
Первым делом он подошел к главному алтарю, встал на колени и перекрестился. Не будучи религиозным, Пилигрим тем не менее считал необходимым выказать уважение к монументальному сооружению, которое собирался разрушить.
В нем шевельнулось смутное воспоминание, больше похожее на сон, о том, как он преклонял колени здесь раньше, причем не единожды. «Когда я знал своего Бога». Это место считалось священным еще до христианской эры. Во времена друидов земля, на которой стоял ныне собор, была посвящена языческому чуду рождения ребенка девой. «Богородице Дево, радуйся, – пробормотал Пилигрим, – Благодатная Марие, Господь с Тобою…»
Потом он встал и подошел к хорам у южной стены. Вглядываясь во мглу, Пилигрим воззрился на одно из окон вверху. Notre Dame de la Bellе Verriere – Богородица на прекрасном стекле. Тьма скрывала невероятную голубизну старинного витража с рубиновыми и розовыми вкраплениями, а кроме того, окно находилось слишком высоко, так что Пилигрим не смог различить инициалы, выгравированные им на одной из синих пластин у ног Пресвятой Девы. Но он знал, что они по-прежнему там: «С. Мл.». Симон Младший.
Пилигрим повернулся к Форстеру, который ждал его с двумя канистрами бензина, стоящими рядом на полу.
– Начнем отсюда! – Пилигрим показал на деревянные хоры под Богородицей.
Взяв канистру, он аккуратно полил бензином резные скамейки и отступил назад.
– Попрощайся со всем этим и пойдем, – сказал он камердинеру, отдав ему пустые канистры и вытащив из кармана коробок спичек.
Форстер ничего не ответил. Он побледнел от страха и безнадежности. Ему казалось, что ни он, ни мистер Пилигрим не переживут этого кошмара.
– Ты готов? – спросил наконец Пилигрим.
– Да, сэр. Да, – пробормотал Форстер.
– Тогда ступай. Я пойду следом.
Форстер, не оглядываясь, зашагал к воротам. Неф внезапно показался ему бесконечно длинным, миль двадцати, не меньше, и, пока он шел к громадной двери, ему все чудилось, что он бредет по морю во время прилива.
Пилигрим залез в карман и вытащил три носовых платка. Связав их вместе, он положил жгут на пол, одним концом в лужу бензина.
А потом очень осторожно зажег две спички сразу.
Закрыл глаза, открыл их – и бросил спички на ближайший конец жгута из платков. Пламя начало подбираться к бензину. Пилигрим отвернулся и быстро пошел по церковному нефу к воротам.
В пять часов утра они уже ехали в Тур – а окна Шартрского собора, оставшегося позади, заалели от пожара.
9
Самый большой заголовок «Эн-це-це» за четвертое июля был посвящен сто тридцать шестой годовщине независимости Америки. Второй по величине сообщал, что император Японии находится при смерти – и действительно, три недели спустя он скончался.
Юнг, сердитый на американцев из-за их недавнего бряцания оружием недавней агрессии в Гондурасе, не стал читать передовицу. Что до японского императора, тот тоже вечно сражался, в основном с Россией, и режим его был насквозь продажным. Юнг пропустил и эту статью, обратив внимание на последнюю, оставшуюся на странице.
Загадочный пожар в Шартрском соборе во Франции.
Боже правый!
Юнг пробежал глазами коротенькую статейку: к счастью, ущерб невелик… Власти в замешательстве… Началось расследование.
Пилигрим. Это мог сделать только Пилигрим.
Сперва он украл «Ману Лизу» – наверняка он, больше некому! – а теперь поджег свой любимый собор. Он что, решил лишить Францию всех ее сокровищ? Его неабходимо остановить…
Приехав в клинику, Юнг попросил фройляйн Унгер узнать, как можно связаться с французским послом в Берне. Репутация Юнга заставит посла прислушаться к его словам о том, что сбежавший пациент объявил войну искусству и происшествия в Лувре и Шартре, без сомнения, его рук дело. Как найти беглеца – вопрос другой, главнае, что они будут знать, кого искать.
Эмму в Кюснахте это известие тоже повергло в отчаяние, но по другой причине. Если мистера Пилигрима схватят, как это отразится на его страстном желании исправить прошлое? Именно в этом, по ее мнению, заключалась проблема Пилигрима. Между зловещим настоящим и катастрофическим будущим стояло только одно – признание истинного значения прошлого. В записях Пилигрима она постоянно сталкивалась с мыслью о присущей искусству цельности. «ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!» – вновь и вновь писал он заглавными буквами. Но никто его не слушал. И теперь, чтобы привлечь внимание к этой цельности – которая по самой сути своей взывала к состраданию и примирению, – он решил уничтожить наиболее наглядные произведения, в которых утверждались эти идеи. «Когда свидетельства сострадания. и примирения исчезнут, написал он в одном из дневников, – мы поневоле вспомним об их истинном значении». И вот он начал свай крестовый поход.
11
В среду вечером, третьего июля, когда Пилигрим с Форстером приехали в Тур, в прессу уже просочилось известие о пожаре в Шартре. «Сначала Мона Лиза, а теперь собор!» – таков был один из заголовков. «Шартрский собор в огне!» – возвещал другой.
На снимках виднелся дым, валивший из церковных ворот, и обугленные хоры, однако история была гораздо печальнее…
Когда в соборе началось расследование, полиция обнаружила останки сгоревшего человека. Похоже, один из прокаженных, спавших на церковном дворе, увидел в разноцветных окнах отблески огня и заполз внутрь, пытаясь потушить пожар. Там он и погиб. Другие прокаженные и нищие, не дожидаясь приезда пожарных, образовали цепочку и начали заливать огонь водой из ведер. В конце концов пожар потушили, однако прокаженного спасти не удалось.
Прочитав об этом, Пилигрим погрузился в молчание и отказался от еды. Они с Форстером пошли в ресторан отеля «Турень», полистали меню и выпили вина.
– Я, пожалуй, снова закурю, – проговорил наконец Пилигрим и послал Форстера за сигаретами.
Он не курил вот уже несколько лет – бросил, когда заметил, что леди Куотермэн пристрастилась к сигаретам. «Противная привычка, – сказал он ей, – особенно для женщины». Но теперь ему необходимо было отвлечься – чем-то заняться, на чем-то сосредоточиться, поскольку у Форстера был такой жалкий вид, что Пилигрим не мог на него смотреть. Форстер походил на Крота из «Ветра в ивах» (книга для детей английского писателя Грэма Кеннета (1859–1932)): отерянный, несчастный и бесконечно печальный. Как и Крот, Форстер хотел вернуться домой.







