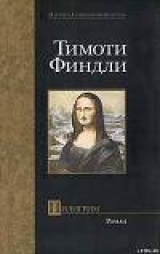
Текст книги "Пилигрим"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Он наконец отступил от стола и, больно схватив жену за локоть, повел, как преступницу, из кабинета и дальше по коридору, в приемный покой.
«Только бы не упасть! – думала Эмма. – Только бы не споткнуться и не упасть!»
Юнг, словно сдавая с рук на руки подозреваемую в убийстве извращенку, попросил Константина вызвать такси, развернулся и ушел без единого слова. Шаги его ударами молота гремели о мраморный пол, пока наконец стук захлопнутой двери не поставил точку в этом эпизоде.
Всю дорогу домой Эмма боролась со слезами. Кэб оказался двухколесной коляской, и Эмма уставилась на конягу, трусившую развалистой походкой.
А может, Карл Густав сошел с ума? Свихнулся, сам того не подозревая?
Его обвинения не лезли ни в какие ворота. Никто на пароме не обратил ни малейшего внимания на ее «вид». Да, обычно женщины – особенно женщины ее круга – не появлялись на публике, когда беременность становилась заметной. Но это не правило! Исключений становилось все больше и больше. Бывали ситуации, когда выход в свет считался вполне приличным. Званый ужин, прием…
Эмма старалась не думать о женщине, стоявшей на коленях между ног ее мужа.
Я ее не видела. Ее там не было. Человек не может просто взять и исчезнуть. Это невозможно.
Но она ее видела.
Видела.
И знала это.
Когда она села в кресло, потрясенная яростными нападками Карла Густава, то заметила женский силуэт, скорчившийся под столом и тщетно старавшийся спрятаться.
Она видела ее волосы в отблесках света, падавшего через распахнутую в коридор дверь.
Она видела, чем они занимались.
Она видела, как муж отчаянно старался привести в порядок одежду – и как он промахнулся с пуговицами.
Она видела руку женщины, на которую та опиралась, сидя под столом.
Она видела ее ногти.
Она почуяла запах ее духов и заметила женскую шляпку возле стопки книг на столе мужа.
«Боже правый, моя жизнь кончена», – подумала Эмма.
Я умираю. Я уже умерла.
Не важно, кто она такая, эта женщина. Какая разница, как ее зовут? Она была – а все остальное не важно. Интересно, когда это началось?
Обеды в одиночестве напротив пустующего мужниного стула. Ночи, когда она ложилась спать до его приезда… А по утрам он уходил до ее пробуждения. Сколько это длилось? Недели? Месяцы? Разве вспомнить? Откуда ей знать?
В любом случае, все уже кончено. Все вообще кончено.
В тот вечер – то есть в пятницу, тридцать первого мая Юнгу позвонил из Кюснахта лечащий врач Эммы доктор Ричард Вальтер.
– С Эммой произошел несчастный случай, Карл Густав.
Советую вам вернуться домой как можно скорее.
Одевшись к ужину, Эмма упала с лестницы, и в результате у нее случился выкидыш. Ребенок умер, Эмма была в коме.
10нг приехал только через два часа. Ему пришлось рассказать все любовнице и на время отослать ее. Об инциденте в его кабинете никто не должен был упоминать.
В 1910 году, когда у него был роман с Сибил Шпильрейн, Юнг написал Фрейду об Эмме: «Она устраивает беспочвенные сцены ревности. Она не понимает, что условием удачного брака – во всяком случае, так мне кажется – является разрешение на неверность». И позже добавил: «Я, в свою очередь, тоже многому научился».
Он действительно научился контролировать свою жену – но не мать своих детей.
10
Эмма лежала так недвижно, что Юнгу на миг почудилось, будто она мертва.
Он взял ее за руку.
Доктор Вальтер стоял рядом.
–..:.. Она сможет еще иметь детей? – спросил Юнг.
– Не исключено, когда-нибудь. Однако боюсь, что ей больше не захочется.
– Пожалуй. Пожалуй. – Юнг сжал руку Эммы и положил ее обратно на покрывало. – Скажите, какого пола был ребенок?
– У вас должен был родиться второй сын.
– О Боже!
Юнг отвернулся от кровати.
Доктор Вальтер нанял сиделку – на неопределенный срок, пока будет необходимость. По крайней мере на неделю. Звали ее Берта. Schwester Берта. Высокая, спокойная и молчаливая, она все время читала книги и долгими часами, пока Эмма лежала без чувств, услаждала себя «Смертью в Венеции» (Роман немецкого писателя Томаса Манна (1875–1955). Когда доктор Юнг и доктор Вальтер вышли из спальни, Берта села в кресло в ногах кровати, так, чтобы видеть свою пациентку, и с размаху открыла тоненький томик, разорвав переплет в трех местах. Поднесла книгу к носу, принюхалась… Типографская краска. Запах бумаги, клея – Венеция. А больше ничего и не надо.
Спустившись вниз и велев налить им бренди, Юнг спросил у доктора Вальтера:
– Что в таких случаях делают с останками?
Вальтер, пользовавший Эмму с того самого времени, когда она вышла замуж и поселилась в Кюснахте, ответил:
– С вашего позволения, простейшим выходом было бы сжечь их.
– Понятно. Могу я посмотреть на плод?
– Не советую, Карл Густав. Это слишком грустно.
– Он был здоровенький? И правильно сформировался?
– Да.
– Сын, вы сказали?
– Да.
– Скажите откровенно, Ричард… Как по-вашему, это действительно был несчастный случай?
– Откуда мне знать?
– Кто ее нашел?
– Фрау Эмменталь.
– И что она говорит?
– Она услышала звук падения и сразу же прибежала. Ваша жена была без сознания. Фрау Эмменталь вызвала меня. Выкидыш случился при мне, быть может, часом позже. Я боялся этого и был готов. Эмма ничего не почувствовала.
– Где сейчас ребенок?
– Я велел завернуть его в полотенце и отнести на кухню, чтобы сжечь в плите. С ним фрау Эмменталь и горничная.
– Сжечь. – Юнга передернуло. – Сжечь.
– Ребенок был слишком мал и выжить не мог, Карл Густав.
– Может, кремируем его вместе? Я хочу быть уверен, что с этим покончено.
– Воля ваша.
Фрау Эмменталь сидела на кухне с завернутым в полотенце ребенком на коленях и бокалом рислинга под рукой. Тишина стояла мертвая. Лотта, нарыдавшись, притулилась в углу. Когда на кухню зашли мужчины, обе женщины встали и присели в реверансе.
– Ах, доктор Юнг! Мне так жаль! – сказала фрау Эмменталь.
– Благодарю вас, – откликнулся Юнг. – Благодарю. Можете сесть.
– Нет, мы постоим, – заявила фрау Эмменталь. – Этак будет приличнее.
Юнг повернулся к доктору Вальтеру:
– Могу я это сделать? Хочу подержать его хоть минутку.
– Разумеется.
Доктор Вальтер спросил у фрау Эмменталь, хорошо ли разгорелся в плите огонь. Она ответила утвердительно.
Юнг взял из рук кухарки безмолвный сверток и прижал его к груди.
«Мне некому молиться. Некому. И я впервые в жизни жалею об этом».
– Бедный малыш! – прошептал он. – Прости, пожалуйста, что мы так тебя подвели. Мы тебя никогда не забудем.
Он стоял, убитый горем, зная, что должен отпустить сверток. Высоко на стене тикали часы. Больше не было слышно ни звука.
Юнг повернулся и подошел к плите.
– Ладно, – сказал он. – Мы готовы.
Доктор Вальтер открыл крышку над огнем. Оттуда вырвались искры, послышался треск дров.
Юнг нагнулся и трижды поцеловал завернутый в полотенце плод. Потом поднял его над огнем, закрыл глаза и отпустил.
Тот беззвучно упал вниз.
Доктор Вальтер задвинул крышку и сказал фрау Эмменталь:
– Я вернусь через полчаса.
Мужчины ушли. Фрау Эмменталь налила себе еще бокал вина.
Лотта села за стол, и они молча стали ждать возвращения врача, отводя глаза от плиты.
11
Форстер коротал время в отеле «Бор-о-Лак», изобретая способы встретиться с мистером Пилигримом.
Он мог замаскироваться, поскольку лицо его было слишком хорошо известно в клинике, и сделать вид, что приехал навестить друга из Лондона. Он мог прикинуться посыльным, которому велели передать сообщение исключительно в собственные руки мистера Пилигрима. Он мог принести подарок, переодеться женщиной и выдать себя за сестру мистера Пилигрима… Он мог… Он мог… Нет, ничего он не мог. Дело в клинике поставлено туго. Люди там бдительные, и никакими фокусами и маскировками их не проведешь.
Форстер купил бинокль и осмотрел фасад Бюргхольцли. Хорошо, что окна номера выходили как раз на клинику. «Я не нашел бы окна лучше, даже если бы попросил, – подумал Форстер. – Надо использовать это преимущество».
Утром первого июня 1912 года, в субботу, Пилигрим вышел на балкон покормить своих птиц.
Форстер мигом его засек.
– Как же я сразу не догадался! – воскликнул он вслух.
Голуби и голубки вот уже два дня прилетали и садились на этот балкон. – Кто еще мог подманить такую стаю?
На Пилигриме был голубой шелковый халат и белая пижама. Глядя на хозяина, Форстер вздохнул. На него нахлынула ностальгия по старым добрым временам – по запаху тостов и чая «Эрл Грей» на веселой кухоньке миссис Матсон, по вечно путавшемуся под ногами Агамемнону, подносам с завтраками, газетам и письмам, доставляемым мистеру Пилигриму в дом номер восемнадцать по Чейни-Уок… По беготне и ворчанию малыша Агамемнона, его восторженным приветствиям по утрам, когда открывалась дверь и начинался новый день. По уютувсех этих священных повседневных ритуалов – и облегчению при мысли, что еще одна ночь прошла без попытки…
Форстер даже в мыслях отказывался произнести слово «самоубийства».
– Доброе утро и добрый день, – сказал он, тоже вслух, точно мистер Пилигрим стоял рядом.
Так оно и было. Стоило только руку протянуть…
Форстер сосчитал балконы по обеим сторонам от того, где стоял мистер Пилигрим. «Место я запомнил… Теперь буду смотреть на него каждый день. Как-нибудь мы положим этому конец».
Чему?
Нашей разлуке.
Форстер отпустил бинокль, и тот повис на шнурке.
Леди Куотермэн погибла. Теперь Форстер – единственное связующее звено между мистером Пилигримом и внешним миром. Он один был готов принять его.
А потому надо вести наблюдение и ждать.
12
Пилигрим поел, но совсем немного. Он так резко отодвинул рыбу, которую с удовольствием ел за обедом вчера, что чуть не свалил блюдо на пол.
Обслуживавшая его девушка нервно переминалась с ноги на ногу. Она не знала английского, а Пилигрим отказался общаться по-немецки, капризно, как ребенок, заявив:
– Я не умею говорить по-швейцарски. Подите прочь.
Рыба – палтус – осталась нетронутой.
Когда на десерт принесли рисовый пудинг, Пилигрим намеренно уронил полную ложку на пол, смял салфетку и встал.
– Я живу в диетическом кошмаре, – сказал он и встал из-за стола. Потом, возле двери, обернулся и заявил несчастной официантке: – Когда у вас будет настоящая еда, я вернусь. А пока – всего вам хорошего. И всем остальным коровам вроде вас.
Девушка поняла только то, что ее оскорбили, и вернулась на кухню в слезах. Пилигрим между тем пошел к лифту. Поднимаясь и глядя на бесстрастное, как всегда, лицо оператора, он подумал: «Я живу в скотском мире – в мире тупого, жующего жвачку рогатого скота!»
Вернувшись в комнату, Пилигрим открыл дверь на балкон, снял пиджак и туфли, расслабил узел галстука и лег на кровать.
Было тепло, почти жарко, и ему пришлось встать, чтобы закрыть ставни.
Через десять минут он поднялся опять, пошел в ванную, помочился и выпил стакан воды из-под крана; старательно избегая смотреть на себя в зеркало.
Потом снял галстук, жилет, сбросил подтяжки, расстегнул брюки и снова лег.
Несколько голубей сели на балкон за ставнями и заворковали.
– Подите прочь, – прошептал Пилигрим. – Подите прочь, – сказал он. – Подите прочь! – заорал он.
Через пятнадцать минут он уснул.
Я тону в грязи. Не знаю, где я.
Темно, но не ночь. Светает. Смутно виден горизонт.
Все вокруг серое, бурое, мокрое. Запах земли – вернее, зловоние – проникает повсюду. Мерзкое, но притягательное. Смерть, да – зато на сердце покой.
Не понимаю, где мои ступни. На мне сапоги. Они вместе с одеждой тянут меня вниз. Подо мной все зыбко. Пытаюсь плыть, но удается только держать голову над этой жижей, густой, как каша. Внезапные вспышки света где-то вдали. Не рядом.
Вижу фигуры других людей. Все одеты точно так же, как я.
Судя по нашей мешковатой одежде болотного цвета, мы солдаты. Да – но когда? И где?
Бьют часы. Я не могу сосчитать. Я пытаюсь крикнуть, но у меня пропал голос.
Звук отворяющихся ворот. В мозгу эхом отдается слово «порталы». П-п-порталы – как выстрел. А теперь еще и вода. Порывы ветра приносят косой дождь. П-п-п-п-порталы.
Моя рука тянется к другой – человеческой руке с чистыми пальцами, но та исчезает.
Гадаю, как я очутился здесь, однако опять не могу. Здесь значит нигде. В небытие.
Внезапно раздается звук, который я сначала не могу узнать.
Монотонный, похожий на рычание автомобильного мотора без корпуса. Оглушительный рев в воздухе над головой.
Потом несколько взрывов. За ними раздается скрежет – и на меня падает тень, похожая на тень гигантской птицы. Тут я вижу, что это самолет. Один самолет, потом другой.
Я никогда раньше не видел самолеты, разве что на фотографиях, а сейчас их не меньше десятка… А то и больше. Они летят над головой, стреляют и сбрасывают снаряды, от которых земля содрогается, и я погружаюсь в нее еще глубже.
Другие люди, сгорбившись, бегут вперед, милю – не видя меня, потому что они не смотрят. Все охвачены страхом.
Кто-то говорит: «Мне не дозволено видеть тебя». И это единственные слова, которые я слышу.
Я закрываю рот. Пролетает еще дюжина самолетов.
Я начинаю тонуть.
Мои ноздри наполняются жижей. Я тону – и просыпаюсь.
Пилигрим сел на кровати в холодном поту.
Я тону – и просыпаюсь.
Самолеты.
То, что он сейчас пережил, не могло быть видением прошлого. Это видение будущего.
Будущего! Боже правый! Господь Милосердный!
Четыре часа.
Пилигрим закрыл лицо руками и опустил голову.
Свет в комнате, пробиваясь сквозь закрытые ставни, сиял золотистым оттенком, словно знаменитое «сфумато» Леонардо, играя пылинками и просачиваясь сквозь пальцы Пилигрима.
– О Господи! – сказал он вслух. – Не надо больше! Нет! Не надо!
Онвстал.
– Этого не должно больше быть!
13
Нижеследующий инцидент произошел в четверть третьего, в тот же день. Онописан в личном дневнике Юнгa, в медицинской карте Пилигрима и ежедневных отчетах Кесслера и Schwester Доры. Их можно найти в архивах.
Присутствовали шесть свидетелей – два человека из персонала и четыре пациента: Кесслер и Schwester Дора, графиня Блавинская, шизофреничка с синдромом Роберта Шумана, писатель с воображаемым пером и человек, наотрез отказавшийся говорить. Все они, кроме Кесслера, сидели в музыкальной комнате.
На граммофоне играла пластинка «Карнавал животных» Сен-Санса. Блавинская танцевала партию Павловой «Умирающий лебедь».
Комната была залита солнечным светом. Окна открыты настежь. Пациент с воображаемым пером нашел новый способ самовыражения и начал писать послание на стене у двери. Schwester Дора вязала шарф для своей любимой пациентки. Остальные, уйдя в себя, сидели, смотрели и слушали.
Внезапно в коридоре раздался шум, топот и крики: «Стой! Стой!»
Через пару секунд дверь распахнулась, и в комнату ворвался Пилигрим в купальном халате и шлепанцах. Кесслер собирался отвести его вниз, в купальни, чтобы успокоить после ночного кошмара, но Пилигрим побежал к музыкальной комнате, стуча на бегу во все двери.
Когда он ворвался в комнату, Блавинская как раз подошла к концу своей сольной партии. Она села на пол, склонилась над вытянутой левой ногой и начала исполнять знаменитый финал, трепеща руками, опустив голову и выгнув спину.
Пилигрим был неузнаваем. Он совершенно потерял над собой контроль. Лицо его казалось маской ярости – глаза широко распахнуты, из приоткрытого рта течет пена и слюна. Словно гепард, преследующий добычу, он в три прыжка добрался до граммофона, отломал от него ручку с иголкой и швырнул ее в ближайшее открытое окно. На пол посыпались осколки разбитого стекла.
Блавинская подняла голову в полной уверенности, что на клинику налетел торнадо. Женщина с синдромом Шумана взвизгнула, ринулась в угол и села на корточки. Человек с воображаемым пером застыл у стены, подняв правую руку и прижимаясь к гипсовой обшивке лбом.
Schwester Дора встала, отложила вязанье и шагнула в сторону Блавинской – однако Пилигрим преградил ей путь.
Он поднял граммофон и с размаху бросил его на пол. Корпус раскололся надвое, все механические внутренности вывалились наружу. Пилигрим принялся за альбомы с пластинками. Он швырял их во все четыре стены, разбивая вдребезги. То ли по случайности, то ли по злому умыслу пластинка «Сценок детства» Шумана попала в пианистку, скорчившуюся в углу, и нанесла ей рану, которую пришлось потом зашивать.
Кесслер пытался поймать своего пациента, но Пилигрим в приливе маниакальной энергии уворачивался, как угорь. Он казался юным атлетом, бегуном или гимнастом. Схватив поверженную на пол виолончель, Пилигрим начал пинать ее с криками:
– К черту музыку! К черту искусство! К черту красоту! Убей! Убей! Убей!
Потом он расколошматил скрипку, а ее останками начал крушить застекленные шкафчики, где хранились либретто и партитуры, которыми так гордилась музыкальная библиотека.
Кесслеру наконец удалось схватить его – как раз когда Пилигрим собирался ткнуть спицами Schwester Доры с недовязанным шарфом себе в лицо.
Когда Кесслер уложил пациента на пол и заломил ему за спину руки, графиня Блавинская вскрикнула: «Не надо!» – и Пилигрим сдался.
На помощь Кесслеру, сидевшему на спине у Пилигрима, пришла Schwester Дора. Когда пациент пытался вырваться, она выворачивала ему руки.
Пять минут спустя. прибежали санитары и надели на Пилигрима смирительную рубашку. Он плюнул Кесслеру в лицо, издал животный вопль и лишился чувств.
Позже, когда Юнгу рассказали о случившемся, а Пилигрим немного успокоился, Кесслера спросили, что, по его мнению, могло вызвать такую буйную вспышку.
– Он соснул после обеда, – ответил Кесслер, – и ему, по-видимому, что-то приснилось. Когда я вошел, он кричал – не знаю что, но кричал. Я раздел его и облачил в халат, чтобы отвести в купальни. Мне думалось, вода успокоит его. Он все кричал: «Это никогда не кончится! Это никогда не кончится!» Что он имел в виду, я так и не понял. Еще он добавил одно слово, которое я никогда от него не слышал: «самолет».
– Самолет?
– Самолет. Он повторял его снова и снова. «Самолет! Самолет!» А потом удрал от меня и переломал все эти вещи.
Юнг покачал головой.
– Самолет? Это что-то новенькое.
– Да, сэр. Я лично их еще не видел, – откликнулся Кесслер.
– Я тоже, – сказал Юнг. А потом, даже не сознавая, что говорит, прошептал: – Но мне кажется, мы их увидим.
– Да, сэр. Мне тоже так кажется.
Книга пятая
1
Пилигрима поместили в обитую мягкой обшивкой камеру, где он не мог себя поранить. У него появилось два новых санитара или, вернее, надзирателя. Так называли тех, кто присматривал за самыми буйными пациентами. Кесслера отпустили на неделю домой. Он согласился – при условии, что, если мистер Пилигрим позовет его, он вернется.
Одним из надзирателей был светловолосый и безобидный на вид гигант по имени Вольф. Его наняли исключительно за физическую силу. Он никак не выказывал своего отношения к пациентам – разве что с готовностью усмирял их, когда те выходили из себя. Внешность Вольфа подчеркивала его добродушный нрав. Широко раскрытые глаза, ласковая улыбка… Он казался невинным ребенком, для которого каждый день – Рождество.
Второй надзиратель, Шварцкопф, был полной противоположностью Вольфу. То, что он садист, было видно с первого взгляда. Он смотрел на Пилигрима сквозь прищур и хрустел пальцами, высовывая между зубов кончик языка, словно воспринимал каждого пациента как противника в матче по борьбе. Он тоже был сильный – невысокий, но крепкий и коренастый.
Первые два дня после буйной выходки Пилигрима держали на транквилизаторах и обращались с ним как с ребенком. Он мочился в кровать, вылезал из пижамы, его приходилось кормить через трубочку, чтобы предотвратить обезвоживание организма.
На третий день Пилигрим пришел в себя.
Он задал только два вопроса: «Где мои голуби и голубки?» и «Почему все белое?»
Поскольку на четвертый день вид у него был вполне мирный, по настоянию доктора Юнга с Пилигрима сняли ремни.
– Он высокий! – сказал Шварцкопф. – Его ноги могут быть опасны.
Вольф взял на себя труд отстегнуть ремни, которыми руки Пилигрима были привязаны к кровати. Шварцкопф сел на ступни пациента и положил ладони ему на колени.
В комнате был довольно низкий потолок и ни единого окна.
Воздух освежался вентиляционной системой, вмонтированной в стену и выходившей через ряд металлических экранов наружу. Шварцкопф почти никогда не мылся. От него воняло. Это было одно из орудий устрашения пациентов. Пилигрим наблюдал за ним сквозь полузакрытые глаза.
Развязать ремни оказалось не так-то просто. Вольф возился над ними, изо всех сил стараясь не причинить Пилигриму боли, пока он освобоЖдал его запястья и лодыжки.
Наконец ему это удалось. Пилигрим почувствовал циркуляцию крови в затекших членах.
Он не промолвил ни слова и не пошевелился.
Он не пытался высвободить конечности или открыть глаза.
Шварцкопф встал.
– Ты сейчас стоять, – сказал он на своем неправильном английском.
Пилигрим посмотрел на Вольфа.
Тот нагнулся и приподнял пациента за плечи, помогая ему сесть.
– Ноги! – сказал Пилигрим.
Шварцкопф взял его за щиколотки и сбросил ступни вниз.
Те шлепнулись на пол, отдавшись болью во всех косточках, с таким стуком, словно кто-то захлопнул дверь.
Вольф встал с другой стороны кровати.
Шварцкопф, не сводя с пациента глаз, погладил большим пальцем свой подбородок так, как будто хотел, чтобы там выросла бородка. Потом шагнул назад и велел Пилигриму:
– Говори!
– Я хочу своих голубей и голубок, – сказал Пилигрим.
– Своих голубчиков? – ухмыльнулся Шварцкопф.
– Да.
– Я найду их и принесу завтра, – пообещал Шварцкопф.
Пилигрим кивнул.
– Я бы поел немного супа, – сказал он.
Утром, когда Вольф повел Пилигрима в туалет, Шварцкопф принес что-то, завернутое в полотенце. Он весело скалился.
– Тыхотел, – сказал он и положил сверток в ногах кровати.
– Я пока ничего не хочу, – ответил Пилигрим.
– Нет, – возразил Шварцкопф.. – Тыхотел – я принес.
С этими словами он развернул полотенце, в котором оказались две тушки – розовой голубки и сизого голубя.
– Могу зажарить их на завтрак, если желаешь.
Пилигрима пришлось еще неделю держать привязанным к кровати. Кесслер вернулся в клинику, Шварцкопфа уволили.
Больше разговоров о голубях и голубках никто не заводил. Кесслер похоронил мертвых птичек под деревом в саду. Укладывая их в ямку, он разгладил им крылья и прошептал единственное слово: «Простите». Рубиновые глаза были закрыты, а земля, падавшая на них, пахла сосновыми шишками, грибами и дождем.
2
В субботу, восьмого июня, Эмма впервые после выкидыша встала с постели – и в тот же день Вольф в последний раз снял ремни с запястий и щиколоток Пилигрима.
Эмма села к окну. Лотта принесла ей завтрак вместе с утренней газетой. Эмма попросила газету, поскольку решила: «Мир все еще существует, и мне лучше в него вернуться».
Пилигрим сидел на краешке кровати, а Кесслер кормил его апельсином, тостом, мармеладом и поил чаем. О птицах не вспоминали. Вольфа сослали на кухню, где он пил кофе и глядел на плиты и печи, словно ожидая, что они с ним заговорят. Сам он сидел молча.
Эмма открыла газету «Die Neue Zurcher Zeitung» («Новая цюрихская газета», нем.), нежно прозванную читателями «Эн-це-це». Итальянско-оттоманская война продолжалась; итальянцы, похоже, побеждали. Балканы, как всегда, бурлили – бомбы, убийства, бунты и анархия. Греция грозила, что присоединится к схватке. И так далее, и тому подобное.
«Сербы, македонцы, болгары, турки, итальянцы, греки… Кого это волнует?» – подумала Эмма и уронила газету на пол. Пятьсот лет вторжений и передела границ, и все без толку. Началось с Александра Македонского… вернее, даже с Трои – и ничего, ничего, ничего не изменилось. Веками люди жили с колыбели до могилы, не зная ни минуты покоя, в вечном страхе за свою жизнь. Лучше уж вовсе не рождаться. Или сразу умереть.
В одиннадцать часов тем же утром Юнг зашел в отделение для буйных проверить состояние нескольких пациентов, а без двадцати пяти двенадцать его провели в палату Пилигрима.
Вольф к тому времени уже сидел в коридоре, оставив Пилигрима на попечении Кесслера. Пациенту принесли чистую пижаму, наглаженный халат, впервые за две недели побрили и позволили почистить зубы.
Юнг велел Кесслеру прогуляться, добавив, что тот может вернуться через полчаса.
Когда Кесслер ушел, прихватив с собой грязную пижаму и поднос с остатками завтрака, Юнг взял единственный стул и поставил его спинкой к двери.
Сев, он вытащил из нотной папки листок бумаги и посмотрел на пациента. Юнг не спал всю ночь, мучаясь угрызениями совести из-за смерти своего ребенка и из-за того, что жена застала его с другой женщиной.
Касательно первого из этих двух прискорбных эпизодов Юнг чувствовал одновременно и вину, и раскаяние. Его подозрение, что Эмма нарочно упала с лестницы, почти подтвердилось. «Я не споткнулась, – сказала она ему. – Я упала». Что же до другой женщины, Юнг не раскаивался ни на минуту – он лишь жалел, что им на время пришлось расстаться. Он будет скучать не только по сексуальному освобождению, которое она ему дарила, но и по их интеллектуальным беседам. Звали ее Антония Вольф, и когда-то – как и Сабина Шпильрейн – она была пациенткой в Бюргхольцли. Поправившись, Антония, обладавшая поразительным талантом и интуицией, стала квалифицированным врачом.
Впервые эту молодую женщину Юнг заметил несколько недель назад в коридоре вместе с Фуртвенглером. Ему было легко с ней – и одновременно трудно, поскольку внешне она очень походила на Эмму, с той лишь разницей, что волосы у нее свободно падали на плечи, в то время как жена Юнгa убирала их назад. Чувственная, искусная в плотских наслаждениях, она… Антония… Тони… Она…
Забудь об этом! Ты пришел к Пилигриму.
– Доброе утро, – сказал Юнг. – Какой дивный солнечный денек!
Это было вранье. На самом деле на улице шел дождь, а у него умер ребенок.
Пилигрим не ответил и отвел глаза.
– Вы ничего не хотите сказать? – поинтересовался Юнг.
– Только то, что вы заперли меня в темной комнате вместе с маньяками.
– О каких маньяках вы говорите?
– Шварцкопф убил двух моих птиц.
– У вас есть птицы?
– Голубки. Голуби. Я кормлю их.
– Ваши птицы? Я не знал. Мне казалось, что птицы не могут быть чьей-то собственностью.
– Глубокая мысль, доктор Юнг. – Пилигрим приподнял руку и снова уронил ее на колено. – Конечно, вы правы. И тем не менее я заботился о них.
– Мистера Шварцкопфа уволили, – сказал Юнг. – У вас есть другие жалобы?
– Кесслер – чокнутый.
– Да?
– Он верит в ангелов.
– А вы не верите?
– Конечно, нет. Какой от ангелов прок?
– Кесслеру они, по-моему, помогли. Вы знаете, что он сам тут лечился?
– Нет. Ну и что? Это лишний раз подтверждает мою точку зрения. Вы называете меня сумасшедшим и отдаете в руки помешанных. Может, у вас самого с головой не в порядке?
– Возможно, – улыбнулся Юнг. – Вполне возможно.
Они помолчали.
– Как вы себя чувствуете сегодня, мистер Пилигрим? Отдохнувшим? Отрешенным?
– Отвязанным.
Юнг рассмеялся.
– И то верно. Что ж, давно пора. – Он подождал немного и осторожно спросил: – Скажите, вы действительно были готовы убить мистера Шварцкопфа?
– Я хотел, но сдержался. Я не могу убивать, чего не скажешь о мистере Шварцкопфе. Я видел, как он ел мух.
– Разве мухи – это так важно?
– Все важно. Вы не согласны? А вдруг он съест их всех, и вам ничего не останется?
Юнг откинулся на спинку стула.
– Да, тут у нас явно проблема, – промолвил он. – Я вам не нравлюсь. Верно?
– В данный момент – верно.
– Не забывайте, что я ваш врач. Доктора не всегда бывают приятными.
– Это я прекрасно понимаю. – Пилигрим пристально посмотрел на Юнга. – Чего вы от меня хотите, доктор Юнг? Могу я что-то сделать для вас?
– Да. Вы можете ответить на некоторые вопросы.
– Вы задаете вопросы, а я отвечаю. Это несправедливо.
– Вы предпочли бы поменяться ролями?
– Я и не заметил, что мы играем какие-то роли.
– Такого рода словоблудие никуда нас не приведет – ни вас, ни меня.
– Если учесть, что английский для вас не родной, вы говорите очень хорошо. «Словоблудие». Замечательно. У вас богатая лексика. Вообще, должен сказать, вы настоящий знаток, и не только в английском.
– Не уверен, что понимаю вас.
– Еще как понимаете! Пожалуйста, не разыгрывайте из себя скромника. Вы напрочь лишены скромности, даже ложной. Другими словами, доктор Юнг, я вижу вас насквозь.
– Понятно.
– Нет, это мне все понятно! На школьном жаргоне вы просто «гнилой стручок».
Юнг отложил список вопросов. Они ему больше не понадобятся. Беседа с Пилигримом потекла по своему собственному руслу, хотя и не туда, куда он предполагал. Тем не менее это могло оказаться полезным.
– Стручок? То есть длинный двустворчатый плод с семенами? Типа гороха?
– Нет, сэр. В английских школах так на жаргоне называют пенис. Грязный, вонючий и мягкий член, из которого можно только сикать, и больше ничего.
– Сикать?
– Писать.
– Понятно.
– Да неужели?
– Мне так кажется.
– А я сомневаюсь. Видите ли, школьник ночами трет свой член в надежде, что в один прекрасный день испытает настоящее наслаждение в виде эякуляции и последующего оргазма. Он слышал об этом и, возможно, даже видел, как балдеют его старшие товарищи. Но его собственный пенис не встает, потому что яички еще не опустились. Даже если он достигнет какой-то эрекции, наслаждения ему не видать как своих ушей – он испытает разве только нечто отдаленно напоминающее оргазм. Он хуже девственника. Он бесплоден. Отсюда и «гнилой стручок».
– Значит, я – незавершенный оргазм.
– Да, сэр. Заметьте, что я называю вас «сэр», как положено школьнику.
– Вы не школьник, мистер Пилигрим.
– Разве вы не мой господин?
Молчание.
– Ненавижу эту комнату. Эту клетку. Я должен остаться здесь навсегда?
– Нет.
– А ключи от нее у вас?
– Один из них – да.
– А остальные?
– У Кесслера. У Вольфа. У врача, возглавляющего отделение. Его фамилия Радди.
– Эрнст Радди. Да, я встречался с ним. Или я должен сказать: «Он со мной встречался?» В его присутствии я вечно закован в цепи. Еще один стручок.
– Вас никогда не заковывали в цепи, мистер Пилигрим. Никогда.
– Так или иначе, я чувствовал себя как в цепях.
– Понимаю.
– Как вы добры!
– Мне интересно, почему вы считаете меня стручком?
– Вам это неприятно?
– Я спрашиваю для пользы дела. Если я хочу помочь вам, мне надо знать, что вы обо мне думаете.
– С чего вы взяли, что я нуждаюсь в помощи?
Юнг чуть было не рассмеялся, но сдержал себя.
– Ключ у меня в кармане, мистер Пилигрим. Только я могу выпустить вас.
– Вы говорили, в других карманах тоже есть ключи.
– Да, но выпустить вас отсюда может только мой. Кроме того, очевидно, что вы очень взбудоражены. Вы и сами знаете. Итак… Я жду ответа.
– Почему я считаю вас стручком? Потому что вы слишком довольны собой и ничтожными достижениями, которых добились в своей области.
Юнг молча закрыл глаза.
– А еще потому, что вы высокомерный упрямец, обладающий неограниченной властью. И потому, что вы даже не осознаете своего невежества и того вреда, который вы наносите людям своей некомпетентностью. Потому, что вы никогда не раскаиваетесь. Потому, что вы подавляете интеллект других людей, чтобы сохранить свою репутацию. А еще потому, что вы швейцарец!







