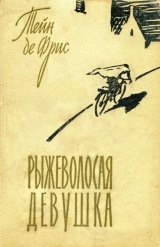
Текст книги "Рыжеволосая девушка"
Автор книги: Тейн де Фрис
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
Мужество отчаяния
В тот самый сентябрьский вечер, когда мы услышали, что парашютисты-эсэсовцы вывезли Муссолини из тюремного заключения и перебросили в район, занятый фашистами, кто-то позвонил мне по телефону. Я взяла трубку: женский голос, немного охрипший или же умышленно приглушенный – я сначала его не узнала– несколько раз произнес мое имя: «Ханна? Ханна?!»
– Да, это я… Кто это?
Повторять вопрос не было надобности: в тот же момент я узнала, кто говорит, как это ни было невероятно. Я оторвалась от телефонной трубки и крикнула на весь дом:
– Это Таня!..
Отец с матерью и Юдифь, сидевшие в гостиной, в растерянности окружили меня, не понимая, в чем дело. Я дрожала. Руки мои дрожали, голос срывался:
– Таня… где ты?
– Я звоню из Католической больницы, – произнес хриплый и все же такой знакомый голос: он звучал так мрачно, будто доходил с того света. – Можешь ты прийти ко мне?
– Я приду, – поспешила я ответить, хотя в голове никак не укладывалось, что со мной говорит по телефону настоящая Таня. На какой-то момент я даже подумала: это провокация, западня!
Мне вдруг вспомнилась бледная, безвольная физиономия с глазами-бусинками– типичный представитель определенной сорта людей – предателей, продавшихся чужеземцам и применявших самые подлые средства, чтобы схватить человека. Но эта мысль быстро исчезла, уступив место другой: я должна узнать, что с Таней; и я тут же села на велосипед.
Я мчалась вовсю, низко согнувшись над рулем; приближаясь к больнице, я поехала медленнее, осторожнее. За сто метров до длинного больничного здания я сошла с велосипеда и стала осматриваться. И вдруг увидела Таню. Она выглядела как-то очень странно, и все же это была она. Она тоже заметила меня, нерешительно подняла руку. Сердце мое билось так, что я едва дышала. Я пошла ей навстречу. И снова мелькнула мысль: а вдруг здесь все же западня? Гитлеровские молодчики, вспомогательная фашистская полиция выставили Таню в качестве приманки? Они сидят в засаде и схватят меня, как только я появлюсь. Я поманила Таню к себе. Она подошла ко мне какой-то неуверенной, робкой и усталой походкой. Я поглядела на подъезд больницы. Никто за Таней не следил. Прислонив велосипед к стене дома, я пошла навстречу Тане и молча обняла ее. Она на несколько секунд крепко прижалась ко мне, как ребенок.
– Скорей, скорей, – торопила я ее, – садись на багажник!
Мы с бешеной скоростью помчались домой; я так волновалась, что велосипед выписывал зигзаги.
Всю дорогу мы не разговаривали. Подъехав к дому по задней тропинке, мы прошли через калитку в садик. Я втолкнула Таню в комнату и плотно задернула шторы. Мать и Юдифь поспешили Тане навстречу, на мгновение молча остановились, пораженные ее видом, затем бросились обнимать ее. Отец сухо покашливал, шептал что-то, бормотал себе под нос и снова кашлял. Когда настал его черед поздороваться с Таней, он от волнения не смог выговорить ни слова и только долго пожимал ей руки. Я стояла рядом и смотрела на отца и Таню. Только сейчас я как следует разглядела ее. На ней был ее собственный непромокаемый черный плащ, накинутый на странного вида мешковатое бумажное платье с очень длинным лифом и огромным вырезом у шеи. На ногах – черные огромные башмаки и грубые чулки противного розового цвета. От былого изящества Тани не осталось и следа. Однако не одежда так изменила ее: другим стало ее лицо. Оно осунулось, появились синие круги под глазами и синие жилки на висках, горестно сжатый рот казался чересчур большим; глаза утратили свою прежнюю теплую грусть – в них застыл ужас, они выражали суровость и какую-то безнадежность. Она озиралась вокруг, переводила взгляд с одного на другого. Видно, она сама не верила в свое возвращение. Отец пододвинул ей стул. Первая нарушила молчание мать:
– Ты голодна? Хочешь пить?
– Я погибаю, – проговорила Таня так же хрипло, как раньше.
Мать принесла ей хлеба, джема и чаю. Ужасно было смотреть, как Таня жадно, точно животное, проглатывала еду. Она не успевала даже прожевывать куски. Отец с матерью и Юдифь вышли в соседнюю комнату. Я хотела последовать их примеру, но Таня жестом задержала меня.
– Не оставляй меня одну, – сказала она.
Она дочиста все съела и выпила чай. Затем, закрыв глаза, откинулась на спинку стула. И тотчас же заснула, прежде чем я успела опомниться.
Весь этот вечер и ночь мы слушали Танин рассказ. Мать собрала в кучу всю ее одежду – она кишела вшами. Таня приняла душ и переоделась. Теперь, в своем старом платье, она выглядела еще более худой и хрупкой. Хрипота ее не исчезла даже и в последующие дни. Но она, не умолкая, торопясь и захлебываясь, рассказывала и рассказывала. Нервная дрожь, беспричинный смех, вся ее чрезмерно напряженная речь говорили о какой-то новой собранности, своего рода мужестве, рожденном отчаянием, как будто в душе Тани созрело намерение, которого я еще не могла постигнуть.
Таня стала рассказывать о тюрьме в «Холландсе Схаубюрх», о своем страхе перед битком набитой камерой и перед всевозможными ужасами. Немцы начали с грабежа: отобрали у заключенных часы, кольца, украшения, деньги, сложили в ящики и унесли. Затем ухмылявшиеся гитлеровские молодчики учинили обыск; бесстыдными руками ощупывали они тридцать раздетых женщин и девушек, загнанных в угол. Первое время заключенные питали тщетную надежду, что откуда-то придет желанное спасение и они избавятся наконец от зловония, грязи, звуков молитв и рыданий. А затем наступило полное безразличие; люди уже не роптали, они погружались в сон, лежа на голом полу, тесно прижимаясь к телам других людей, которые тоже пока еще были живы, но жаждали лишь одного – забыться. С каждым днем любопытство у людей притуплялось; их не интересовало, кто уходил совсем, кто появлялся вновь. Время от времени происходили душераздирающие встречи между людьми, уже привыкшими к своему положению, и новичками, которые вскоре так же тупели, как их предшественники. По прошествии определенного срока им предстояла отправка в лагеря, причем людей сортировали грубее, чем скот: разлучали детей и родителей, братьев и сестер, мужей и жен. И ее, Таню, тоже втолкнули вместе с другими в грузовик, высадили на перрон и с руганью посадили на поезд, идущий в Дренте.
– Все-таки в Вестерборк? – спросил отец.
Таня взглянула на него; только сейчас она узнала о том, что мы с отцом ездили в концлагерь. Хрипло засмеявшись, она сказала:
– Я знала, что меня наметили к отправке туда. Однажды даже выкрикнули мое имя. Но потом меня все же оставили на месте, не знаю даже почему. Только через две недели наступил мой черед. Чтобы охранять нас, в купе сел полицейский-голландец, очень молодой и весьма смущенный этим поручением; он не знал, как ему себя держать с нами. То он был очень вежлив, а то начинал кричать. Мы забросали его вопросами относительно лагеря. Сам он никогда там не бывал. Через два часа у него был уже такой вид, будто он готов пустить себе пулю в лоб. Я знала лишь одно: это единственный мой шанс на спасение. Когда мы проехали Хохефеен, уже темнело, и вдруг поезд замедлил ход. Я поднялась и сказала полицейскому: «Откройте мне дверь».
Он наивно и растерянно уставился на меня, словно я неожиданно ударила его по лицу. «Откройте дверь!» – крикнула я. Соседи по купе закричали, что я вдребезги разобьюсь, если сейчас спрыгну. Я засмеялась и сказала: «Заткнитесь! Не все ли равно, когда подыхать – месяцем раньше или позже…» Полицейский нерешительно встал, как будто не он здесь распоряжался, и, казалось, готов был позвать на помощь. Я схватила его за плечо, повторяя: «Откройте дверь!» Кажется, я даже выругалась. Поезд пошел несколько быстрее. Я попыталась отодвинуть дверь. Но ключ был у полицейского. Он отпер дверь, не говоря ни слова; на лбу у него выступил пот, как у умирающего. Все затаили дыхание. Когда я прыгнула, пронзительно вскрикнула какая-то женщина. Я скатилась по откосу вниз и осталась лежать во рву. Поезд ускорил ход. Я ощупала себя: переломов не было. На четвереньках выкарабкалась я наверх и очутилась по другую сторону рва. Я даже не стала выжимать плащ и платье. И тут я вдруг услышала свисток и зловещий скрип колес: это остановился поезд. Послышались крики; кричали по-немецки и по-голландски: «Человек спрыгнул! Человек убежал!» Я побежала. Бежала по пашне, сквозь кустарник. К счастью, уже смеркалось. Я мчалась вперед, спотыкалась, падала, снова подымалась на ноги. До меня все еще доносились крики. Не помню даже, сколько раз и откуда по мне стреляли. Я ни на секунду не останавливалась – только если случалось завязнуть в рыхлом песке и упасть. Среди высокого густого кустарника вилась дорожка, на нее я и свернула. Вскоре из-за живой изгороди показался крестьянский домик. Я постучала в окно. Открыла мне какая-то женщина. Увидев меня, она захлопнула дверь перед самым моим носом и задвинула изнутри засов. Я пересекла двор и вышла на пустошь. Было уже настолько темно, что все предметы утратили окраску и казались серыми. Мне послышалось, будто где-то далеко пыхтит, трогаясь с места, паровоз. Я вышла на довольно широкую дорогу. Нигде ни души. Взошла луна, озарив все отвратительным светом. На равнине не видно было ни одного дома, и только слышался лай собаки. И я двинулась на лай. Вероятно, прошло несколько часов, прежде чем я приблизилась ко второму домику; лай то доносился до меня, то надолго замолкал, и я шла наугад. Но вот я снова очутилась среди людей; оказалось, там было даже пять-шесть крестьянских ферм поблизости друг от друга. Я постучала в первый попавшийся домик, и крестьяне приняли меня и дали мне поесть. Я оставила у них свою одежду, кроме непромокаемого плаща, который уже высох на мне; хозяйка дала мне свое платье. Я записала ее адрес. Оставаться там дольше я не рискнула, хотя мне очень хотелось немного отдохнуть. Всю ночь мне пришлось идти. Хозяева дома показали дорогу через лес. Никогда еще не ходила я ночью в лесу и вряд ли когда-нибудь осмелилась бы. На этот раз он показался мне настоящим раем в смысле безопасности. Наутро я была уже в Меппеле. Только стало светать, как я уже подошла к станции; там стоял товарный поезд, отправлявшийся на юг; паровоз разводил пары. Я забралась на первую попавшуюся тормозную площадку. И тотчас же заснула. Но когда поезд тронулся, проснулась. И я узнала Велюве.
В Амерсфорте поезд остановился на сортировочных путях. Я увидала, что на линии работает группа железнодорожных рабочих. Я слезла с площадки и направилась в их сторону. Они вытаращили на меня глаза, будто увидели привидение. Я рассказала им, что спрыгнула с поезда, который вез евреев, и должна попасть в Гарлем. Рабочие переглянулись, и один из них спросил, есть ли у меня деньги. Денег у меня не было. Пошептавшись между собой, они начали рыться в карманах. Они собрали девять гульденов и передали их мне. Один рабочий провел меня через территорию на перрон; затем он пошел в кассу и вскоре вернулся с билетом в Гарлем: у него осталось еще около двух гульденов, и он отдал их мне. Мне нужно было ехать, даже если бы в это время меня разыскивали на всех дорогах. У меня не было никакого удостоверения на случай проверки документов в поезде. К счастью, проверки не было. В Амстердаме я села на голубой трамвай. На средней площадке ехала небольшая группа школьниц. Я упорно стояла среди них всю дорогу до Гарлема. И вот я здесь, у вас!
Таня довольно резко повернулась в сторону Юдифи, по лицу которой медленно катились слезы.
– Не реви! – сказала она. – Ты жива, я жива, все мы живы. Я попробую спастись.
Юдифь была потрясена и, стараясь скрыть волнение, прижала платок ко рту. Мы не произнесли ни слова. Только значительно позже поняла я, о чем Таня говорила. Но в тот момент я восхищалась ею, нет, вернее, мне было страшно за нее, я видела, что ею движет слепое чувство самосохранения.
Новый знакомый
Как-то в начале октября я ехала вечером на велосипеде по затемненному городу в наш штаб. Этой осенью стояла блестящая погода: лазурью сияло небо, солнце грело сильнее, чем обычно в это время года. Но за сияющей благодатью затаилась смерть. В последний день сентября в Амстердаме были казнены девятнадцать молодых коммунистов. Сообщение поместили в газетах с соответствующими нелепыми обязательными редакционными комментариями о том, что лопнуло долготерпение оккупантов. Страшное известие преследовало меня все эти дни. Пока я добиралась до дома Моонена, чтобы посоветоваться насчет Тани, на улице уже стемнело. Жара стала еще более душной и давящей, когда померк свет и все вокруг приобрело расплывчатые очертания. То тут, то там боковые улицы зияли таким кромешным мраком, будто прямо за ними начиналась преисподняя. Рядом со мной двигались затемненные последние трамваи, перегруженные пассажирами, даже висевшими на подножках. Вагоны, точно ископаемые животные с металлическими лапами и фосфоресцирующими щелями глаз, ползли мимо домов, которые могли сойти и за горные утесы и за глухие стены какой-нибудь тюрьмы. В темноте раздавался топот невидимых пешеходов, слабо жужжали фонарики, так называемые «динамки»; люди нажимали на рычажок, и призрачные синие огоньки вспыхивали во мраке. Все вокруг казалось чудовищным и нереальным, как будто нас отбросило к временам варварства, еще более далеким, чем средние века. Тревога за Таню, мысли о девятнадцати казненных, о начавшихся преследованиях беспокойно носились у меня в мозгу. Редко когда я так остро и глубоко ощущала, что вся атмосфера насыщена террором. Раньше мне не приходило в голову, что фашизм словно насадил в людских душах чумную заразу; но в тот вечер я как раз подумала об этом; мне казалось, я чувствовала, как в темноте зараза фашизма расползается, поражая людей еще здоровых. Я снова вспомнила, как Таня говорила весной: «Все утратило свою прелесть и аромат. Яд разлит в воздухе, которым мы дышим…» Когда я слезла с велосипеда около штаба, это ощущение настолько усилилось, что я не рискнула войти в дом, боясь, что меня тут же вырвет. Я стала ходить взад и вперед по саду, чтобы овладеть собой и побороть невероятное отвращение.
Несколько минут ходила я так позади дома, как вдруг кто-то осторожно отворил дверь и вышел наружу. Я пошла навстречу. Судя по короткой широкой тени, это был Том. Он остановился; я услышала характерный звук – на револьвере был спущен предохранитель. Я засмеялась – ведь я знала, что мне-то нечего бояться. Еловая ветка – сигнал безопасности – торчала в заборе, отделявшем сад от дороги; когда я проезжала на велосипеде, я мимоходом задела ее.
– Эй, это я, «дитя человеческое»! – сказала я.
– Господи Иисусе! – воскликнул незнакомый мужской голос. – Да это девчонка! – Затем человек понизил голос, в котором прозвучало скрытое любопытство: – A-а, понимаю, вы – новенькая.
Я ничуть не обиделась на слова незнакомца и последовала за ним в дом. Очевидно, он был здесь гостем, но таким гостем, который чувствует себя как дома. Он, конечно, слышал и о том, что я принята в группу Сопротивления. В большой комнате, где сидело человек пять моих товарищей, я разглядела этого незнакомца.
Он встал посреди комнаты под лампой и откровенно и внимательно рассматривал меня. Своей широкой коренастой фигурой он и в самом деле походил на Тома, а роста был такого же, как я; в профиль он казался даже худощавым. Светлые волосы были коротко острижены, а надо лбом и висками немного вились. Брови и ресницы были заметно более темные и густые; лицо, освещенное лампой, было покрыто теплым золотисто-коричневым загаром, отчего взгляд голубых глаз казался более твердым и выразительным.
Он был одет в свободную куртку с застежкой «молния», под курткой – белая рубашка; на ногах – черные спортивные туфли. У него был вид рабочего, который в свободное время занимается спортом; возможно, он бегун или велосипедист. Когда он неожиданно улыбнулся мне, как бы удовлетворенный сделанными им наблюдениями; все лицо его просветлело; но твердость и уверенность взора оставались прежними. Он протянул мне загорелою руку.
– Меня зовут Хюго, – сказал он с таким знакомым мне акцентом уроженца Кеннемерланда. Его имя упоминалось в штабе гораздо чаще, чем имена других отсутствовавших членов группы; здесь Хюго ценили очень высоко.
– А я – Ханна, – заявила я.
– «Дитя человеческое», – повторил он и снова засмеялся, обнажив свои мелкие белые зубы. – Недурная шутка. Как будто бы мы, остальные, дети ангелов…
Франс подошел к нам; на его гладко выбритом лице было написано самодовольство.
– Хюго – наш старый товарищ, Ханна, – обратился он ко мне. – Он на короткое время отлучался кое-куда… Ну, и там произошла заварушка, знаешь, майская забастовка. Хюго работал тогда на электростанции. Ну, а поел# того, как там тарарахнуло, с ним захотели перемолвиться словечком эсэсовцы. А Хюго счел это слишком большой честью для себя и сказал: «будьте здоровы»!
Все мы наконец сели. Свет переливался в волосах Хюго и сгущал золотистые тени на его лице.
– Да, в самом деле, слишком большая честь! – повторил Хюго. – Пришлось оттуда смыться. Целое лето я просидел в Лимбургской пустоши… вот! – И он шутливо выругался. – Для дачников в хорошие времена, быть может, оно и красивое место. Но только не для Хюго. Поговорить не с кем, только старая крестьянская чета да католический священник, который иногда забегал к нам, чтобы раздобыть сала, масла и фасоли и, между прочим, наставить меня на путь истинный. И так день за днем, ничего не делая, с двумя стариками, а ночью – между коровой и козой…
Лишь ради заработка пошел я на земляные работы в пустоши. Право, беднякам трудно заработать себе на хлеб.
– Что ж, наставили тебя на путь истинный? – спросила я Хюго.
Он засмеялся и начал крутить сигарету.
– Как бы не так. Я нашел путь истинный еще до войны. Жаль нашего славного сельского патера; он старался изо всех сил!
Мне незачем было спрашивать, что Хюго называл «путем истинным». Я невольно поглядела на его пальцы: каждое движение его рук было ловким, законченным и вполне естественным и непринужденным; жесты – в меру сдержанными. Я подумала: вот передо мной рабочий, борец Сопротивления; он никогда не сделает лишнего жеста. И вместе с тем подвижность и непринужденность, казалось, были неотъемлемым свойством его натуры.
– Хюго решил, что пришло для него время вновь вставлять нацистам палки в колеса, – сказал Франс. – Ну что ж, найдем применение его искусству. Людей нам не хватает.
Затем Франс понизил голос: в нем снова послышалось знакомое мне добродушное самодовольство.
– У меня есть пара хороших «задачек» для тебя, Хюго… все там же, в твоей старой «вотчине».
– Ого, Франс, ты, как всегда, полон блестящих планов! – сказал Хюго. Его губы тронула дружеская насмешливая улыбка, которую я уловила. – За мной дело не станет, ребята… если только задача выполнимая.
Франс тоже как будто заметил его беглую улыбку и легкий укол в его словах. Он втянул голову в плечи. Так улитка прячется в раковину, когда ее рожки натыкаются на что-нибудь неприятное. Я видела, что Хюго противопоставлял свою практическую сметку склонности Франса к фантастическим планам. Я с удовольствием констатировала этот факт; мне на всю жизнь запомнился первый урок стрельбы в «Испанских дубах»… Я подошла к Франсу и увела его к старому дивану – слишком тягостным стало молчание.
– Мне нужно поговорить с тобой, Франс, – сказала я. – По важному вопросу.
Остальные продолжали разговор.
В первый момент Франс был недоволен, что я прервала его объяснение с Хюго. Но когда я начала говорить о Тане, он все внимательнее слушал меня, в особенности когда я сказала, что ее постоянное пребывание в нашем доме, по моему мнению, может быть помехой для нашего дела и даже оказаться опасным. Франс некоторое время напряженно раздумывал над моими словами и наконец сказал:
– Я не встречал девушек подобного типа, но могу приблизительно себе представить, что это такое. Если дело действительно обстоит так, как ты рассказываешь, то тебе нельзя жить с ней под одной крышей. Ей придется переменить адрес, Ханна.
– Мы не можем устроить ее у первых попавшихся людей, – пояснила я. – Нужно найти ей покровителей, которые в случае необходимости могли бы выступить в роли надсмотрщиков. Но как это сделать?
Этим летом мы не одному подпольщику предоставляли кров. Порой это бывало очень трудно; но по сравнению с Таниным случаем все остальные были несложными. Однако теперь, когда Франс определенно сказал мне, что Тане надо от нас уехать, ее безрассудство, которое могло подвести всех нас, стало казаться мне более опасным, чем когда-либо. Я подумала об Аде. И сказала Франсу, что в Амстердаме у меня есть подруга, у которой я, пожалуй, могу попросить совета. Ей известно, кто такая Таня, добавила я. Франс кивнул, выражая свое согласие. Я видела, что он настроен очень серьезно: ведь он, конечно, в первую очередь подумал обо мне, о безопасности своего бойца.
В этот вечер я пробыла в штабе недолго. Я догадывалась, что Франс сгорает от желания поделиться своими планами с Хюго. Все товарищи и Хюго вместе с ними весело крикнули мне «до свидания!», когда я, стоя в дверях, помахала им рукой. Мной овладела какая-то глупая ревность, хоть я и понимала, что должна ее побороть. То была легкая зависть к Хюго, который неожиданно появился в штабе и будет делать то, о чем я уже давно мечтаю. Я была почти уверена, что разговор, который состоится после моего ухода, будет своего рода мужским заговором, тайным соглашением всячески щадить меня и не давать опасных поручений только потому, что я девушка. Совершая на велосипеде обратный путь в душной, черной, как бархат, ночной темноте, я почувствовала, что нервное напряжение, о котором я в штабе как-то позабыла, охватило меня с новой силой, как только я осталась одна. Однако теперь эта напряженность вылилась в острую потребность перейти к действиям, оправдать свое назначение. Не все ли равно, девушка я или мужчина, я больше не хочу, чтобы меня щадили!








