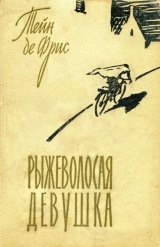
Текст книги "Рыжеволосая девушка"
Автор книги: Тейн де Фрис
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
Про себя я подумала, не использовать ли создавшуюся обстановку, чтобы устроить небольшой шантаж и потребовать новые револьверы. Видит бог, мы сумели бы их хорошо использовать. Но я оставила это намерение. В конце концов, я была для этого слишком горда.
– Пока мы не можем сказать ни да, ни нет, – заявила я.
– Завтра я приду к вам и сообщу, что мы решили, – добавила Ан.
Магистр Паули посмотрел на нас благодарным взглядом.
– Чем скорее, тем лучше, – сказал он. – Вы знаете, как обстоит дело: эта сволочь каждый день приносит слишком большой вред… Она выдает оккупантам одного человека за другим.
Мы простились, получили по неизменной сигарете и отправились в Гарлем, в мою холодную комнату, чтобы обсудить все дело.
– Значит, у этих господ имеются связи даже с гарлемской полицией, – сказала Ан.
– А этот парень поставляет им полицейские пистолеты, – заявила Тинка.
– Я сразу же поняла это, – подтвердила я.
– Почему они так боятся этой мадам? – спросила Ан. – Если она выдаст кого-нибудь из них, то они сейчас же сумеют освободить его. Или же…
– А видно, что, они очень хотят разделаться с ней, – сказала я.
– Они точно так же хотели разделаться с бывшими эсэсовцами, – заметила Тинка. – Разве они были настолько опасны?
– Они грабили голландцев, – сказала я. – Но у меня не создалось впечатления, что мадам Шеваль асоциальный элемент.
– Каждый фашист асоциальный элемент, – поправила меня Ан.
Мы судили и рядили так и этак. И пришли к заключению, что мы слишком многое пытаемся раскопать в этом деле. В других случаях, когда надо было уничтожить предателей и коллаборационистов, мы долго не мешкали и не сомневались.
– Давайте все же попытаемся ее выследить, – предложила под конец Тинка. Ее молодой задор и страсть к приключениям увлекли и нас.
– Ничего не могу с собой поделать, – сказала Ан. – Мне просто любопытна вся эта история.
Мы начали выслеживать мадам Шеваль точно так же, как раньше выслеживали других. Мы отправились в Хемстеде по указанному адресу. Мы сделали безукоризненный сверток, с которым Тинка явилась к двери дома, где в свое время жила мадам Шеваль. Тинке сказали, что мадам Шеваль давно переехала оттуда. У Тинки был очень разочарованный вид, и ей сообщили, что француженка переселилась в пансионат в Оверфеене, но в какой именно – неизвестно.
Через несколько дней мы, захватив список пансионов, прибыли на велосипедах в Оверфеен и в каждом из перечисленных мест повторяли нехитрый трюк со свертком. В четырех из пяти адресов никакой мадам Шеваль не знали. В пятом месте мы услышали, что ее увез какой-то офицер вермахта и что хозяева просто рады были избавиться от сомнительного постояльца – этой иностранки!
– Что значит «увез»? – задали мы вопрос. – Арестовал – вы хотите сказать?
– Да нет, пожалуй, – сказали нам. – Она не арестована; приехала автомашина, она погрузила чемоданы и весело уселась вместе с ребенком.
– С ребенком? – переспросили мы; нам не было известно, что у нее есть ребенок.
– О да, у нее мальчик лет трех… И немецкий офицер забрал с собой мать и ребенка; с тех пор никто ничего больше не слыхал о мадам Шеваль.
След этот оказался мертвым. Разнося «Де Ваархейд», мы смотрели во все глаза по сторонам, нет ли где дамы, похожей по виду на француженку – по нашим предположениям, она должна была выглядеть довольно шикарно. Мы не смели больше показываться в Фелзене; там, несомненно, начали проявлять нетерпение, поскольку мы после первых успехов застряли, оказавшись перед какой-то загадкой.
Сверток
Нацистам пришлось убрать руки от шведского хлеба и шведского маргарина. Ответственность за их распределение взял на себя Красный Крест. Все, что немецкие власти могли сделать, это выдать талон, по которому следовало получать эти блага. Половину белой булки и полпачки маргарина на душу. Этот паек был теплым островком среди моря голода и зимней стужи…
Холодная зима все тянулась и тянулась, как будто провидение Гитлера в самом деле помогло ему чинить зло честным людям. Мороз все усиливался. У нас еще лежал сверток, который нам следовало доставить в Гаагу по поручению Мэйсфелта. Но это было пока невозможно. Мы сидели в штабе около слабого огонька печурки и вздыхали. В эти студеные дни поступило сообщение о конференции в Ялте. Руководители Большой тройки собрались в Крыму, как в свое время собирались в Тегеране, чтобы обсудить вопрос о том, каким образом будет закончена война.
– Закончена, ты слышишь это, Рулант? – сказали мы, подталкивая нашего начальника, на которого частенько находило пессимистическое настроение. Он что-то буркнул и сказал нам:
– Лучше слушайте дальше.
Английское радио сделало подробное сообщение о переговорах и затем перечислило принятые в Ялте решения. Германия, германская нация, торжественно заявил диктор, получит возможность вернуться в семью миролюбивых народов. А извечной тирании и извечной агрессии немецкого милитаризма будет положен конец. Немецкий милитаризм исчезнет вообще; вместе с нацизмом исчезнут и воинствующие бароны, фабриканты оружия, генералы и самый источник агрессии, направленной против Европы с тех пор, как существовала Германия, – а именно немецкая армия.
Мы тихо сидели, думая об оккупированной Европе, о виселицах, о стенах, у которых расстреливали людей, о мрачных тюремных камерах, о лагерях и душегубках. Мы думали о мертвых, которых невозможно похоронить, потому что нет досок для гробов. Трупы, завернутые в кусок парусины, в простыню, в старое пальто, укладывали на трехколесный велосипед с коляской или на санки и везли на кладбище. А могильщики частенько встречали родственников умерших требованием выдать им буханку хлеба, кулек пшеницы или фасоли, прежде чем они воткнут лопату в твердую, как камень, землю. Мы думали о повышении цены на наших соотечественников, которых отправляли в Германию: служащие немецкой вспомогательной полиции за каждого схваченного ими голландца получали теперь пять гульденов. Мы думали о судах с продовольствием, которые направляли наши соотечественники из Твенте, из Гронингена в немецкий «форт» Голландию, чтобы хоть немного утолить голод своих собратьев, которых эсэсовцы ловили и выкрадывали… Молча сидели мы у печурки. От мороза стекла в окнах стали белыми и непрозрачными. А за окнами простиралась голландская земля под толстой корой снега и замерзшей грязи. Мне казалось, будто это кора покрывает всю землю и под этой корой отчаянно борется и умирает человечество, потому что так распорядилась кучка немцев, обуянных жаждой власти…
Прошла неделя, в течение которой мороз так измучил нас, и вот наступила тихая погода. Было все еще околo восьми градусов холода, но ветер улегся. Мы решили доставить наконец сверток Мэйсфелта в Гаагу; невыполненное поручение с каждым днем все больше тяготило нас. Мы и на этот раз решили отправиться втроем; на дорогах не прекращались проверки и облавы, и в случае необходимости надо было с оружием в руках защищать жизнь друг друга.
Мы тронулись в путь, но не по шоссе, а по проселочным дорогам, через Рейхенхук, Лэйвенхорст, Рейнсбурх, Фоорсхотен. Мы то и дело отдыхали, как и другие люди, которые встречались нам по дороге – с велосипедами, тележками, детскими колясками. Впрочем, их было не так много.
Когда мы добрались до канала Флит около Фоорсхотен, мы почувствовали, что двигаться дальше у нас нет сил. Поездка наша, казалось, никогда не кончится. Я остановилась, бросила велосипед, он упал на откос, а вслед за машиной свалилась и я сама. Ан и Тинка поступили точно так же. Нам незачем было разговаривать, мы и так понимали друг друга; мы умираем от голода, нам все безразлично, мы близки к отчаянию. Лежа возле дороги, я думала: вот, значит, как это бывает… Признаешь себя побежденной, опускаешь руки, протягиваешь ноги – холод и голод довершают остальное… Мне с трудом удалось овладеть собой, – я испытывала острый соблазн безвольно поддаться усталости. И я растормошила Тинку.
– Пять минут… не больше, – заявила я.
Тинка, по-видимому, думала так же; затем я начала тормошить Ан. Мы поглядели друг на друга, и я повторила:
– Пять минут, не то мы заснем и наши велосипеды украдут.
Ан кивнула, как будто в этом было все дело… Только сейчас я увидела, как похудела у нее шея. Ее молодое прекрасное лицо покрылось морщинами и темными пятнами, а бесстрашная мордочка Тинки обострилась от голода. Мы сказали «пять минут», это значило: не поддаваться усталости, не заснуть… Ан даже поднялась и села, обвив колени руками. Она сказала:
– Ты знаешь, что любопытно в этом свертке, который лежит у Тинки в кармане? Он точь-в-точь такой же, как тот, что я в свое время отвозила шпику из «службы безопасности».
– Что же тут любопытного? – спросила я.
– Гм… Я подумала… Интересно бы узнать, что в нем находится.
– Это уж дело Мэйсфелта, – сказала я.
– Дело движения Сопротивления, – уточнила Ан.
Мы посмотрели друг на друга. А Тинка вытащила сверток из своего глубокого кармана. Мы рассматривали его со всех сторон; он был нетяжелый; вероятно, в нем помещалась деревянная или картонная коробка.
– Ну ладно, – вдруг сказала Тинка. – Я распакую сверток.
– Ты что, рехнулась? – воскликнула Ан. – Таких вещей нельзя делать.
– А почему? Ты же сама говоришь, что это дело движения Сопротивления… Мы тоже ведь участвуем в нем.
Ан подперла рукой щеку и слабо улыбнулась. – Может, ты права. Меня, конечно, разбирает любопытство.
– И меня, – сказала я. – Давай, Тинка. Открывай. Отвечать будем все вместе.
Тинка подула на пальцы и принялась развязывать веревку. Она никак не поддавалась. По очереди дули мы на пальцы, по очереди ковырялись с узлом. Наконец он развязался. Бумагу развернули в одно мгновение. И показался плоский ящичек… «Двадцать пять штук» – прочла я на ярлыке; а между нарисованными золотыми медалями и пестрыми этикетками – слова «Flor de Havana»[60]60
Цветок Гаваны (исп.).
[Закрыть].
– Черт возьми!.. – воскликнула Ан. – Сигары!
– Сигары? – переспросила Тинка, как будто их вид и тонкий, приятный запах дерева и табака ничего не говорил ей. – И ради этого я должна рисковать своей жизнью?
– Разве это дело движения Сопротивления? Снабжать куревом шпиков и полицейских инспекторов? – сказала Ан.
– Вот тебе и связи, – пробормотала я. – Наши друзья из Фелзена могут освободить каждого, кто попадет в когти нацистов. Они расчищают себе дорожку к немецкому милосердию с помощью довоенных голландских сигар…
Слезы подступили у меня к глазам – на этот раз гневные слезы. В моем усталом и продрогшем теле загорелось пламя былой, неукротимой энергии.
– Ну, кончай, Тинка, – сказала я. – Запаковывай все снова… Мы доставим курево господину инспектору Блескенсу. А затем пойдем к Мэйсфелту и потребуем у него объяснения.
Никто из нас не чувствовал более усталости. Мы осторожно, дуя опять на пальцы, упаковали ящичек с сигарами; мы продолжали свой путь, с яростью нажимая на педали. Доехав до Гааги, мы нашли дом человека, которому следовало вручить ящичек. Мы решили пойти к нему вдвоем с Тинкой. Взяв ящичек, мы пошли к тому дому, номер которого Мэйсфелт написал нам на папиросной бумаге. Мы позвонили и подождали немного. Дверь открыл человек в свитере, в черных полицейских брюках и сапогах.
– Господин Баккер? – спросила я.
Он испытующе оглядел меня с ног до головы в высшей степени недоверчиво, если не сказать презрительно.
– Баккер? Нет, – коротко ответил он. – Баккер не живет здесь, и я не знаю такого… Меня зовут Блескенс.
– Тогда правильно, – сказала Тинка. – У нас есть сверток для вас, из Фелзена, вы знаете, от кого.
Мужчина раскрыл пошире дверь, которая была лишь приотворена, и быстро сказал: – Входите.
Мы очутились в длинном, неуютном, очень светлом коридоре, какие бывают в некоторых старомодных, но не старых голландских домах. Блескенс протянул руку к свертку.
– Дайте его мне… и подождите один момент… Я посмотрю, нужно ли дать ответ.
Мы ничего не сказали. И, поглядев друг на друга, стали ждать. Инспектор вернулся через минуту. Очевидно, пальцы у него не были холодными, как у нас, а может, у него был хороший перочинный нож. На его лице ясно было видно удовольствие, хотя он старался не показать его.
– Ответа не будет, – сказал он. – И спасибо вам за труды…
Он еще раз внимательно поглядел на нас, как будто пытался объяснить себе, почему это его фелзенские друзья держат таких оборванных и жалких рассыльных, как мы. Затем он сунул руку а карман брюк и вытащил оттуда бумажный гульден. И немного нерешительно протянул его Тинке.
– Может быть… – сказал он и не успел закончить фразы. Тинка перебила его быстро и зло:
– Спасибо! Денег мы не берем. Мы работаем для Сопротивления.
И мы решительно двинулись к выходу. Ни слова не говоря, дошли мы до перекрестка, где нас ждала Ан. Она вопросительно поглядела на нас.
– Этот болван хотел дать нам гульден… гульден за один ящичек сигар! – сказала Тинка.
– Нет, за труды… – добавила я.
– «Ответа не будет», – передразнила Тинка полицейского. – Ха! За ответом мы сами поедем в Фелзен.
Теперь, когда наша миссия была выполнена, я почувствовала слабость. Мы доставили сверток в Гаагу потому, что нас подгоняло сознание долга и возмущение. А теперь мы стояли на пустынной улице Гааги, усталые, голодные, беззащитные, и растерянно глядели друг на друга.
– Молодчик удивился еще, почему у нас такой жалкий вид, – сказала я. – Это можно было прочесть по его глазам… А мы-то из сил выбивались, снабжая табаком его и ему подобных! Теперь ясно, что было во всех свертках, которые мы развозили – в Халфвех, в Лейден, Фрицу… Табак был! Рис! Колбаса!.. И бог знает что еще!
– А мы-то гоняем на велосипедах, – сказала Тинка, – с револьверами в карманах, и полиция нас разыскивает…
Мы поплелись обратно к Рейсвейку, к каналу Флит. Мы были слишком измучены и расстроены, чтобы сесть на велосипеды.
– Если бы теперь был здесь магистр Паули или хотя бы инженер, – сказала Ан, – мы бы выяснили, где можно получить хороший обед по вольным ценам. Думаю, нам придется ехать обратно с пустым желудком.
– Проделать столько километров… – добавила я. – Не щадя себя…
Тут я впервые увидела, как Тинка плачет. Плакала она почти беззвучно, ее узенькая спина сотрясалась, и она закрыла рукой свое покрасневшее осунувшееся лицо.
– Тинка, Тинка!.. – успокаивали мы ее.
Все еще закрывая лицо, она проговорила приглушенным голосом:
– Если я увижу Мэйсфелта или кого-нибудь другого из этой банды, я всажу ему пулю в лоб… Всажу, непременно всажу!
Нам долго еще пришлось уговаривать ее. Но в конце концов она успокоилась. Засопела, высморкалась. Мы молча вскочили на велосипеды и опять поехали вдоль канала Флит.
Начало смеркаться, когда мы добрались до Арденхаутс Налденфелд. Сколько раз мы отдыхали, клюя носом, и сколько раз боролись со сном, валившим нас с ног, никто из нас и не считал. Мы медленно ехали, словно механически выполняя скучную, томительную процедуру. Казалось, мы стоим на месте, так медленно проплывали мимо нас домики, живые изгороди, вырубленные участки леса, где остались лишь пни и сломанные мелкие деревья. Возле Налденфелда мы услышали позади себя слабое пыхтенье автомобиля; так пыхтели газогенераторные автомашины. Мы догадались, что сейчас нас обгонит небольшой немецкий грузовик. Грузовик, чадя, проехал мимо нас; и в тот момент, когда он обгонял нас, мы увидели тепло укутавшегося жандарма под коричневым брезентовым тентом. Заметив нас, он нагнулся, вытащил какой-то предмет и бросил его нам. Сквозь пыхтенье мотора слышен был насмешливый хохот жандарма. Он помахал нам рукой и исчез вместе с грузовиком за поворотом.
Мы слезли с велосипедов. Ан оказалась ближе всех к предмету, который бросил жандарм. Она наклонилась и подобрала хлеб – плотный, темный кирпич солдатского хлеба.
– Господи, видели вы когда-нибудь такое? – воскликнула она.
Первым ее побуждением было поднять хлеб и швырнуть его прочь, в оледеневшие под снегом кусты. Мы с Тинкой схватили ее за руку.
– Ты что, с ума сошла? – возмутилась я. – Еда есть еда!
Я уже взяла у нее хлеб, чтобы разломить его на три части, как вдруг Тинка произнесла странным тоном: – Значит, вы не видели, кто бросил хлеб?..
Мы молча уставились на нее.
– Это был Пауль! – сказала Тинка все тем же странным тоном – В форме полевой жандармерии!
– Пауль? – повторили мы. Ан спросила – Тот, из бетонированного укрепления в Эймейдене?
– Он ведь служит в военно-морском флоте! – сказала я.
– Клянусь, это был Пауль, – сказала Тинка. – Кроме того… кому из полевой жандармерии придет в голову бросать нам хлеб?
– Похоже, однако, что он издевался над нами, – заметила я.
– Может, тебе это только показалось, – сказала Ан.
Я раздала хлеб, и мы начали есть, тщетно пытаясь разрешить загадку, которую нам только что задали. Грузовик пыхтел где-то далеко, очень далеко. Мы жевали и проглатывали хлеб с волчьим аппетитом. За последние месяцы мы впервые ели хороший хлеб. Это придало нам мужества и сил, чтобы проделать последний этап пути в Гарлем под вдруг посыпавшим мелким снегом. Последние наши слова были все о том же непонятном человеке, с которым мы познакомились в Фелзене и который так неожиданно сменил форму.
Барышня Бисхоп…
На следующий день нам предстояло получить шведский хлеб и маргарин, поэтому отпала намеченная нами поездка к фелзенцам, – мы хотели потребовать у них объяснений по поводу ящика с сигарами, который мы по их поручению доставили. В штабе мы устроили некоторое подобие банкета: у каждого из нас было больше одной продовольственной карточки, и каждый из нас получил по целому хлебу и фунту маргарина. Вейнант уступил свою дополнительную порцию Руланту, у которого были дети, а Вихер взялся отнести мою дополнительную порцию моим родителям. Мимоходом он также рассказал мне, что несколько дней назад он принес им немного дров – распиленные железнодорожные шпалы. У всех было прекрасное настроение, и хотя мы сначала думали разделить белый хлеб на маленькие порции и растянуть его надолго, голод до того измучил нас, что мы за один присест съели все до последней крошки. Особенно взволновало нас сообщение, полученное в этот день нелегальным путем: два судна с бензином и нефтью, которые оккупанты сумели бог знает откуда привести в Утрехт, взорваны борцами Сопротивления. На Восточном фронте немецкие войска огромными партиями сдавались в плен: десятки тысяч солдат вермахта бросали оружие и уходили к русским. Американцы наконец отбросили за Рейн войска Рундштедта и подошли к линии Зигфрида; однако по сравнению с тем, что происходило на Востоке, достижения их были весьма скромными. Их соотечественники на Дальнем Востоке продвигались быстрее; они добились того, что японские гавани оказались в радиусе действия американских бомбардировщиков.
Когда мы вновь отправились в Фелзен, наше возмущение из-за ящичка с сигарами несколько поостыло. Мы условились, что пока не будем поднимать разговор об этом и посмотрим, какие еще будут для нас поручения у фелзенцев. На этот раз мы прождали внизу с полчаса и, когда поднялись наверх, увидели там Паули и Каапстадта. По их лицам я увидела, что они хотят что-то нам сообщить: они взволнованно, если не сказать торжественно, встали.
– Садитесь, садитесь, – сказал магистр Паули, который, видимо, ради этого случая зажег преогромную праздничную сигару. – У нас есть новости относительно этой… Как ее там, Каапстадт?
Каапстадт, глядя не на нас, а на кончики своих до блеска начищенных ботинок, произнес:
– Мадам Шеваль.
Магистр Паули продолжал своим прежним сердечным тоном:
– Мадам Шеваль… верно, так ее зовут. Впрочем, фамилия весьма забавная, так ведь, госпожа С.? Да, вам удалось в свое время проследить за ней вплоть до того момента, когда офицер вермахта увез ее из пансионата, не правда ли?
Мы кивнули. Он сделал небольшую паузу, весело рассмеялся и сказал:
– Вы, конечно, думаете, что этот мужчина… или, иначе говоря, что мадам Шеваль – любовница немецкого офицера? Ошибка, мои дамы, ошибка! По нашим сведениям, он ее брат.
Он снова сделал паузу, чтобы дать нам возможность почувствовать всю значительность новости.
– Ее брат, – повторил Паули. – Она оказалась урожденной немкой, которая за несколько лет до войны вышла замуж за француза. Она вполне законно носит фамилию Шеваль. Имя стало французским, а сердце осталось немецким, понимаете? О господине Шевале мы ничего больше не знаем. Брат же снял для своей сестры квартирку в чудесном городе Гарлеме. Он изредка заходит туда отдохнуть от служебных забот.
Он снова радостно засмеялся во весь рот; Каапстадт только как-то цинично осклабился, будто мало верил в эти россказни о брате и сестре и находил все это просто чепухой, а мы вежливо улыбались по мере сил и возможностей. До сих пор я не видела ничего смешного в этой истории.
– Значит, поручение остается в силе? – сказала я, чувствуя, что молчание неприятно затянулось.
– Остается в силе, – подтвердил Каапстадт. Теперь он рассматривал свои ногти, которые – в этом я ни чуточки не сомневалась – имели более цивилизованный вид, чем мои.
Я продолжала:
– Вы говорите о ваших сведениях, господин Паули… Я полагаю, вы получаете их от вашего друга Пауля?
Паули и Каапстадт удивленно взглянули на меня.
– Да-а, – протянул Паули. – Разве необходимо в каждом случае называть источник своей информации?.. В данном случае это был действительно Пауль… Вас это интересует?
Мы все три кивнули. Мужчины посмотрели на нас еще внимательнее.
Ан быстро заговорила:
– Да, нас это очень интересует… Недавно вы представили нас Паулю, тогда он служил еще в военно-морском флоте, так говорили по крайней мере… Во всяком случае, он находился тогда с матросами в бетонированном укреплении в Эймейдене… А на днях мы вновь видели его, и он был в военной форме полевой жандармерии.
Паули и Каапстадт обменялись взглядом. Каапстадт зажег сигарету, а Паули рассмеялся еще более дружелюбно, чем обычно.
– Помилуйте! Мне незачем объяснять вам, что немцы находятся сейчас в стесненном положении, что им не хватает людей… Им приходится посылать слишком много солдат на Восток! Поэтому они были вынуждены – это точно – направить одну группу военных моряков на службу в полицию. И уверяю вас, Пауль тотчас же вызвался пойти туда.
– Вызвался? – почти одновременно переспросили мы.
Каапстадт наклонился к нам – Разумеется. Пауль ведь антифашист. Он работает на нас. Поэтому он воспользовался предложенной ему возможностью добывать больше сведений, чем до сих пор.
Он произнес это нетерпеливо, точно отчитывая нас, и даже с оттенком предостережения, будто хотел сказать: больше вам ничего знать не полагается. Какое вам дело, с кем мы сотрудничаем?
Я все поняла, Ан и Тинка, по-видимому, тоже.
– Значит, так, – сказала Ан.
– Да, – подтвердил Паули. Он все еще улыбался, но смех точно застыл на его лице и был уже совершенно неуместен. – Ну а теперь «вернемся к нашим баранам» или, во всяком случае, к нашей «лошадке»… Ха-ха-ха! Вот адрес небольшой виллы, где она живет. Завершение этого дела мы, разумеется, предоставляем вам.
– Кстати, как обстоит дело с другим поручением? – спросил Каапстадт. – Насчет разрушителя Эймейдена и Дрихейса? Об этом вы нам ничего не сообщали.
Я почувствовала, как мое лицо вспыхнуло ярким румянцем. Ни на кого не глядя – мои подруги тоже не подымали глаз, – я сказала – Пока полная неудача… Собака негодяя испортила все дело.
Я рассказала о наших злоключениях, о волопасе и его хозяине, которого мы так и не увидели. Паули и Каапстадт выслушали рассказ, не делая никаких комментариев и ни о чем не спрашивая. Когда я кончила, Паули сказал:
– Жаль… очень жаль. Может быть, вы позднее еще раз попытаетесь заняться этим делом. Человек этот стоит в списке, вы ведь знаете… Но мадам Шеваль гораздо важнее. Тот сделал свое дело, а она вредит каждый день и сейчас!
Он вышел из-за своего бюро, подал всем нам руку и пожелал успеха – давая понять, что наша беседа закончена. Каапстадт последовал его примеру.
– Надеюсь, мадам Шеваль на приобрела себе собаку или какое-нибудь другое чудовище, – сказал он.
Раздосадованные, с тяжелым чувством возвращались мы в Гарлем.
– Последнее замечание инженер мог бы, конечно, оставить при себе, – скептически усмехнулась Тинка.
– Придется нам снова заняться этим человеком, – сказала Ан. – А что, собственно, имел в виду Паули, когда сказал, что «Шеваль» такая смешная фамилия?
– Это слово означает «лошадь», – пояснила я. – Просто плоская шутка Паули.
– А я уже думала, что мы избавились от этой женщины, – вздохнула Тинка. – Фу! Я против того, чтобы стрелять в женщину!
– Это так, конечно, – сказала я. – Но если она выдает хороших людей «службе безопасности»?
В тот же день мы отправились на разведку к дому, где брат поместил свою сестру – французско-немецкую шпионку. Дом находился позади Спаньярдсалле, в направлении к Бейтенспаарне; это была старинная вилла, построенная в стиле швейцарского шале, на высоких столбах. В саду росли хвойные деревья и остролистник и стояла беседка из камыша. Окна в доме оттаяли – это говорило не в пользу мадам Шеваль и сразу бросалось в глаза, потому что всюду вокруг стекла были белые от мороза. Проезжая на велосипеде мимо дома, мы заметили возле лестницы, ведшей на галерею, детские саночки. У меня сжалось сердце. Я постаралась скорее забыть, что видела эти санки.
Мы обследовали дом и прилегающую местность со стороны улицы, проходившей позади шале. Мы заметили, что с этой стороны шале было скрыто от глаз, защищено каменной стеной, которая была щедро утыкана битым стеклом. И сад, расположенный перед домом, был также надежно защищен от внешнего мира—. там была собака, правда, не волопас, а овчарка: пока мы ехали мимо, она бежала за нами вдоль ограды с внутренней стороны и остановилась, лишь когда мы удалились.
– И думать нечего, с этой стороны не удастся, – сказала Тинка.
– Со всех сторон садовая ограда, – добавила Ан. – Как хорошо эта дама выбрала себе местечко, где поселиться!
– Посмотрим, что имеется напротив, – предложила я.
Напротив шале помещалась небольшая вилла под названием «Черные дрозды»; она тоже была старомодная, с узенькими окнами по фасаду и французскими окнами сбоку. Перед нею – желтая дорожка из брусчатки. Возле дома росли отдельные кусты и густо покрытые снегом голубые ели. Это место для наблюдения за мадам Шеваль было просто идеально.
– Как же нам попасть в этот дом? – вздыхала Ан.
Интересно, кто там живет, думала я.
Острое личико Тинки еще больше вытянулось. Мы поехали вдоль канала обратно. Тинка сказала:
– Фелзенцы должны нам помочь…
– Каким образом? – спросила Ан.
– Их инспектор полиции знает гарлемского инспектора, – сказала Тинка. – Он должен устроить так, чтобы мы могли попасть в дом напротив «лошади». Будем надеяться, что там живут порядочные люди.
Мы с Ан обдумали это предложение. Сначала оно показалось мне фантастическим, но чем больше я размышляла, тем реальнее оно мне казалось.
– Тинка, – сказала Ан, – если бы это удалось!..
– Тинка, – воскликнула я, – гениальная идея!
– Единственно возможный выход, – сказала Тинка скромно и в то же время с гордостью.
Было слишком поздно, чтобы еще раз ехать в Фелзен, да и не стоило нам зря расходовать свои силы. И мы отправились туда лишь на следующий день. Паули там не оказалось; а инженер Каапстадт терпеливо и внимательно выслушал наши объяснения. Мы начертили для него план расположения шале и дома, насколько нам позволяла память, и убедили его в том, что наблюдательный пост в «Черных дроздах» является единственным – он дает возможность осуществить ликвидацию шпионки. При условии, что кто-нибудь введет нас в эту обитель.
Каапстадт тоже спросил – Ну хорошо… Каким же образом?
Мы рассказали о плане Тинки – о посредничестве полиции. Каапстадт поглядел на нас так, будто хотел сказать, что мы очень уж расхрабрились, затем впервые рассмеялся и сказал:
– Да, смелая затея, смелая затея… Но тут есть и кое-какие трудности… Разумеется, сегодня я не смогу дать вам окончательный ответ, я должен хорошенько подумать.
Мы условились с ним относительно дня, когда мы можем явиться и узнать о решении фелзенского штаба. Мы пришли в назначенный день, и нам не пришлось и трех минут ждать внизу. Паули, Каапстадт и Мэйсфелт сидели наверху вместе с уже знакомым нам инспектором полиции. Они были любезны как никогда. Инспектор сказал, что план, который мы предложили, свидетельствует о находчивости и смелости, – и румянец прилил к щекам Тинки… Уже есть договоренность с обитательницей «Черных дроздов». Да, да. Там, в старом доме, живет лишь один человек, дочь очень известного здесь и всеми уважаемого врача. Это уже пожилая дама, немного странная, но очень энергичная и прежде всего большая патриотка, уверял фелзенский инспектор; она с восторгом согласилась содействовать ликвидации мадам Шеваль; уже с самого начала она заметила, что там не все в порядке, а барышня Бисхоп отнюдь не мягкосердечная особа, особенно после 1940 года…
– Многообещающе, а? – спросил магистр Паули.
Мы утвердительно кивнули. Я спросила:
– А когда мы сможем занять пост в доме?
– Чем скорее, тем лучше, – ответил инспектор, бросая взгляд на Паули. – Дело это и так уже затянулось… Я направлю вас в Гарлем к моему коллеге, который знает о вас. Он и введет вас в дом госпожи Бисхоп.
Мы точно договорились о том, как он нас представит хозяйке и как будет осуществляться руководство операцией. На этот раз нам пожелали успеха четверо – в том числе и Мэйсфелт, который держался спокойнее, чем обычно. Мне показалось, что фелзенцы были довольны. И я снова подумала: почему они так торопятся с мадам Шеваль? Что это за человек? Два дня спустя, к вечеру мы были уже в «Черных дроздах». Гарлемский инспектор полиции – на этот раз он был в штатском платье – проводил нас туда. Этот тощий и довольно ехидный тип, казалось, находил удовольствие в том, чтобы подтрунивать над нами. Как-то он нам сказал – А ведь я сразу узнал вас! – Это, разумеется, нам напомнило о том, что наши имена значатся в полицейском реестре и что немцы требуют нашего ареста. И в дальнейшем он позволял себе подобные желчные остроты, намекая на расклейку плакатов и прочую наказуемую подпольную деятельность; он представил нас барышне Бисхоп как «трех знаменитых злоумышленниц». Он хитро усмехался, как бы давая понять, что ему принадлежит власть и тут и там – у оккупантов и в движении Сопротивления! И оставил нас, вероятно, очень довольный, что потрепал нам нервы.
Барышня Бисхоп была длинная, худая особа. Я не знаю, отощала ли она из-за недостатка продовольствия или всегда была такой. Одета она была в темно-коричневое платье, заколотое у ворота старомодной агатовой брошью. Верхняя челюсть была у нее искусственная и щелкала, когда она говорила; кроме того, мы заметили, что она носит парик. Две худые голодные кошки, мурлыча и жалобно мяукая, терлись об ее ноги, обутые в тяжелые домашние туфли густо-черного цвета. Она провела нас в комнату, откуда мы могли видеть шале Лошади, как стали мы называть немецкое французскую даму.








