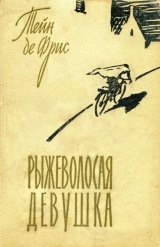
Текст книги "Рыжеволосая девушка"
Автор книги: Тейн де Фрис
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
Жестокие истины
На следующий день я позабыла, что хотела обсудить в нашем штабе события в Греции. Вместе с подругами мы сделали Руланту отчет о нашем посещении фелзенцев.
– Гм, вот как. Ну, дело ваше, – сказа# наш начальник чуточку желчно. – Надеюсь, там работа вам больше понравится.
Всего дня два спустя поступили новые известия о столкновениях между британскими войсками в Греции и партизанами этой маленькой многострадальной страны. Как только представился случай, я подняла в штабе этот вопрос. Среди нас не было ни одного, кто бы не понял, что английское правительство допускает там подлые и двусмысленные выходки.
– Этот Черчилль просто нахал, – сказал Рулант, – поверьте мне, он ведет нечестную политику… Вы понимаете, конечно, что там происходит.
– И как еще, – отозвалась я. – На Даунинг-стрит уже опасаются образования свободного греческого правительства с участием коммунистов.
– Вы так думаете?.. – удивился Вейнант, менее нас искушенный в политике.
– А ты думаешь по-другому? – сказал Рулант. – Что они загоняют силы ЭЛАС в горы только оттого, что ЭЛАС хорошо сражалась против немцев?.. Ну так вот, увидишь. Коммунисты будут истекать кровью, пока страна находится в трудном положении; а по окончании войны им дадут пинка под зад.
– Что же тогда нужно англичанам в Греции? – спросила Тинка.
– Опорные пункты, – быстро ответила я. – Пути в Индию. И барьер, плацдарм, база для снабжения оружием на тот случай, если остальная часть Балкан станет красной…
– А ей-богу, очень похоже, что это так, – сказала Ан.
Мы немного посидели молча, давая себе время свыкнуться с этими жестокими истинами. Затем я медленно заговорила; мне казалось, что я вдруг отчетливо поняла суть множества вещей:
– Вот, значит, как обстоят дела… В Лондоне, в голландском кабинете министров, идет бешеная возня; сегодня вылетает вон один министр, завтра – другой. А между тем у всех у них одна лишь забота: как избавиться от коммунистов, когда кончится война. С ними они не хотят никакого мира. И когда с Гитлером будет покончено, коммунистам здорово достанется…
Вейнант удивленно поглядел на меня и покачал головой:
– И как тебе такое привиделось, дитя человеческое?.. Коммунисты пользуются популярностью у всего населения…
– Тем хуже для них, – отрезала я. – Популярностью!.. У кого популярность? У простых, хороших людей. У таких, как ты, Вейнант… И это еще одна из причин для господ, чтобы избавиться от коммунистов. Знай, для них коммунисты – это хуже, чем Гитлер; Гитлер хочет лишь господствовать, грабить и помочь своей собственной расе господ прийти к мировому господству. Коммунисты хотят положить конец всякому господству, и этому тоже. Они хотят, чтобы мир стал выглядеть совершенно по-иному, и сам мир и люди… А это – непростительное стремление.
– Может, союзники вовсе не намерены кончать войну? – сказал Вихер.
Со всех сторон посыпались возгласы протеста. Я молчала и думала: да, возможно, люди, которые стоят у власти в Америке и Англии, не очень-то заинтересованы в мире. И не потому, что нацисты все еще кружат повсюду. А потому, что в Восточной Европе стоит мощная сила – красные дивизии. Их прежде всего хотели бы стереть в порошок эти господа. Мой образ мыслей как будто разделяли и мои товарищи.
– Да и Гитлер не ошибся, пожалуй, обратясь к этим странам, – сказала Тинка. – Если бы он сначала пошел на Восток, то они сразу встали бы на его сторону – Англия, Франция, Америка, Голландия…
– Я как раз об этом думаю, – заметил Рулант. – Если мы недостаточно стойко будем обороняться, нам придется пережить нечто подобное тому, что досталось на долю ЭЛАС в Греции… Сначала немецкая, затем английская или американская оккупация.
– Но мы же продолжаем бороться, – возразила я.
– Ну конечно, мы продолжаем бороться! – воскликнула Ан, долгое время молчавшая. – Потому что мы имеем дело с заклятыми врагами и негодяями. Потому что Голландия оккупирована и мы должны разделаться с оккупантами. Потому что нам диктует это наша совесть или как хочешь иначе назови это чувство.
– Мы обязаны и будем бороться до тех пор, пока не минует в этом надобность… Будем и теперь и после войны, – сказал Вейнант, который серьезно и внимательно вслушивался в наши слова.
– Я знаю лишь одно, – заявила я. – Люди надеются, что после войны жизнь в Голландии станет лучше. Более справедливой, более дружной. Когда Гитлера разобьют, прежние перегородки между людьми будут уничтожены.
– Скажешь тоже, – проворчал Вихер. – Вот посмотришь, наши заправилы сорокового года, если это им удастся, как раз попытаются снова возвести эти перегородки. Вот почему в Лондоне уже теперь то один, то другой господинчик выступает по Би-би-си и несет чепуху о здоровом, законном порядке, который должен быть восстановлен после освобождения…
– Причем имеется в виду, что в первую очередь участники движения Сопротивления должны вести себя смирно, – сказал Рулант. – Ведь то, что мы делаем, нездорово и незаконно…
– Вот потому наше дело и называется подпольным, – заметила я саркастически.
Мы опять немного помолчали. Наконец Вейнант спокойным и решительным тоном заявил:
– Я, возможно, не так хорошо разбираюсь в политике, как вы… Но я согласен с тем, что вы говорите: мы продолжаем борьбу. Ведь должны же когда-нибудь победить честность и справедливость!
– Аминь, – заключила я.
Поручения
Ан, Тинка и я начали работать у фелзенцев. Мы не очень ясно представляли себе, в чем состоит наша основная работа. Сначала нам приходилось разносить или получать свертки – то в Алкмаре, то по разным адресам в Блумендале или в Лейдене. На второй неделе Ан и Тинку послали с тяжелым ящиком в Гаагу, а мне было поручено доставить письмо кому-то в Халфвехе. Аренд по-прежнему относился к нам сердечно и по-товарищески. Менее понятно было, что на уме у магистра Паули и инженера Каапстадта. В их смехе, в их вежливости заметна была, казалось мне, некоторая искусственность. В наших старых куртках и плащах, на разбитых велосипедах, в порыжевших башмаках, мы производили не очень-то выгодное впечатление. Но должен ли настоящий джентльмен определять этим свое отношение к людям? Понять намерения и настроения людей, находившихся в нижнем этаже виллы, – солдат в казарме, как выразился Аренд, – было не так трудно. Там были рабочие и молодежь из бюргерских кругов; некоторые из них были мобилизованы в майские дни 1940 года; другие научились владеть оружием только в организациях Сопротивления; но все они умели стрелять. Это была небольшая группа, состав ее менялся и от десяти человек доходил иногда до двадцати, хотя в своем штабе они никогда не собирались полностью; в тяжелое для страны время они могли также рассчитывать на сотрудничество некоторых лиц в округе. Они сидели в нижнем этаже дома, варили себе бурду, которая называлась у них кофе, играли в карты, выбирали окурки из пепельниц верхних господ и ждали, не наклюнется ли какое-нибудь дело. Многих из них мы узнали по участию в карательной экспедиции против бывших эсэсовцев. Они подшучивали над нами, как всегда шутят мужчины с молодыми женщинами; Ан и Тинка с ответом не медлили (я же особой находчивостью не отличалась), и мы смотрели на них как на товарищей. Двое из них вечно что-то стряпали на кухне; мы давно уже заметили, что у этой группы были порядочные запасы продовольствия. Пюре из репы, капусты и кореньев было образцово приготовленным блюдом, и, когда бы мы ни пришли к ним, они предлагали нам поесть, если что-нибудь стояло на плите. Маартен, молодой человек в коротких сапогах, который исполнял обязанности повара, – его спортивную кепку, тщательно вычищенную, мы видели еще в коридоре, – через несколько дней рассказал нам, что если мы захотим, то можем прежде всего пропустить по стаканчику: у господ наверху, видимо, алкогольных напитков вдоволь, и по утрам «солдаты» могли забирать и использовать то, что оставалось с вечера.
– Если бы ты их видела, когда им удалось освободить из лагеря Мэйсфелта, – сказал Маартен. – И сколько пришлось тогда на каждого из нас выпивки! А ведь то были только остатки с верхнего этажа!
– Кто такой Мэйсфелт? – спросила Ан.
Маартен поднял брови: – Разве ты не знаешь? Он – один из руководителей СДРП (Социал-демократической рабочей партии Голландии), до войны, конечно… Он сидел в Амерсфорте.
– И они сумели его освободить? – спросила я удивленно. – Как им это удалось?
– Он не единственный, – ответил Маартен. – У наших господ великолепные связи. Вот увидишь.
Тинка облокотилась на кухонный стол и, глядя на Маартена, без всякого стеснения заявила:
– Должна сказать, у вас здесь происходит что-то странное… Прежде всего эти господа наверху и простые парни внизу. В нашем Совете Сопротивления это просто было бы невозможно.
Маартен положил Тинке на тарелку еще ложку овощного рагу и, смеясь, сказал ей:
– Да, Совет Сопротивления! Это ведь наши большевики, да? Вы, конечно, делите все поровну!
Мы рассмеялись; однако мне было не совсем ясно, как Маартен к этому относится – одобряет или насмехается.
– Во всяком случае, мы считаем, что мир после войны должен стать более совершенным. И без отвратительных различий между людьми – прежних и теперешних.
Лицо Маартена сделалось задумчивым. Он пожал плечами.
– Что значит «более совершенным»? Различия существовали всегда и, конечно, останутся навсегда и в будущем… Лишь бы каждый исполнял свой долг. Лишь бы немцы подохли.
– Ах, если бы дело обстояло так просто, – сказала я со вздохом.
Никто из нас не собирался открывать политических дебатов, хотя мне очень хотелось узнать побольше о человеке, которого фелзенцы сумели освободить из лагеря Амерсфорт. Я подумала об Отто, о наших товарищах, которые попали в лагерь и о которых мы больше ничего не слыхали. И я промолчала. Ан, Тинка и я пришли сюда не для того, чтобы раскрыть секреты Паули и его друзей, еще. меньше собирались мы навязывать свои взгляды Маартену и другим молодым людям, подобным ему. То, что говорил нам Маартен, в известной мере представляло собой, разумеется, также и кредо остальных. Они ненавидели оккупантов и живо интересовались одним лишь – как можно скорее выгнать их из страны. Со всем остальным они мирились. Я на минуту задумалась, испытывая, какое-то смутное, гнетущее чувство в груди… Действительно ли большинство голландского народа хочет жить в более совершенном мире?.. Я неоднократно утверждала это; но теперь я чувствовала, что и сама начинаю сомневаться.
Пауль и бетонированное укрепление
Близилось рождество. Яростное наступление Рундштедта вокруг Лейка все еще продолжалось. Газеты были полны слухами о победах, но они умалчивали о том, что русские окружили Будапешт и подошли к границам Австрии, что немецкие конвои один за другим были потоплены англичанами. Голландия переживала беспощадно суровую зиму. Никогда не видела я мой родной город, Гарлем, таким запущенным, таким грязным, таким жалким. Снег никто не убирал. Улицы приобрели неопрятный вид, мостовые покрылись ледяной коркой, окна замерзли, или их просто не было видно из-за ставен, которых никто не открывал. Проходя по городу, я видела кое-где кучки людей, тупо стоявших в очереди перед дешевой общественной столовой. Гуща, которую они уносили с собой в консервных банках и кастрюлях, не заслуживала названия человеческой еды. Мальчишки бродили по замерзшим каналам и охотились с рогатками на голодных, истощенных чаек. Иногда мне удавалось погреться в штабе, но дома, у медицинской сестры, был ледяной холод. Собственно говоря, я вообще никогда не согревалась. И никто не мог согреться. Из труб быстро подымались и рассеивались тощие спирали дыма от печурок, вокруг которых сидели люди, набивая их стружками и щепками, чтобы хоть немножко согреться и что-нибудь сварить себе. Большинство жителей не имело теперь другой еды, кроме луковиц от тюльпанов и сахарной свеклы. Они рубили луковицы и делали из них пюре, варили суп; сварив сахарную свеклу, они делали сироп, а затем поливали им цветочные луковицы. Некоторые, главным образом одинокие старики, не умели даже раздобыть луковиц или сахарной свеклы. Они заболевали и, тихо пролежав день-другой, так же бесшумно и тихо умирали. Голодные походы не прекращались. Во время этих походов тоже гибли люди.
Наступило рождество, и нацисты весело отпраздновали его, еще раз показав свое подлое нутро. Они разъезжали, провозя мимо бедствующих жителей целые повозки с напитками; в деревянных ящиках громыхали бутылки. Они везли также зеленые сосновые ветви и распевали песни – тут и там. В районе их казарм и укрытий пахло мукой и маслом; запах печеного теста наполнял окрестность – дразнящая иллюзия далекого прошлого. На ступеньках стояли дети, повернув личики навстречу ветру, который приносил эти запахи сытости и изобилия; они дрожали от холода и острого желания есть.
– Для вас есть поручение, – сказал Аренд, когда мы за два дня до святок явились в штаб фелзенцев. – Инженер Каапстадт уже спрашивал о вас. Он наверху.
Каапстадт сидел один в комнате, где он в свое время принимал нас вместе с магистром Паули. Он любезно приветствовал нас, предложил сесть и закурить. На этот раз вместо коричневого костюма он был одет в прекрасно сидевший синий костюм и белую рубашку; из кармашка торчал белый платочек; я невольно спросила себя, кому теперь по средствам стирать эти белые вещи. Проведя рукой по волосам, так что блеснуло его массивное кольцо с печаткой, он с улыбкой взглянул на нас.
– Наконец-то сегодня у меня есть для вас очень трудное задание… и опасное, – сказал он, и в складках улыбки потерялся шрам возле рта. – Я знаю, что вы не боитесь риска…
Он по-прежнему улыбался нам; я нетерпеливо сказала:
– Да говорите же.
– Надо добыть боеприпасы из бетонированного укрепления в Эймейдене, – сказал он.
Вероятно, мы все три так вытаращили глаза, что он даже громко рассмеялся и пояснил:
– Разумеется, это звучит примерно так же, как если бы я попросил вас похитить у Гитлера портфель…
– Приблизительно так, – сказала Ан. – Вы, значит, имеете в виду немецкое укрепление… возле гавани?
Инженер Каапстадт кивнул головой: – Да, именно это… Должен, однако, сразу же сказать вам, что тут есть небольшой секрет. В настоящий момент это укрепление занимает немецкий военно-морской флот. И в этой группе у нас имеется превосходный связной.
Очень энергично и слегка позируя, он подошел к двери, ведшей в боковую комнатку, и открыл ее с видом фокусника, который демонстрирует свой лучший трюк. Мы заглянули в комнатку. Молодой человек, который сидел там на диване и перелистывал английские журналы, встал и положил их; я посмотрела их названия. Затем взглянула на молодого человека. Ему было, пожалуй, лет двадцать пять; он носил штатский костюм, простой и аккуратный. Когда он нас увидел, его губы тронула вежливая улыбка. Он щелкнул каблуками и поклонился.
– Hab'die Ehre, meine Damen, – сказал он. – Mein Name ist Paul. Bin leider nicht imstande, Famtfienname dazu zu nennen. Kommt hoffentlich auch bald[43]43
Честь имею, уважаемые дамы. Мое имя – Пауль. К сожалению, не могу назвать своей фамилии. Надеюсь, что в скором времени смогу это сделать (нем.).
[Закрыть].
Мы опять удивились; меня потряс самый факт, что в штабе одной из групп Сопротивления мы встретили человека, бегло и безупречно говорящего по-немецки, – настоящего немца. Ан и Тинка пробормотали что-то в ответ Паулю, я же молча кивнула ему головой. Инженер Каапстадт выступил вперед.
– Чтобы не оставалось никаких подозрений, – начал он, все еще улыбаясь, но уже более сдержанным тоном. – Пауль– сын либерала, бывшего члена рейхстага. Он ненавидит нацистов. И готов нам помогать любым способом.
– Durchaus[44]44
Безусловно (нем.).
[Закрыть],– ответил Пауль, видимо хорошо понимавший по-голландски.
– Он служит в отряде, расположившемся в портовом укреплении, – продолжал Каапстадт. – Их там в настоящий момент не так много; военно-морской флот сосредоточен главным образом между устьем Мааса и Гаагой. Давайте присядем; проводить совещания на ногах неудобно.
Мы сели, и между нами поместился Пауль. Нельзя было представить себе более типичного лица пруссака, чем эта чуточку широковатая физиономия брюнета с высокими скулами, с тщательно причесанными, чуть волнистыми волосами, очень коротко подстриженными; большой рот, квадратный подбородок. В военной форме он показался бы еще более типичным немцем. В штатском же костюме он выглядел словно на маскараде. Я все еще не знала, что о нем думать, и обменялась быстрыми взглядами с Ан и Тинкой, которых, несомненно, эта встреча застала врасплох, так же как и меня.
Инженер Каапстадт уселся за бюро и сказал;
– Пауль предлагает нам вечером в первый день рождества подойти к укреплению и забрать боеприпасы. Он будет стоять на вахте вместе с одним человечком, которому война здорово осточертела. Пауль полагает, что люди будут основательно увлечены празднеством.
– Ohne Frage, – заметил Пауль, напряженно следивший за тем, что говорил инженер. – Man hat uns einen schönen französischen Kognak zugeführt[45]45
Конечно. Нам привезли превосходный французский коньяк (нем.).
[Закрыть].
Он сказал «нам». Мне сразу бросилось это в глаза. Я ничего не ответила, лишь опять кивнула головой. Видно, он еще не очень отделяет себя от своих нацистских соратников. Быть может, он надеется даже, что, когда кончится его вахта, он также приложится к «превосходному французскому коньяку», подумала я. Военная добыча есть военная добыча. Быть может, немецкие солдаты, которые сражаются. в. Арденнах, в этот момент жрут для храбрости наш «превосходный голландский сыр»…
– Во всяком случае, можно предполагать, – сказал инженер Каапстадт, внимательно следивший, как я подметила, за выражением наших лиц, – что господа не проявят должной бдительности в этот первый рождественский вечер. Мы должны этим воспользоваться. Боеприпасы нам очень нужны. Паулю об этом известно.
– Durchaus, – подтвердил Пауль. По-видимому, это было его любимое словцо; на мой взгляд, оно было наиболее типичным немецким словом; мне вдруг показалось что вся атмосфера вокруг нас стала неопределенной, неясной и поэтому чреватой опасностями. Наше молчание инженер Каапстадт, видимо, счел за безоговорочное согласие. Он даже не спросил нас, одобряем ли мы эту операцию; он прямо перешел к обсуждению боевого задания.
– В сумерки один из наших людей отведет вас в помещение, где упаковывают сельди; оно находится несколько в стороне от дороги, ведущей к морю. Это всего в полукилометре от бетонированного укрепления. Между ними стоит еще несколько сараев и складов, но в них теперь нет ни души.
– Сколько всего? – спросила Тинка, поворачивая свой носик в сторону человека, сидевшего за бюро.
– Fünfzig Kilo wird's schon sein[46]46
Килограммов пятьдесят будет (нем.).
[Закрыть],– сказал Пауль, с удовольствием глядя на миловидную задорную мордочку Тинки.
– Пятьдесят кило, – перевела я. – Значит, по шестнадцать кило на человека… Гм… Наши велосипедные сумки, пожалуй, уже привыкли к этому…
– Патроны? – спросила Ан.
Пауль подтвердил, что речь идет о патронах. Он вынул из кармана записную книжечку и вырвал из нее листок; карандашом он начал набрасывать план местности и объяснять нам, как и когда нужно приблизиться к укреплению.
Я взяла записочку, сложила ее и надежно спрятала у себя. Беседа, как видно, закончилась, и мы простились с Паулем. Мне было неясно, могу ли я и нужно ли мне подать ему руку. Мне очень не хотелось, но я чувствовала, что уклониться от этого было бы неправильно. Я подала Паулю руку, Ан и Тинка последовали моему примеру.
– Auf Wiedersehen, до свидания, – сказал Пауль. Он приятно улыбнулся и вдруг поднес руку ко лбу. Это было глупо, поскольку он был в штатском.
Возвращаясь в Гарлем, мы долго еще разговаривали, обсуждали дело со всех сторон и наконец решили все же взяться за него. Возможно, нас толкнуло на это тщеславие – выполнить задание силами одних девушек, без участия мужчин! Но, возможно, здесь сыграло роль также честолюбие борцов гарлемского Совета Сопротивления, который никогда не отступал перед опасностями. Решение это пришло к нам еще потому, что мы снова испытывали душевное напряжение: помимо ужасов голода, постигшего Голландию, начались облавы, которые устраивали среди населения Вестланда стоявшие там лагерем нацистские войска; они практиковали также разбойничьи, грабительские набеги и угоняли наших мужчин на оборонительные сооружения вдоль рек. Об этом сообщалось в последних донесениях.
Впрочем, как мы заметили, у нас не было никаких причин сомневаться в желании участников фелзенской группы Сопротивления бороться против оккупантов. В канун рождества, перед тем как отправиться на задание по добыче боеприпасов, мы услышали, что были потоплены два инспекционных судна немецкого военно-морского флота, стоявшие в гавани Эймейдена. Когда мы явились на следующий день в фелзенский штаб, там царило общее ликование. Когда мы поздравили товарищей с удачным налетом, Маартен на радостях выдал нам лишнюю порцию вареной коричневой фасоли, причем мы обнаружили в ней даже заблудившийся кусочек свиной шкурки.
Прежде чем отправиться в этот день в Эймейден, Ан, Тинка и я дали друг другу торжественное обещание. Мы достаточно хорошо знали об арестах и пытках, которым немцы подвергали свои жертвы. Мы слышали рассказы о людях, которые слыли самыми стойкими и надежными, но под пытками нацистов не выдерживали. Мы обещали друг другу, что мы – никто ведь не знает себя – не допустим этого. Если нас арестуют всех вместе, мы выпустим друг в друга все пули из наших револьверов, чтобы избежать мучений или позора.
Я все время думала об этом обещании, когда мы с Арендом во главе ехали на велосипедах к обезлюдевшему рыбацкому затону, где все еще стоял запах бывшего рыболовецкого предприятия. Этот запах настроил меня на сентиментальный лад, хотя прежде я его терпеть не могла. В углу рыбачьей гавани тесно прижатые друг к другу стояли коричневатые, облепленные снегом одномачтовые рыболовные суда. Там летали одни лишь чайки, хрипло кричавшие от голода. Смеркалось. С моря тянуло резким, жгучим холодом: замерзшая чистота! Мои конечности опять утратили чувствительность, а беспощадный морской ветер кусал мне щеки и сквозь старые вытершиеся варежки – руки. Внезапно меня охватило страстное желание увидеть море. Я подсчитала, что не видела моря с 1942 года. И представила себе, какая сейчас вода – яростные, стального цвета волны, вот наше море зимой. Суровый и жестокий наш союзник в борьбе с фашистским отребьем внутри Европы… Это море как бы символизировало жестокую действительность; на душе у меня лежала тяжесть; вспоминая наш уговор, я слезла с велосипеда. Я двигалась как бы в тревожном, мрачном сне; наконец подъехали и слезли Ан с Тинкой. Голос Аренда из-за поднятого мехового воротника доносился, как из-за бруствера:
– Здесь я поверну назад; мы находимся, собственно говоря, уже в запретной зоне… Вы пойдете мимо этого кафе; дальше есть небольшая тропинка, она сама приведет вас куда надо. Вы наткнетесь на деревянную стену. На вывеске там написано «Упаковка сельдей Вессела»; буквы такие огромные, что их можно прочитать даже в сумерках… Дальнейшая программа действий вам известна. Желаю успеха.
Аренд говорил все тише и быстрее. При последних словах он пожал нам по очереди руку, а когда желал успеха, уже закинул ногу через седло. Он укатил обратно. Мы остались одни в сизых сумерках, среди сизых домов, и лишь, сизые чайки летали в небе. Между близким морем и нами находилось укрепление из бетона и стали, один из самых страшных образцов оборонительных сооружений, которыми немцы испоганили нашу береговую полосу. Вот из этого-то бастиона и будет изъято пятьдесят кило боеприпасов, и эти пятьдесят кило должны увезти отсюда мы, девушки…
Мне пришлось взять себя в руки, когда мы добрались до пустого помещения для сортировки и упаковки сельдей. Внутри стоял туман и мрак, и мы то и дело стукались о беспорядочно нагроможденные ящики. Холодный безжизненный воздух в помещении был насыщен рыбными запахами гораздо больше, чем возле гавани. Где-то наверху, у сломанного конька крыши, свистел ветер. Ветер с моря, подумала я. В этом море плавали где-то наши «свободные матросы», сражались наши моряки, сопровождали суда с боеприпасами, неся в своей душе кусочек нашей родины, той тайной родины, которую представляли мы, те, кто заботился о ней и защищал ее своим телом.
– Ты что, плачешь? – раздался вдруг голос Ан.
Я сама только что заметила, как слезы катятся у меня по щекам.
– Я… ничего, – поспешила я сказать. – Только… Просто невозможно поверить, что сегодня рождество.
– Ты права, – ответила Тинка. Голос ее звучал несокрушимо молодо и весело. – Единственное только и есть утешение… Свинство приняло такие размеры, что дальше ехать некуда. Должно же стать когда-нибудь лучше.
– Да, конечно, – подтвердила Ан. Она сидела рядом со мною, обняв меня за плечи. – Мне знакомо это чувство… Так бывает от голода. Если ты понимаешь, то тебе уже легче переносить все невзгоды.
Я высморкалась и сказала: – Рассудком я все понимаю. Но иногда… Ах, да что толковать! Мы должны пережить все это. Пережить этот день и все последующие дни. Пока не восторжествует честность и порядочность, как говорит Вейнант…
– Вот это подходящий разговор, – сказала Ан. – Господи, какая в этом сарае вонища… А ведь сколько лет тут уж и рыбы-то не было… Неужели не могли они там, в фелзенском штабе, подыскать для нас какую-нибудь завалящую парфюмерную фабричку?
Обе сестры старались – я оценила их мужественные усилия – обратить все в шутку, они припомнили старые анекдоты о Гитлере, которые я давно уже слышала, о «подвигах» немецких морских и военно-воздушных сил, которых больше не существовало, хотя по нашей стране все еще шатались немецкие матросы и другие дезертиры. Я восхищалась Ан и была ей благодарна: в который раз я убеждалась, как много силы таится в сердце рабочего класса. Девушкам, видимо, досталась суровая юность, гораздо суровее, чем моя. Они пришли в движение Сопротивления в том возрасте, в каком я, получив первое пособие от отца, имея самые путаные представления о сущности жизни, поселилась в амстердамском мезонине вместе с Луизой и Таней. Сестры испытали на себе почти все удары судьбы, которые могли обрушиться на девушек в наиболее уязвимом возрасте. Они сами сберегли себя, они были внутренне закалены и, сидя здесь в старом рыбном сарае, как смутные тени, рядом со мною, прилагали все усилия, чтобы меня подбодрить… это меня-то – а ведь я дала себе обещание носить на сердце броню до тех пор, пока я не выполню своего долга перед родиной…
И я заковала себя в броню. Я знала: все, решительно все стало неизбежным и необходимым – кошмар, голод, обязанность уничтожать врага, где бы ты его ни встретила.
…Мы начали мечтать, как делали это порой в нашем штабе, да и не только в штабе. Мы составляли самые роскошные рождественские меню. Мы подавали к столу печеное тесто, мясо, пудинги, орехи, мед, фруктовые компоты, свежие овощи, конфеты, мы садились за стол, который ломился от изобилия. Дикие и нелепые желания, которые обычно одолевают людей с голодным желудком! Раньше мы читали о таких явлениях лишь в книгах приключений для юношества или в страшных рассказах о заблудившихся путешественниках и полярных исследователях… Мы мечтали до изнеможения, до одурения. Сидя на ящике из-под селедок, я начала дремать, Ан и Тинка тоже стали менее словоохотливы. Словно издалека доносились их голоса, прерываемые ветром и криком чаек – единственными звуками в этом заброшенном помещении для упаковки селедок.
Я вздрогнула, когда прозвонил колокол, хотя колокола звонили и раньше; я взглянула на свои ручные часы. Слабо светящиеся, как бы поблекшие ниточки стрелок показывали девять.
– Пора, – сказала я.
Слышно было, как зевнула Тинка. Видно, девушки тоже вздремнули. Мы завязали пояса наших непромокаемых плащей, покрепче стянули головные платки и вышли из рыбного сарая, держа руку на револьвере.
Ветер с моря дул прямо вдоль улицы; она была вся в рытвинах от тяжелых немецких машин и покрыта сверху ледяной коркой – та самая улица, вдоль которой, бывало, в солнечный день на фоне летней синевы неба и палевых дюн – до чего давно это было! – тянулись в светлой одежде голландские граждане К пляжу в Эймейдене… Я сама не понимала, откуда у меня эта горькая сентиментальность. В других случаях я не раздумывала над подобными вещами, все свое внимание сосредоточивала на порученном деле. Может быть, на этот раз чутье подсказывало мне, что следовало уклониться от этого задания и тем избавиться от опасности; возможно, что в глубине души у меня таился смертельный страх… Из-за снега не стало видно звезд; низко нависли тучи, воздух был тяжелый, бушевал ветер. Когда жалкие строеньица, которые более или менее прикрывали нас по дороге к бетонированному укреплению, остались позади, мы почувствовали себя очень неуютно, оказавшись беззащитными на зимнем ветру.
– Великий боже! – слабо послышался голос Тинки позади меня. – Держите меня, ради бога, покрепче, иначе меня унесет ветром!..
Ан хихикнула, и мне показалось, что ее тоже гнетет предчувствие страшной опасности, которая, казалось, ждет нас. Мы крепко уцепились друг за друга и с трудом пробивались вперед. Укрепления мы видеть не могли. Вдалеке, где-то в дюнах, слева от нас, вспыхнула в небе тонкая, как стрела, полоска света, потом расширилась, превратясь в круглое пятно на облаках, и погасла.
– Они ищут английские самолеты, – сказала Ан.
Мы, спотыкаясь, с трудом плелись дальше. Прожектор снова вспыхнул, его лучи внезапно изменили направление и, казалось, собирались прощупать поверхность земли.
Мне показалось это мерзким издевательством.
– Вот свиньи, – прошипела я. – Как будто знают, что мы идем здесь… Ложитесь ничком, товарищи!
Мы легли на землю, а прожектор стал искать, посылая горизонтальные лучи.
Лежа на земле, мы огляделись вокруг: в синеватом свете сумерек вырисовывался немецкий форт – внушительный, как базальтовый горный массив.
– Брр, – не вытерпела Тинка, подымаясь на ноги. – Если бы я пролежала еще хоть минуту, я бы совсем примерзла к земле.
– Давайте подождем сигнала от Пауля, – предложила я.
– Ему уж давно пора быть здесь, – заметила Ан.
– А он не мог забыть, что мы должны прийти? – спросила Тинка.
– Веселее ничего не придумаешь, – сказала Ан, разозлившись.
Мы стояли неподвижно, крепко обнявшись. Так по крайней мере было теплее. Где именно мы находились, я совершенно не представляла. Возможно, что у нас под ногами была уже не улица, а мы шли наугад по территории вблизи бетонированного укрепления. Возможно, Пауль уже давал нам знаки, стоя где-нибудь за углом, откуда он не был нам виден. Я ничего не сказала девушкам, но от одной мысли об этом я почувствовала новый приступ тошнотворной слабости. Мне показалось, что где-то гудят самолеты, хотя со всех сторон ветер выл так, что заглушал даже крики чаек. Я опять взглянула на часы и увидела, что мы были в пути всего лишь четверть часа, а казалось, будто прошло уже много часов.








