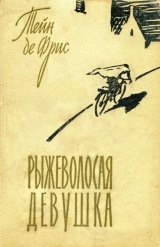
Текст книги "Рыжеволосая девушка"
Автор книги: Тейн де Фрис
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
Доктор глядел на меня с нескрываемым интересом, с удивлением даже. Я торопливо продолжала говорить; мысли четко формулировались в голове, смущение исчезло.
– Однако я понимаю также, что каждый участник Сопротивления несет ответственность за людей, окружающих его… и за те мысли, которые они вкладывают в понятие «родина». Я хотела бы, доктор, вступить в контакт с людьми, которые ближе всего стоят к народу и лучше всего понимают, почему они борются против врага. Я имею в виду рабочих. Тех людей, кому в каждой стране больше всех достается во время оккупации… и кто наиболее заинтересован в окончании войны… Для кого Сопротивление является лишь этапом на пути к справедливому миру.
Опустив вниз руку с трубкой, доктор сказал:
– Я вас понял. Я не говорю, что во всем согласен с вами. Думаю, что бог тоже может указать путь к справедливости. Гм! На этот счет можно придерживаться различных мнений…
– Теперь эти различия не могут играть большой роли, – быстро вставила я.
Он засмеялся:
– Конечно. Теперь мы попутчики, союзники, соратники.
Теперь задача в том, чтобы уничтожить злодеяние против бога и людей, уничтожить все то, что приносит с собой фашизм: измену родине, убийство евреев и террор. Бог хочет, чтобы земля была чистая, без сорняков. – Вдруг доктор посмотрел на свои часы. – Ого! Мне уже давно следовало бы вернуться к своему пациенту.
Он сжал мои пальцы холодной, искусной докторской рукой.
– Идите обратно задним переулочком, – посоветовал он. – Я покажу вам дорогу.
Западня
Снова произошло множество событий, обрушившихся на нас со стремительностью и силой горного обвала и отдаливших на короткое время преследуемую мною цель.
В конце апреля генерал Христиансен потребовал, чтобы остатки голландской армии – солдаты и унтер-офицеры, сыновья крестьян, рабочих и других граждан – задним числом сдались немцам в плен. Это нужно было фашистам для того, чтобы не дать возможности союзникам сформировать здесь местные войска для освобождения самой Голландии.
В ответ на первые еврейские погромы в феврале 1941 года рабочие, конторские служащие и продавщицы в магазинах устроили февральскую забастовку.
В мае 1943 года на требование немцев о выдаче молодежи голландцы ответили забастовкой рабочих и крестьян. Рабочие остановили крупные предприятия. Крестьяне наотрез отказались поставлять молоко, если приказ Христиансена не будет отменен. Они выливали молоко в каналы. Для вермахта у них не было ни сыра, ни масла.
До нас доходили самые различные сообщения и слухи. Было объявлено о введении полевого суда и смертной казни за проведение собраний, отказ работать и хранение оружия. Рабочих забирали и казнили. В сельских местностях проливалась кровь. В одной деревне бастовавших крестьян согнали в кучу и часть их ни за что ни про что перестреляли. Затем разложили трупы вдоль дороги и около каждого трупа поставили по крестьянину. Снова предъявили требование о сдаче молока, зерна, овощей. Крестьяне снова ответили отказом. Тогда опять расстреляли нескольких. И опять предъявили требование. И снова отказ. Четыре раза повторялись отказы и расстрелы. Тогда полевая жандармерия, которой полагалось приводить в исполнение смертные приговоры, почувствовала отвращение к своей роли палачей и самовольно прекратила расстрелы…
Матери рассказал об этом крестьянин, привозивший молоко, а она рассказала нам. Мы сидели за столом. Отец в горестной задумчивости протирал до блеска свои очки. Юдифь была очень бледна и не могла есть. Таня выпрямилась и коротким и гордым движением головы откинула назад волосы. Мама говорила шепотом:
– Боже мой, повсюду ужасные репрессии… Иногда я спрашиваю себя, не слишком ли на многое отваживаются люди… Сколько молодых жизней погибло…
Тут я впервые не выдержала и вскричала:
– Какое значение может иметь, мама, сколько тебе лет, когда ты умираешь. Дело не в том, долго ли ты прожил на свете, но как ты прожил, что успел сделать в жизни – вот что важно!
Я замолчала, испугавшись, не выдала ли я свои замыслы. Наступило долгое, тяжкое и многозначительное молчание. На Танином лице показалась улыбка, в которой сквозила такая же откровенная гордость, как и недавно в движении ее головы. Юдифь уставилась в пространство, очевидно испуганная моей горячностью. Мать молча и испытующе смотрела мне прямо в лицо; казалось, она обнаружила во мне нечто такое, о чем раньше не подозревала.
Май месяц окрасился кровью смертных приговоров. Одновременно было объявлено о конфискации всех радиоприемников: слушание «вражеских» радиопередач сделалось у голландцев почти национальным обычаем, так что фашисты предписали наконец сдать все приемники до единого. Отец купил у монтера, брата нашей служанки, старый приемник и отнес его в полицию. Этому же монтеру отец велел вделать в стену комнаты наш хороший радиоприемник, которым мы регулярно пользовались. Би-би-си продолжало передавать последние известия, яростно заглушаемые трескотней специальных немецких радиостанций, которые своими истериками систематически укрепляли наши надежды и ожидания… Каждый день предъявлял свои требования, приносил свои огорчения, выявлял героев.
Как-то раз в один из вечеров, когда я отправилась в Блумендал навестить свою бывшую учительницу, которая давно не давала о себе знать, Таня воспользовалась случаем и снова убежала.
Каждое утро мама отправляла нашу служанку с каким-нибудь поручением. Как только за ней закрывалась дверь, Таня и Юдифь поспешно спускались вниз, чтобы побыть там минут десять. В тот день все шло кувырком. У Юдифи был грипп, и она осталась лежать в постели наверху. Отца пригласил к себе один знакомый – он сумел раздобыть мешок пшеницы, часть которой пообещал нам. Мама с Таней пили кофе. Обычная мирная, будничная картина. Очевидно, когда мама относила посуду в кухню, Таня улучила момент и выскользнула из дому. Она проделала это так ловко и бесшумно, что мама заподозрила неладное лишь потому, что в двенадцать часов, после ухода служанки, наверху наступила странная тишина. Юдифь не решилась ее остановить.
Когда я вернулась домой, отец, мать и даже Юдифь, дрожавшая в своем халате, сидели в комнате, явно смущенные и встревоженные. Я заметила, что Тани с ними нет, и сразу угадала причину мрачного отчаяния, охватившего всех троих. На этот раз я лучше владела собой. Я немедленно отправила Юдифь в постель и, не снимая плаща, сказала, что пойду разыскивать Таню и приведу ее обратно. Отец предложил проводить меня, но я решительно покачала головой.
Мучимая дурными предчувствиями, шла я к вокзалу. Так тяжело у меня было на душе, что все мои движения и даже ход мыслей, казалось, замедлились, как будто все во мне безнадежно оцепенело, налилось свинцом. Я приблизительно помнила адрес Таниного друга. Приехав в Амстердам, я некоторое время бродила в нерешительности; какое-то чутье подсказывало мне, что безопасности ради не следует идти прямо по этому адресу. Даже свидание с Амстердамом угнетало меня. Город показался мне еще более загнанным, запуганным, несмотря на как будто нормальное движение транспорта; давка у трамвайных остановок, безотрадные хвосты очередей перед магазинами, немецкие полицейские и солдаты – все это говорило мне о тайной подготовке к осадному положению. Но, быть может, я просто-напросто переносила на внешний мир охватившие меня робость и нервозность. Наконец я, не помню как, забрела в старый еврейский квартал. Там царила гнетущая атмосфера заброшенности, стояла гробовая тишина. Магазины были наглухо заколочены, стекла выбиты. Кое-где болтались разорванные занавески, медленно колебавшиеся от ветра.
Повсюду я заглядывала в черные, опустошенные пещеры комнат. Члены «национал-социалистского движения» и все прочие преступники, называющие себя нашими соотечественниками, поторопились растащить беспризорное имущество. Над всем уже носилась пыль разрухи, запустения. Два-три полицейских из уголовной полиции патрулировали на почти пустой центральной улице, где до войны я часто с удовольствием бродила без определенной цели, околдованная шумной жизнью города, деятельностью сотен спаянных друг с другом людей, теснотой, запахами рыбы и фруктов, всей этой сумятицей, такой приятной, увлекательной и будоражащей. Теперь же я видела перед собой две спины в зеленой форме, слышала грубый стук их подкованных железом сапог о заросшую травой мостовую. И я поспешила уйти отсюда; нервы мои были до того напряжены, что я, кажется, была в состоянии натворить глупостей, затопать ногами, броситься с кулаками на эти проклятые, ненавистные спины.
В одном переулочке, который привел меня на площадь Ватерлоо, я остановилась как вкопанная. Мимо проходила небольшая группа людей. Бедные евреи, я поняла это с первого взгляда. Они шли, согнувшись под тяжестью рюкзаков, скособочась от взваленных на плечи скатанных одеял или волоча в руках чемоданы. Эти несчастные показались мне еще более маленькими и жалкими, чем прочие наши граждане. Среди них был и один ребенок. Он глядел на идущего рядом с ним мужчину, как будто настойчиво спрашивал его о чем-то. Тот ничего не отвечал; его крупная голова клонилась вперед; он как-то вяло и неумело держал руку ребенка в своей. Все, кроме ребенка, шли, спотыкаясь, неуверенно, толкая друг друга. На этом конце площади были только они и я. И вдруг я зажала рукой рот. Меня пронизала догадка. Эти люди отправлялись на регистрацию, чтобы быть потом высланными. Никто из них не оглядывался. Они шли навстречу своей смерти. Догадка эта возникла в мозгу настолько четко, ярко и в то же время все это казалось настолько чудовищным, невероятным, что я позабыла свой собственный страх. Мне хотелось побежать за ними и сказать: «Бегите, спрячьтесь где-нибудь! Не ходите туда! Вы, очевидно, не понимаете, куда и на что вас ведут! Идите в подполье – даже в канализационной трубе лучше, чем в лагере смерти в Польше!..» Я наблюдала, как они скрылись за углом. Исчезли, будто их никогда и не было. Я спрашивала себя, не привиделось ли мне все это. Я была в полном замешательстве. Мне стоило огромного труда тронуться с места. Я вся дрожала, от ног до кончиков волос на голове, меня переполняли ярость, сознание своей вины и ненависть. Затем я глубоко перевела дыхание. Я знала, что должна владеть собой, быть хладнокровной и непоколебимой всегда, что бы там ни было. Я вспомнила о Тане, ради которой приехала сюда. Ведь Таня тоже еврейка и должна будет разделить участь евреев…
Пять минут спустя я была уже на маленькой уличке, в старом, полуразвалившемся доме, где я раньше жила вместе с Таней. Фотографа я застала дома. Он очень удивился, когда я постучалась к нему в дверь и напрямик сказала ему, что жизнь Тани поставлена на карту и что он должен сообщить мне адрес ее друга. Фотограф мрачно поглядел на меня и так громко присвистнул, что я почувствовала, как с таким трудом обретенное мужество вот-вот покинет меня.
– Вы, конечно, слыхали о том, что здесь был совершен налет на Центральное управление регистрации жителей?.. – медленно сказал он наконец и откинул упавший на очки и мешающий ему клок волос. – И он, друг Тани, участвовал в этом нападении. Насколько нам известно, среди арестованных его нет. Но в его доме засели бандиты – фашисты, они встречают и задерживают всякого, кто, ничего не подозревая, позвонит у двери… Если ваша подруга пойдет туда, она наткнется на них…
На мгновение у меня закружилась голова. Затем я медленно, с трудом поднялась с места. Тяжело оперлась о край его рабочего стола. И прошептала:
– А где это?..
– На площади Вестермаркт, – ответил фотограф и назвал номер дома.
Я была уже в дверях. Фотограф побежал за мной, перегнулся через перила. Летя вниз по лестнице, я еще слышала его голос:
– Вам не следует приближаться к этому дому! Я же вам говорю…
– Я не дура! – крикнула я в ответ.
Все же его последние слова помогли мне осознать, что мне надо снова взять себя в руки и не совершать никаких опрометчивых поступков. Я замедлила шаг, когда приблизилась к площади, где стояла церковь с башней Вестерторен. Я пошла вдоль тихой противоположной стороны, отыскивая нужный мне номер. Дом стоял среди ряда других, и ничто в его внешнем виде не говорило об опасности или предательстве. Здесь царило спокойствие; несколько детей играло возле крыла церкви. Гардины в окнах не шелохнулись. Я обошла церковь кругом и вернулась на то же место. Если в доме засели гестаповцы, то они видели меня уже дважды. А два раза – это более чем достаточно. Нужно уйти; и все же я не в состоянии была это сделать. Я зашла в одно кафе, откуда могла наблюдать за домами на другой стороне улицы, и укрылась возле окна, за задернутой занавеской. Безвкусный холодный лимонад, который я выпила, неприятно булькал у меня в желудке. Долго сидела я в кафе; у меня в сумке была книга, и я начала читать, хотя ни одно слово не доходило до моего сознания; я заботилась лишь о том, чтобы в нужный момент перевернуть страницу. Время от времени я бросала взгляд на площадь, где видимых изменений не происходило. Иногда пробегала какая-нибудь собака; раздавался бой часов на церковной башне; их бронзово-гулкие удары отдавались вибрирующим эхом в моем пустом желудке. Детей позвали домой. Близился полдень. Два человечка с ручной тележкой остановились посреди площади и начали длинный, непонятный разговор. Я видела, как они шевелят губами, жестикулируют, смеются. Я не понимала, как могут люди так долго стоять, болтать и смеяться. Я взяла еще лимонаду и пила маленькими глоточками, борясь с отвращением к суррогатному напитку. Порой кто-нибудь заходил в кафе, выпивал у стойки и снова исчезал. Человек без пиджака за оцинкованным прилавком, сначала лишь изредка поглядывавший на меня, стал теперь внимательно наблюдать за мной; я боялась, как бы он не обратился ко мне; это мне было совершенно ни к чему. Я уже начала опасаться, что ему покажется подозрительным, что я тихо сижу здесь и чего-то выжидаю, как вдруг из-за здания церкви показались мужчина, одетый в штатское, и девушка. Они шли через площадь по направлению к центру города. Мужчина шел на полшага позади девушки. Один раз он внимательно огляделся вокруг, как будто ища кого-то. Правую руку он держал в боковом кармане пиджака. Вся его тощая фигура выражала смесь лживости, наглости и неполноценности, что в моем представлении всегда было связано с фашистской разведкой.
Девушку я узнала сразу. Медленно поднявшись с места, с трудом передвигая ноги, я подошла к прилавку и молча положила деньги. Затем вышла на улицу. Ноги мои, казалось, одеревенели. Я видела, как мужчина и девушка, которая шла, опустив голову, пересекли улицу с трамвайными рельсами и скрылись в толпе. Я машинально следовала за ними, пока не поняла, что это совершенно бессмысленно. Таня была в руках врага. Я знала, куда они направляются. Гестаповец отведет Таню в театр «Холландсе Схаубюрх». Это был людской резервуар, куда сгоняли захваченных евреев перед отправкой в лагерь.
Таня была в руках врага.
Человек с револьвером
Первым делом я бросилась к Аде. Я выплакалась у нее, и мне стало немного легче. Ее непоколебимое хладнокровие и дружеское участие оказались в этот момент лучшим лекарством. Она обещала мне, что сделает, все, чтобы проникнуть в Еврейский совет и разузнать о судьбе Тани. Перед моим уходом мы договорились, что она пришлет мне открытку с двумя словами: «Пакет прибыл», если будет точно известно, что Таня находится в «Холландсе Схаубюрх»; если окажется что-либо другое, то Ада просто вышлет мне открытку с видом.
Я с трудом дотащилась домой. Роковое известие, что Таня попала в нацистскую западню, поразило моих родителей и Юдифь. Несколько дней в доме царило самое удрученное настроение. Буря, давно бушевавшая вне нашего дома, теперь настигла и нас. Казалось, будто раз и навсегда нарушены единство и спаянность маленькой человеческой ячейки. Я чувствовала это, когда внезапно прекращался разговор и каждый из нас ощущал пугающее одиночество; это случалось всякий раз, как только разговор заходил об арестах и преследованиях евреев; мы остерегались произносить Танино имя. Иногда я даже злилась, видя эту общую подавленность; с каждым днем я все отчетливее сознавала, что не смогу вырваться из заколдованного круга несчастий, если не буду с ними бороться.
На этой же неделе я побывала у своей прежней учительницы. Наконец-то я застала ее дома. Но я не спросила о причинах ее отсутствия. Она также ничего не стала объяснять мне. Зато приняла меня сердечно, как будто мы уже были связаны с ней тайными узами. От этого я почувствовала себя счастливой. Я видела, что она считает меня посвященной в ее дела и будет соответственно относиться ко мне и впредь.
– Ты добилась желанного, дитя мое, – сказала жена доктора. – На днях я отведу тебя в дом, где находится мой муж. А там он уж позаботится, чтобы ты встретилась с кем-нибудь, кто сумеет рассказать тебе больше моего…
Несколько дней я провела в тревожном ожидании. В условленное время я явилась в старый дом за двориком у крепостного вала. У меня застучали зубы и в коленях ощущалась какая-то слабость, когда я снова, во второй раз, вдохнула воздух, насыщенный формалином, попав в тошнотворно-сладкую больничную атмосферу. Дверь открыл мне человек, которого я не знала, он же, по-видимому, знал меня. Мне пришлось подождать немного в комнатке, стены которой были обиты коричневой кожей. А когда через несколько минут я заслышала в коридоре приближающиеся шаги двух мужчин, сердце мое учащенно забилось. Перед дверью шаги остановились, и я невольно поднесла руку к горлу – оно судорожно сжалось.
Открылась дверь, в комнату вошел доктор Мартин вместе с другим человеком. Я не смела взглянуть на второго и все глядела на доктора, как будто от него зависело спасение моей жизни. Я видела, как дружески ухмыльнулся доктор, идя мне навстречу и протягивая руку.
– Вам пришлось ждать этой встречи дольше, чем мы полагали, – заговорил доктор. – Надо было уладить кое-какие дела… Что такое, вы нервничаете? К чему это?
Я слышала, как тот, другой, засмеялся. На него я все еще ни разу не взглянула. Доктор Мартин подвел его ко мне и представил:
– Это Франс. Один из тех, с кем вы хотели познакомиться.
– Франс. Просто Франс, – сказал незнакомец. В его голосе мне послышалась легкая ирония и какой-то оттенок самодовольства, хотя одна мысль об этом мне претила. Франс протянул мне руку, торчавшую из рукава грубошерстного пальто. Это была крупная, покрытая темными волосами мужская рука с отчетливо проступающими костями суставов. Разве это рука рабочего? Я заметила, что квадратные ногти подрезаны опрятно и красиво. Это была рука, характер которой я определить не могла, но вид ее чуточку смутил и разочаровал меня. Впрочем, это было только мимолетное впечатление. Я положила свою руку в протянутую мне ладонь и наконец взглянула Франсу в лицо.
У него были выдающиеся скулы и маленький рот, лицо хорошо выбрито. Быть может, именно блеск чисто выбритых щек придавал его лицу оттенок самовлюбленности. Темные глаза глядели на меня доброжелательно, но чуть насмешливо. Ясно было, что он заинтересован и уже чувствует себя как бы моим отцом и покровителем.
Доктор Мартин перевел взгляд с Франса на меня, с меня снова на него и сказал:
– Ну хорошо. Можете разговаривать здесь. Когда будешь уходить, Франс, то, как обычно, дай мне знать об этом. Но вы, госпожа С., видно, все еще не оправились от испуга. А Франса вам, право, бояться не нужно.
Смеясь, доктор Мартин затворил за собой дверь. Франс тоже засмеялся. Затем предложил мне стул. Мы уселись друг против друга. Франс расстегнул свое суконное пальто и положил ногу на ногу. Более всего он походил на мелкого конторщика – коричневый в клетку костюм, аккуратно повязанный галстук и заколотый тонкой металлической булавкой воротничок.
– Ну, начнем, – сказал он. – Хотите курить?
Мы закурили, и он стал задавать мне вопросы: работала ли я для подполья, примыкаю ли к какой-либо организации, например к студенческому движению Сопротивления. Изредка он добродушно-снисходительно поглядывал на меня.
– Состоите ли вы, собственно, в какой-нибудь партии? – спросил он меня как бы мимоходом; при этом он старался не смотреть на меня; очевидно, он полагал, что ловко поймал меня в ловушку.
– Нет, – ответила я. – Не состою. Но вы, конечно, должны мне поверить, я совершенно сознательно придерживаюсь левых позиций.
– Гм, левых позиций… Много людей считают себя левыми, – сказал он, снова чуть иронически улыбаясь. – Однако доктор Мартин ручается за вас, а это уже кое-что, – продолжал он после короткого молчания. – Я верю, что мы вполне можем на вас положиться. Разумеется, не каждый день появляются здесь женщины, чтобы принять участие в такого рода деятельности. Правда, женщины-рассыльные у нас есть; но я слышал, подобную работу вы считаете слишком незначительной.
– Я никогда не говорила этого, – резко ответила я. – Доктору Мартину я сказала, что буду охотно выполнять даже работу курьера, если это необходимо!..
Казалось, моя горячность забавляла Франса.
– Вы предпочитаете, конечно, вот эго, – сказал он, сунув руку во внутренний карман своего суконного пальто и быстро вытащив ее оттуда, – на его ладони лежал револьвер. Франс, очевидно, хотел поразить меня; это было похоже на хорошо разыгранный театральный трюк. Я глядела на его ладонь, на темный металл надежного оружия. Впервые так близко смотрела я на огнестрельное оружие; раньше, до оккупации, я его видела лишь в оружейных магазинах, за стеклами витрин; это была чуждая, непривычная игрушка, которая явно не предназначалась для меня. Теперь же револьвер приобрел в моих глазах совсем иное, очень важное значение.
– Уж не трусите ли вы? – спросил он как-то небрежно, насмешливо, несколько вызывающе даже, но вообще-то довольно доброжелательно.
Я медленно покачала головой.
– Я не трушу, – уверенно ответила я. – Однако я должна сказать вам, что никогда еще не стреляла. Не думаете ли вы, что я иду в ряды Сопротивления только из-за своей склонности к такого сорта игрушкам?
Он взглянул на меня. Казалось, на него произвели впечатление мой тон или мои слова, а может, и то и другое.
– Понимаю, – коротко сказал он. – Вы правы. Это вовсе не шутка… Взгляните-ка хорошенько еще раз на револьвер и хорошенько подумайте, отважитесь ли вы орудовать этакой «пушкой»? Вы еще можете отказаться – и мы оба забудем все, что здесь говорилось.
Я была рада, что он сказал мне это. И сказал по-настоящему, всерьез. Вся натянутость между нами тотчас же испарилась.
– Нет, – отвечала я. – Я не отказываюсь. Я хочу работать и хочу начать как можно скорее.
Револьвер он уже спрятал.
– Хорошо, – сказал он коротко. – Мы примем вас в свою организацию. Между прочим, у нас есть еще две девушки. Вы, конечно, встретите их. Отличные девицы. В настоящий момент их здесь нет. Будут позже.
Сидя на стуле, он плотно застегнул пальто.
– Я буду учить вас стрелять. Вы, пожалуй, удивитесь, если я скажу вам, что мы занимаемся этим делом возле самого города. – Он хихикнул, и мне это показалось вполне естественным. – Мы все наловчились делать… Вы знаете поместье «Испанские дубы» по дороге на Хемстеде?.. Прекрасно. – На несколько секунд он задумался. – В следующий понедельник приезжайте туда вечером на велосипеде, часам к восьми. Я буду ждать вас в домике лесничего, как раз позади входа в дом. Лесничий – мой родственник. – Он подмигнул мне, и его фамильярность теперь меня также не покоробила. – Остальное потом… Вы все запомнили?
– Каждое слово, – сказала я.








