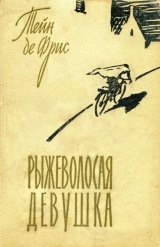
Текст книги "Рыжеволосая девушка"
Автор книги: Тейн де Фрис
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)
– Вы что-нибудь слышите? – спросила я наконец, не выдержав напряжения.
– Ничего, – ответила Ан.
– Не знаю, – сказала Тинка. – Вроде кто-то поет там, в укреплении.
– Если так, – заметила я, – то, значит, где-нибудь открыта дверь. Через стены пение донестись сюда не может.
Мы навострили уши. Я начала верить, что Тинка права. Где-то раздались голоса, неразборчивые немецкие поющие голоса. Тогда же мы обнаружили, что находимся почти у цели. Сквозь щель блеснула полоска света, в густом мраке появилось слабое колеблющееся сияние, послышались выстрелы. Они отдавались в пространстве каким-то пустым звуком и рассыпались белесыми искрами.
– Господи боже, фейерверк! – воскликнула Тинка. – Что это значит?
– «Счастливое рождество», – ответила я.
– Вот здорово, – сказала Ан. – Они уже перепились!
– Превосходный французский коньяк! – добавила Тинка.
– Пока они стреляют в воздух, это еще ничего, – сказала я. – Лишнее время только у нас отнимут. Когда эти перепившиеся молодчики скроются, мы с Паулем сможем заняться нашим делом.
Мы смотрели и прислушивались. Где-то в темноте опять вспыхнуло рыжеватое сияние, повторилась стрельба. На этот раз меньше было резкого смеха, зато громче доносились крики.
– Скоро они все выйдут драться на улицу, – сказала Тинка. – Помнишь, Ан, как в тот раз, когда мы стояли позади трактира на Баррефутстраат…
– Тсс, тише! – остановила я. – Там что-то случилось.
Крики не прекращались, несмотря на то, что наступила такая тьма, хоть глаз выколи. Я изо всех сил старалась понять, что происходит, но так и не поняла. Это продолжалось довольно долго, пока шум не прекратился.
– Это была ссора, – заявила Ан.
– Наверное, пьяные солдаты пытались выйти на улицу и им сделали внушение, – пояснила я.
– Дело плохо, – сказала Тинка. – Возможно, они теперь усилят охрану.
– А мы все будем ждать? – спросила Ан.
– Пока непосредственной опасности нет… – ответила я.
Мы продолжали греться, каждая по очереди становилась в середину. Мы ни на один момент не спускали глаз с возвышавшейся перед нами сумрачной горы, образуемой укреплением. И вскоре действительно там что-то мелькнуло – появился робкий кружочек света от карманного фонаря, но такой призрачный и слабый, что только мы с Тинкой заметили его.
– Вон сигнал Пауля! – одновременно воскликнули мы обе.
– Я ничего не видела, – сказала Ан.
Вероятно, в этот момент у всех трех мелькнула одна и та же мысль. А что, если нас ожидает западня? Может быть, Пауля застали врасплох с боеприпасами и заставили его выдать секрет. Может быть, они заманивают нас поближе, пользуясь условным знаком, о котором мы договорились в Фелзене… Хотя в душе мы были полны сомнений, все же вслух мы этого не высказывали. Потихоньку, шаг за шагом начали мы приближаться к укреплению, напряженно всматриваясь в то место, где появился и снова погас крошечный кружок света… Мы остолбенели, когда неожиданно перед нами вынырнула чья-то фигура. Это был моряк в куртке и бескозырке; за плечами у него торчал короткий карабин.
– Ihr seid da, ja? Komm, komm, alles steht fertig[47]47
Это вы, да? Идемте, идемте, все готово (нем.).
[Закрыть].
– Что случилось? – спросила я. К своему облегчению, я узнала голос Пауля.
– Betrunkene… Krawall… Schnell, schnell[48]48
Пьяные… Сумятица… Быстро, быстро… (нем.).
[Закрыть],– говорил он, подталкивая нас вперед.
Мы не возражали, чтобы он подталкивал нас, но я ни на секунду не выпускала револьвера из руки, надеясь, что Ан и Тинка тоже не сглупят. Пауль то и дело приглушенным голосом повторял свое «быстро, быстро» и очень нервничал, я его хорошо понимала, но сама изо всех сил старалась не заразиться его настроением.
– Die Mädel?[49]49
Девушки? (нем.).
[Закрыть] – неожиданно раздался другой, ворчливый голос; из густого мрака вышел второй моряк. Казалось, действие разыгрывается в пространстве, населенном одними только тенями, смутно маячившими в ночном мраке.
– Sind da[50]50
Они (нем.).
[Закрыть],– ответил Пауль.
Второй моряк, в бескозырке и с карабином, как у Пауля, остановил нас, раскинув в стороны руки:
– Stehenbleiben! Genau so. Nicht mucksen. Wir bringen euch die Patschdinger schon hier…[51]51
Стоять на месте. Вот так. Не болтать. Хлопушки мы принесем вам сюда… (нем.).
[Закрыть]
Пауль и другой моряк ушли обратно. Мы послушно встали короткой цепочкой. Сомнения не давали мне покоя. Что, если все это подстроено, если они ушли, чтобы привести подмогу и обезвредить нас? Усилием воли я отогнала мрачные мысли, внушенные мне голодным желудком, и крепко сжала револьвер.
– Помните наш уговор, – сказала я, хотя совсем не хотела этого говорить. – Если что-нибудь случится…
Но ничего пока не случалось. Нам казалось, что мы ждем уже долго-долго; на самом же деле Пауль и его коллега отсутствовали не более пяти минут. Они вернулись к нам, неся на плечах темные большие мешки. Я слышала тяжелое дыхание, хотя их самих еще не было видно, и сразу подумала о том, что раньше не приходило мне в голову: нам придется идти пешком до сарая и тащить на себе патроны, прежде чем мы сможем спрятать их в наши велосипедные сумки…
Под ноги мне с глухим стуком шлепнулся тяжелый сверток. Я услышала ворчливый низкий голос спутника Пауля:
– Herrgottssakra!.. Du machst ja einen Heidenlärm, Mensch! Müssen die da drinnen uns hören[52]52
Чтоб тебя черти взяли!.. Ну и шум ты устраиваешь, парень… Не услышали бы они нас там! (нем.).
[Закрыть].
Перед нами стоял Пауль.
– Konnte nicht mehr… So eine Felsenlast… Die drinnen horen nichts. Die larmen schon wieder…[53]53
Больше не мог… такая тяжесть… Они там ничего не слышат. Они по-прежнему шумят… (нем.).
[Закрыть]
Другой моряк сложил свои патроны рядом с мешком Пауля.
– Gluck auf mit der Schiessbude[54]54
Желаю удачи в тире (нем.).
[Закрыть],– сказал он ворчливо и недовольно. Впрочем, он почти тотчас же повернул обратно и скрылся. Пауль остался с нами. Он в смущении сухо покашливал. Мы взглянули на мешки. Теперь, кажется, и до Ан и Тинки дошло, что нам придется со всяческими предосторожностями тащить на себе тяжелейший груз по негостеприимной местности. Идти назад пешком полкилометра… А вдруг кто-нибудь встретится? Если в этой зоне ходят по дороге двуногие существа, то только немцы.
– Tut mir leid, – сказал Пауль, и его голос звучал не особенно бодро и уверенно. – Muss wieder zuriick. Damit man keinen Verdacht… Husch![55]55
Очень жаль. Я должен вернуться. Чтобы не возникло подозрения… Ш-ш-ш! (нем.).
[Закрыть]
И он тотчас скрылся. Мы стояли в темноте, на морском ветру, в запретной зоне, с пятьюдесятью килограммами груза у наших ног. Тинка от всего сердца выругалась.
– Что же нам делать? – спросила Ан.
– Потащим, конечно, – ответила я. – Если мы бросим эти вещички здесь, то Паулю и другому моряку не поздоровится.
– Подумаешь, потеря! – проворчала Тинка.
– Не самая страшная, – согласилась я. – Однако в Фелзене ждут эти вещи.
Ан уже стояла на коленях перед темной грудой. Она обследовала ее и сообщила – Коробки, в джутовых мешках… Ничего не поделаешь: нам придется произвести перераспределение. Сделать большой и маленький мешок. Одна из нас возьмет на спину маленький мешок, а большой возьмут две другие.
Она уже успела наполовину разделить груз почти что на ощупь. Тинка ей помогала. Я осталась на страже и неотступно следила за укреплением, держа его на прицеле. Стояла непроглядная тьма, царила тишина.
– Помоги поднять, – попросила Ан. Она пыталась взвалить на себя мешок поменьше. Мы с Тинкой подхватили нескладный тюк и положили его ей на загорбок. Она кивнула нам и покачнулась под тяжестью ноши, затем глубоко вздохнула и устояла. По ее темной тени я видела, какого напряжения ей это стоило.
– Теперь возьмем наш, – сказала Тинка.
Тяжело дыша и стиснув зубы, мы возились с мешком, стараясь взвалить его себе на плечи. Мы извивались, делая самые отчаянные движения. Страшное напряжение сил имело лишь один положительный результат: минуты через две нам стало невероятно жарко. Тинка то и дело посылала в воздух самые увесистые ругательства голландских моряков. Наконец нам удалось более или менее твердо встать; мешок с патронами лежал у нас на загорбках, снизу мы поддерживали его сцепленными за спиной руками. Наконец мы могли двинуться в путь. Ан шла впереди. Я понятия не имела, туда ли мы идем. В темноте все казалось одинаковым, окрашенным в один цвет – насыщенный серый, излюбленный нацистами цвет… Мы с трудом переставляли ноги, скользили, спотыкались и толкали друг друга. Я прямо чувствовала, как на руках и плечах у меня появляются синяки. Поход к укреплению казался приятной прогулкой по сравнению с тем, что мы испытывали сейчас, и мы сами навязали себе эту ужасную ношу! Не раз боролась я с искушением сказать: сложим вещи здесь, снег покроет их…
Я этого не сказала. Я не могла уронить свою честь, оставив боеприпасы на произвол судьбы. Они приобрели для нас тем большую ценность, что мы пережили из-за них столько мучений и подвергались такой опасности. Не успела Тинка объявить нам, что увидела первые деревянные строения, обозначавшие внешнюю сторону рыбачьей гавани Эймейдена, как вдруг впереди себя мы снова увидели в облаках светлый, судорожно бегающий «зайчик» прожектора.
– Только этого нам не хватало, – сказала Ан, и мне показалось, будто голос ее прервался от рыданий. До этого момента она не произнесла ни звука, несмотря на то, что одна тащила килограммов двадцать. Прожектор погас, затем снова зажегся. Я почувствовала смертельный страх, что они снова предпримут маневр с горизонтальным прощупыванием местности. Страх мой был не напрасен: полоса света внезапно упала вниз, почти моментально, и медленно скользнула со стороны моря в глубь страны.
– Бросай вещи на землю!.. – распорядилась я. – Прожектор! Ложитесь плашмя, лицом вниз!..
Я могла и не говорить этого. Ан уже скинула мешок, мы с Тинкой почти одновременно спустили и наш. Через какие-нибудь две секунды мы вытянулись неподвижно на земле. Луч прожектора скользнул по нас холодным синим светом, точно полярное сияние. Затем коснулся сараев и покинутых мастерских, за которыми находилось помещение для упаковки сельдей, где стояли наши велосипеды. Я точно запомнила направление, куда нам идти. Кажется, Тинка подняла голову.
– Лежи, лежи, – прошипела Ан. – Может, они что-нибудь заметили и осветят нас еще раз.
В мертвой тишине, обливаясь потом, лежали мы, прижавшись к твердой как камень земле, пока холод не стал вновь пробирать нас. Тогда мы с трудом поднялись на ноги и ощупью стали искать мешки. Один из них разорвался при падении на землю, которая за зиму покрылась твердой коркой. Две коробки рассыпались; в отчаянии, стиснув зубы, мы шарили, подбирая рассыпанные патроны. Все делалось на ощупь, молча. А мне хотелось заплакать.
И в аду не могло бы быть больших мучений, чем этот ночной поход за патронами по запретной территории, в кромешной тьме, при десяти градусах мороза и резком ветре.
В конце концов мы опять стояли все вместе, держа оба мешка, содержимое которых кое-как мы перебрали; отдельные патроны из разорванной коробки мы разложили по карманам наших плащей.
– Я больше не могу, – заявила Тинка. – У меня всю спину разломило.
– Тогда потащим волоком, – предложила я.
– Нет, мы не потащим и не понесем, – возразила Ан. – Одна из нас останется здесь и будет охранять мешки. Две другие пойдут за велосипедами. Это займет не больше пяти минут.
– Как мы раньше не догадались! – пожалела я.
– Ну идите же, – торопила Тинка. По ее смутной тени и треску картонных коробок я заключила, что она села на мешки с боеприпасами. – Я остаюсь здесь. Я до того полна ненавистью, что могу отразить нападение целой роты немцев.
Мы с Ан направились разыскивать упаковочное помещение. Это оказалось не так просто. В сумерки там еще можно было прочитать фамилию Вессел. Теперь же, ночью, мы видели лишь непроницаемую пелену мрака. Мы шарили вокруг; натыкались на стены, отыскивая дверь, которая подалась бы под нажимом. Мы нюхали воздух, не пахнет ли он рыбой, ощупывали каждый сарай. Я слышала всхлипывания и прерывистое дыхание Ан. Она явно боролась со слезами ярости и изнеможения.
– Чтоб я еще когда-нибудь пошла… – проговорила она.
Я ничего не ответила ей, но подумала: Ан права. И внезапно у меня возникла мысль, которую я, впрочем, тут же прогнала. Что-то здесь явно не вязалось. Как ни плохо мне было, у меня в душе проснулось и упрямо шевелилось смутное подозрение. Но вот ход моих мыслей был нарушен – я наткнулась еще на один сарай, и деревянная дверь подалась внутрь. Почувствовался несомненный запах испорченной рыбы, и он становился все сильнее.
– Ан, – сказала я радостно, – мы пришли!..
Велосипеды стояли в глубине сарая, в таком же положении, в каком мы их оставили. Мы вытащили их наружу, на улицу, которую можно было распознать лишь по грязным и мрачным глыбам разъезженного и замерзшего потом снега. Мы опять потащились туда, где нас ждала Тинка с боеприпасами.
– Я думала, вы никогда не придете, – сказала Тинка; она громко стучала зубами, и по ее дрожащему голоску я поняла, что ее нервы тоже не выдержали, хотя она и уверяла недавно, что справится с целой ротой немцев.
Упаковка боеприпасов в велосипедные сумки была для нас привычным делом, мы быстро справились с ним, несмотря на темноту. Не очень твердо держась на велосипедах, двинулись мы от морского берега в сторону Эймейдена. Только когда мы, предостерегая друг друга, переезжали железнодорожные рельсы, которые, слабо поблескивая, уходили в обе стороны, я вдруг подумала, что ведь мы едем среди ночи, тайком, по населенному району… Уже раздавались кое-где голоса. Где-то пели, кричали, вопили. В этой местности еще больше оккупантов праздновали рождество. Но чем дальше мы отъезжали, тем реже доносились голоса; я уже думала, что мы гарантированы теперь от всяких встреч, как вдруг возле Каземброотстраат мы повстречались с целой компанией немцев, справлявших праздник. Свернув за угол, мы чуть не врезались в темную толпу пьяных, орущих людей; мы не слышали их издали, так как ветер относил их голоса к морю. Я проскочила мимо одного из оккупантов и слегка толкнула его; он опрокинулся и послал мне вслед настоящий боевой клич гунна. Вероятно, так же было с Ан и Тинкой. Никто из нас не вымолвил ни слова; мы лишь прибавили ходу, чтобы обойти досадное препятствие – невнятно бормочущих спьяна людей. Их крики летели нам вслед, как холостые снаряды; отдельные выкрики, правда, можно было различить:
– Halt! Halt![56]56
Стой! Стой! (нем.).
[Закрыть]
– …Verboten![57]57
…Запрещается! (нем.).
[Закрыть]
– Stehenblei'ben… Wir schiessen![58]58
Остановись… Стреляем! (нем.).
[Закрыть]
Мы ехали без фонарей, распластавшись над рулем велосипеда.
Выкрики позади нас сменились выстрелами. Пули пролетали мимо нас, эхо сухим и коротким треском отдавалось над водой. Было очень похоже, что нацисты просто развлекаются. Они еще много раз стреляли в воздух, явно без всякой цели; их пьяные крики постепенно умолкли вдали.
– Как бы они своими воплями не всполошили некоторых трезвых господ по соседству, – проговорила Ан, высказав то, что беспокоило нас всех.
Мы поехали медленнее и осторожнее; страх не покидал нас, пока мы не очутились возле дома за молодыми соснами. Только сойдя с велосипеда, я почувствовала, как смертельно я устала. Казалось, все суставы у меня сделаны из ржавого железа. Ноги стали бесчувственными. Когда на наш пароль дверь открылась, я, качаясь и держась за стену, вошла в дом. Ан и Тинка следовали за мной, измученные не меньше меня.
В нижней комнате находилось человек восемь, там же был и Аренд. С минуту они молча глядели на нас; казалось, что они от удивления потеряли способность двигаться. Но затем они поспешили освободить нам место возле печурки. Аренд помог нам снять плащи. Кто-то побежал готовить кофе. Остальные вышли из дому, чтобы вынуть из велосипедных сумок боеприпасы, потому что я, бессильно махнув рукой, сказала: —Мы не можем больше… несите сами.
– Может, вы хоть немного почувствуете, что это такое… – добавила Тинка.
– А который, кстати, теперь час? – спросила Ан, прислонясь к стене запрокинутой назад головой; казалось, она вот-вот заснет.
– Как раз полночь, – сказал Аренд.
Я удивилась. Неужели поход за боеприпасами и их доставка продолжались всего три часа?.. У меня еще хватило силы похлебать горячего пойла, которое мне принес один из товарищей. Больше я ничего не помню. Так же как Ан и Тинка, я тут же заснула, сидя на стуле… Я проснулась, и снова у меня было такое ощущение, будто вместо костей и сухожилий у меня в суставах ржавое, скрипучее железо. С величайшим трудом я выпрямилась. Было серое утро. Печурка погасла. Из соседней комнаты доносились приглушенные голоса. Иногда слышался мужской смех. Едкий дым дешевого табака просачивался к нам в комнату. Я вспомнила нашу ночную экспедицию, и меня задним числом пробрала дрожь. Часы мои стали. По моим предположениям, должно было быть часов восемь – половина девятого. Как раз начинался день. Второй день рождества. Ан и Тинка еще спали… Мною вдруг овладело чувство одиночества, внутренней пустоты, отвращения к окружающему, и с такой силой, какой прежде я не знала. Я сидела тихо, чтобы не разбудить подруг; кроме того, мне совсем не хотелось, чтобы мужчины рядом с нами заметили, что я не сплю.
Так сидела я долго, безвольная, внутренне опустошенная, без мыслей, без желаний, – я не чувствовала даже голода, – сидела не шелохнувшись. Слышно было, как где-то часы пробили девять, и Ан и Тинка беспокойно задвигались, заворочались на твердых, неудобных стульях, замигали глазами. Они огляделись вокруг, увидели меня и, кажется, сообразили, как и я недавно, что пробуждение не сулит нам ничего хорошего… Когда они заговорили, к нам заглянули мужчины…
– Пришли в себя?
– Отдых был, как видно, необходим, а?
– Как ужасно вы выглядели…
Если мужчины высказывают сочувствие женщинам по поводу их вида, то, значит, они и в самом деле выглядят ужасно. Я была рада, что накануне вечером не задумалась, почему они так озадаченно глядели на нас. В комнате висело зеркало; однако у меня не хватило мужества встать и посмотреться в него. Я и так могла приблизительно представить, как я выгляжу: впалые щеки, синие круги под глазами; да еще эти крашеные волосы – их черный цвет с каждым днем приобретал все более гнусный оттенок.
Фелзенцы опять были очень заботливы, они поставили между нами столик, принесли нам чаю с сухарями, которые они поджарили на своей печурке; для каждой из нас было даже по полстаканчика молока. Мы жадно ели и пили, вовсе не думая о том, что даже когда мы едим, то остаемся в глазах мужчин женщинами. Только тогда я уразумела, что наши манеры не отличались изысканностью, когда Аренд тихонько и тактично выпроводил мужчин из нашей комнаты.
Когда мы, более или менее насытившись и более или менее согревшись, собирались обратно в Гарлем, они снова пришли к нам, угостили сигаретами и наговорили нам комплиментов по поводу совершенного нами подвига.
– Как это все происходило? – поинтересовался Аренд.
Мы переглянулись. По выражению лиц моих подруг я поняла, что мне следует ответить.
– Расскажем когда-нибудь потом, – сказала я. – Сейчас мы хотим домой… Я единственно желала бы знать: господ, наверное, сейчас нет?
Я сделала едва заметное ударение на слове «господа». Аренд несколько смущенно поглядел на меня.
– Господин Паули и другие проводят рождественские дни дома… – сказал он, явно стараясь придать своему голосу спокойствие и естественность.
– Я так и думала, – сказала я. – Ну а вас мы благодарим, – добавила я более мягко.
– Я как будто снова на свет родилась, – сказала Тинка.
…В Гарлеме я простилась с Ан и Тинкой, и, когда я вскарабкалась наверх, в комнатку моей медсестры, там на столе лежала ее записка. Она уехала в отпуск к родителям в Схаген и собиралась вернуться лишь после Нового года. В маленькой комнатке царил ледяной холод и было неуютно. Я снова почувствовала усталость. И, собрав все одеяла, какие только были, залезла на кровать под это укрытие, дрожа от холода и слабости, точно тяжелобольная.
Встречи
После праздника рождества я одна отправилась в Фелзен, чтобы, как я уговорилась с Ан и Тинкой, сделать там отчет. Магистр Паули и инженер Каапстадт оба оказались налицо, они, как всегда, были безупречно одеты и держались очень корректно. Там же присутствовал третий человек с коротко остриженными волосами, широким ртом, необычайно большими и красными ушами и близко посаженными глазками. Никогда еще не видела я такого безобразного человека. Выглядел он далеко не так элегантно, как двое других, но костюм у него был добротный, и я заметила, что на ботинках у него крепкие подошвы. Когда я вошла в комнату, он не привстал, как это сделали два моих знакомых фелзенца, и я с горечью осознала тот факт, что моя внешность больше не производит впечатления на мужчин… даже на такого урода, как этот лопоухий незнакомец.
– Госпожа С., – представил меня ему магистр Паули. – А это господин Мэйсфелт, госпожа С. Его имя вам, разумеется, знакомо.
«Этого человека вызволили из лагеря в Амерсфорте», – подумала я. И пожала ему руку. Мэйсфелт наконец вылез из своего кожаного кресла и крайне официально ответил на мое рукопожатие.
– Должна признаться, что в первый раз слышу это имя, – заявила я.
Мэйсфелт кисло-сладко засмеялся. Его огромный рот растянулся чуть не до ушей.
– А я ваше знаю, – сказал он. – Ваш отец – мой товарищ по партии. Из бывшей СДРП.
– Значит, это было очень давно, – пояснила я самым дружественным тоном. Паули тоже засмеялся; у инженера со шрамом перекосился рот.
– Госпожа С. – из гарлемского Совета Сопротивления, – обратился он к Мэйсфелту, как будто извиняясь за отсутствие у меня должных манер. – Она, без сомнения, пришла сюда, чтобы рассказать нам, как она вместе с двумя своими подругами добыла для нас боеприпасы из бетонного укрепления в Эймейдене.
– Присядьте, госпожа С., – сказал Паули.
Мне показалось, что теперь, когда я сижу напротив них, они обращаются со мной более любезно, чем когда я была вместе с Ан и Тинкой. Я села на предложенный стул, взяла предложенную сигарету и ответила:
– Да. Я пришла отчитаться.
Магистр Паули еще раз склонился над ящиком своего бюро и вынул оттуда бокалы и бутылку с этикеткой дорогого вина.
– Выпьете с нами, госпожа С.? – спросил он, подымая передо мной пузатую бутылку.
Я покачала головой – Я не потребляю спиртных напитков.
Мэйсфелт, который беспечно курил, уже подставил свой бокал Паули, разливавшему вино. В ответ на мои слова он криво улыбнулся:
– Пуританские нравы и коммунизм. Эти вещи, кажется, неотделимы… Иногда я кажусь себе ужасно старомодным и разложившимся.
Он еще шире перекосил в улыбке рот и поднял маленький сверкающий бокал: – Ваше здоровье, господа… За победу!
Они выпили. Погруженная в свои мысли, я тихо сидела, пока происходила эта чисто мужская церемония. Пуританство и коммунизм, сказал Мэйсфелт. Значит, они уже говорили о нас, девушках. «А что все-таки они о нас думают?» – вдруг пришло мне в голову. Снова какое-то тоскливое чувство овладело мною, хотя я воображала, что уже успокоилась после операции в первый день рождества; снова стало терзать меня подозрение, тяжелое предчувствие, что здесь что-то нечисто. Я собиралась было подробно описать фелзенцам, каких мучений нам стоило получить и благополучно доставить в Фелзен пятьдесят килограммов боеприпасов. Но внезапно я поняла: этого не нужно. Какое им дело до того, что мы пережили? Они даже представить себе этого не смогут.
Хотя мне никто не предлагал, я стала рассказывать, коротко и очень сухо. Я отбросила все наши горькие переживания. Когда я говорила, мне самой казалось, что речь идет о фокусе, проделанном шутя и кем-то другим, а не нами. Я чувствовала, что Мэйсфелт наблюдает за мною, не спуская глаз. Паули раза два одобрительно кивнул.
– Смелая операция, – сказал он. – Я вижу, госпожа С., что вы в своем рапорте по-военному скупы относительно подробностей… Но я понимаю, что не все проходило так гладко, как вы изобразили… Скажите нам честно, вы не наткнулись на каких-нибудь немцев?
Краска волной прилила мне к лицу. И я разозлилась на себя за это. И ответила, заставляя себя поглядеть по очереди на каждого из троих мужчин: – Да, но они были так пьяны и стреляли так плохо, что мы без особого труда проскользнули мимо них…
Паули опять рассмеялся – Я вижу, вы решительно не желаете представить нам движение Сопротивления как некую «Илиаду»… Все же позволю себе сказать вам, что мы здесь от души восхищаемся вами и вашими двумя соратницами. Мы считаем своим долгом высказать вам свою благодарность, правда, Каапстадт?
Инженер кивнул.
– Даже огромную благодарность… И вы передадите ее также вашим подругам, не правда ли? – сказал Каапстадт. – У вас есть все основания получить командование лагерем, – без всякого перехода заявил он, – не говоря уже о награждениях со стороны союзников.
Я опять покраснела. Я не совсем поняла, о чем он говорит. Мне только хотелось очутиться вдалеке, за много миль от этого кабинета, где стояли отполированные до зеркального блеска кресла и где пахло дорогими винами, очутиться вдалеке от мужчин, одежда которых не промокала под дождем и не имела дурного запаха из-за недостатка мыла…
– Командование лагерем? – переспросила я без особого восторга.
– Ну конечно, – пояснил Мэйсфелт. – Фашистских молодчиков и их приспешников мы отправим после победы в исправительные лагеря. И нам для них понадобится тогда охрана. Строгая и справедливая охрана.
Вот уже второй раз он упомянул слово «победа». Он был, казалось, полон ею. Я спросила самое себя, как он предполагает достигнуть победы, если он ничего другого не делает, а только говорит о ней, пьет отличные ликеры и слушает Би-би-си, чтобы знать, как далеко вперед продвинулись опять союзные войска и Советская Армия.
– Когда война окончится, – сказала я все еще неприветливым тоном, – то у меня найдутся другие дела, вместо того чтобы отравлять жизнь этим изменникам родины. Теперь их следует убрать отсюда, это верно… Но после войны моя энергия найдет себе лучшее применение…
– Например?.. – спросил Мэйсфелт.
– В нашем обществе должен быть наведен порядок. Должны быть созданы новые моральные нормы, – ответила я. – Чтобы предупредить повторение такого гнусного явления, как нацизм…
– Мы все за это, – сердечно заметил Паули. – Я понимаю. Вы, студентка-юристка, по своей инициативе пришли в движение Сопротивления, не так ли? И, разумеется, вы захотите закончить ученье. Вероятно, вам более ясно, чем многим другим, что необходимо восстановить в Голландии законность и нормальную власть… Где я слышал эти слова?
– Не так важно изучить право, – сказала я. – Вскоре придется по-настоящему насаждать право…
Я видела, как Мэйсфелт усердно кивал головой.
– Именно придется, – вставил он. – Ради демократии. Чтобы сагитированное меньшинство не навязывало своей воли большинству. Голландский народ отвергает всякий экстремизм… Возможно, экстремизм будет пригоден для разрешения проблем в отсталых районах, как, например, в Восточной Европе и на Балканах; своеобразная форма красной диктатуры… Вот так. Здесь, конечно, это не пройдет.
Я восстановила утраченное было душевное равновесие.
– Я не верю, господин Мэйсфелт, чтобы кто-либо из присутствующих здесь мог утверждать или предсказывать нечто подобное относительно Голландии, – заявила я. – Я верю, что делом самого голландского народа будет выбрать и создать себе такие формы жизни, которые соответствуют его характеру и интересам.
Паули ударил ладонью по своему бюро.
– Вот это юрист! – воскликнул он. – Отличная формулировка, госпожа С.! Примите мои поздравления… Однако вы знаете, конечно, что в Лондоне, вероятно, настолько преуспели, что уже разработали формы жизни на ближайшее будущее. Там смотрят на создавшуюся здесь обстановку со стороны, то есть объективно. Вы должны согласиться, что в этом смысле любое эмигрантское правительство имеет, преимущество.
– Можете думать что и как вам угодно, – бесцеремонно заявила я. – Но здесь были все мы, мы знаем, о чем здесь люди думали и на что надеялись… и мы можем иметь собственное мнение на этот счет…
– У каждого свои мечты и надежды, – сказал инженер Каапстадт, скептически усмехаясь, – за исключением общего желания – видеть, как прогонят немцев.
Больше я ничего не сказала. Я чувствовала, что разговор не кончится по-хорошему. Меня и так уже спровоцировали высказать свое мнение о тех вещах, о которых я предпочитала умалчивать, а если делилась, то лишь со своими товарищами. Взглянув на часики и испытывая привычную отвратительную неловкость, я сказала, что меня ждут в Гарлеме. Все трое встали со своих мест и попрощались со мной серьезно и учтиво. Паули еще раз заверил меня, что он очень благодарен нам, трем девушкам, и затем спросил, не обижусь ли я, если он предложит мне пачку сигарет… Я засмеялась и покачала головой.
– Не в качестве вознаграждения, – пояснил он. – Такое нельзя оплатить. А в знак моего уважения к вашей личности.
Я спрятала в карман пачку сигарет и уже на пороге нижней комнаты помахала на прощание товарищам и ушла.
После рождества облавы еще участились. Мужчины от шестнадцати до пятидесяти лет не отваживались показываться на улице. Немецкие удостоверения – Ausweise – больше не принимались во внимание. У каждого, кто попадался немцам в лапы, они отбирали деньги, часы и кольца, затем направляли захваченных ими людей в Германию. Нетрудно было представить себе, какой ужасный хаос, какие настроения в ожидании катастрофы царили внутри Германии, если работу заводов, поездов, предприятий поддерживали лишь при помощи рабского труда согнанных отовсюду иностранных рабочих, ибо только таким образом удавалось вооружить и отправить на фронт последнего немецкого рабочего, который стоял за токарным станком или обслуживал железнодорожный состав. Когда я вышла на улицу, я увидела там только женщин и детей. Дети, спотыкаясь, брели в бесплатную общественную столовую и тащили с собой кастрюльки и ведерки. Правда, порция супа в общественной столовой была уменьшена с литра до четверти литра. Мутная водица с запахом капустных кочерыжек, репы и свеклы. Такая еда согревала желудок на полчаса или час, а после только хуже становилось.
Я раздумывала над своим разговором с фелзенцами. Трое мужчин, с которыми я вела разговор, безусловно, имели свое собственное мнение относительно того, что должно стать с нашей страной после войны. Слово «Лондон» не сходило у них с языка. Они, разумеется, поддерживали контакт с заморским правительством. Можно ли возразить что-нибудь против этого? Нет, ничего. Только как это получилось, что я и мои товарищи никогда не имели такого контакта? Мы были вроде как бы бедные родственники, те, которых, как известно, всегда и везде обижают… Нет. Не надо быть несправедливой. Паули и Каапстадт честно поблагодарили меня, высказали свое искреннее восхищение нами… Один только Мэйсфелт откровенно и отнюдь не галантно сделал выпад против коммунизма. Ну что ж! Он принадлежал к так называемым социал-демократам, которые считали рабочих-коммунистов врагами, к тому сорту людей, который уже обречен историей…
Я рассказала товарищам о своей беседе в фелзенском штабе. Рулант состроил такую физиономию, будто счастлив был, что не имел с фелзенцами никакого дела. Товарищи выкурили пачку сигарет, которую дал мне Паули, – я, впрочем, и не собиралась оставлять ее для себя. Настроение было неважное, даже более подавленное, чем год назад, когда нашу группу лишили возможности действовать. Я вспомнила, как приблизительно в это же время мы получили от Тани открытку из Бельгии… Признаться, с тех пор я никогда больше не думала о Тане. Неужели я стала такой бессердечной? Неужели тяготы войны настолько угнетали душу, что мы не видели ничего, кроме трудного пути, который нам предстояло преодолеть? Я спрашивала себя, что же могло случиться с Таней. Если она добралась до Швейцарии, то могла бы написать нам; во всяком случае, несколько месяцев назад это было возможно. Теперь же почтовая связь совершенно разладилась, даже письмо, отправленное из Амстердама в Гарлем, приходило только через неделю…








