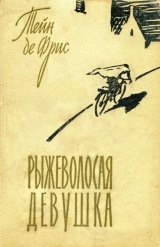
Текст книги "Рыжеволосая девушка"
Автор книги: Тейн де Фрис
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 45 страниц)
Я нарушаю молчание
…В течение целой недели «служба безопасности» меня не тревожила, а Аугусту я видела лишь изредка. Моя камера была оштукатурена грязно-серой известью, нижняя часть окрашена масляной краской в черный цвет. Каждое утро мы должны были подметать камеру мокрой щеткой. Кислая вонь шла от старой морской травы, на которой до меня спало бесчисленное количество узников. В углу стоял щербатый шкафчик с двумя полками, совершенно пустыми. Столик был прикреплен к стене, так же как в моей гарлемской камере. Над столиком висел устав, который я не прочитала, даже когда по прошествии двух суток я почувствовала, что отдохнула и начала скучать.
Двери открывали рано утром. Я выставляла в коридор свое ведро. Люди, которых я никогда не видела, уносили ведра и приносили их обратно уже чистыми. Маленький человек в комбинезоне ставил в камеру небольшой тазик с водой. Она была холодная как лед. Я умывалась, вытирала лицо полотенцем величиной с носовой платок, от него так же несло кислятиной, как и от тюфяка с пропитанной потом морской травой. Вода выливалась. Полчаса спустя приходил тюремщик и подавал мне кусок хлеба толщиной в два дюйма. В первый день я осмотрела хлеб со всех сторон. У меня было такое чувство, будто мне подсунули яд. Зачем бы иначе мне дали хлеб? И я вонзила в него зубы и съела весь кусок, как в свое время мы проглотили шведский белый хлеб – в один прием, до последней крошки, не заботясь о том, что будет дальше. Каждое утро я ждала хлеба, как потерпевший кораблекрушение ждет, не покажется ли вдали судно. И каждый день я испытывала радостное удивление, что мне опять дают хлеб.
В это утро я стояла под окном и слушала звуки, доносившиеся с улицы. На ближнем канале изредка гудел пароходик. Все звуки были слабые, как будто огромный городской организм совсем обессилел и погрузился в дремоту. Только чайки летали, как и прежде. Но и они кричали от голода.
Я то и дело укладывалась на тюфяк – по утрам я обычно перетряхивала его, это делалось определенным способом; быстро, почти без слов, научил меня этому тюремщик. Я лежала на нарах и отдыхала. Мне казалось, что мне надо отдохнуть от тысячи дел, требовавших от меня напряжения всех моих сил. Время от времени, яростно щелкая, открывался дверной глазок. И в который уже раз Аугуста кричала, что днем нельзя лежать на кровати. Я ждала, пока глазок не закроется, и опять ложилась. Иногда Аугуста сгоняла меня с тюфяка по четыре или пять раз в день.
В это утро дверь открылась еще раз. Тюремщик объявил, что мне следует выйти в коридор. Из шести камер вышли заключенные. Лишь на некоторых из них была тюремная одежда. Большинство арестованных были люди от двадцати до тридцати лет, в гражданском платье, но без пальто. Я оказалась единственной женщиной. Мужчины с удивлением глядели на меня. Шаркая ногами, мы прошли под железными лестницами по коридору, дошли до выхода, где коридор разделялся на шесть клеток-загонов. Каждый из нас вошел в продолговатый загон. Здесь мы должны были дышать чистым воздухом. Не знаю, как чувствовали себя другие. В первые дни я вся сжималась от холода. От каждого камня, от каждого куска железа, вклепанного в камень, несло ледяным холодом.
В этих загонах были нацарапаны имена. Однако больше всего надписей было на оштукатуренных стенах камер. Якорь. Кресты. Символы, которых я не понимала. Написанное карандашом стихотворение, которое я очень скоро запомнила наизусть; собственно говоря, это было лишь начало стихотворения:
Жизнь тяжела! Калечат тело,
Но дух царит над миром зла.
С насмешкой зрит он преступленья,
Которыми полна земля.
Но день придет, когда победу
Одержит дух, и мы, воспрянув,
Свободу встретим…
Тут стихотворение кончалось. Я размышляла о том, как можно было бы его продолжить. Однажды, когда я была еще девочкой и училась в средней школе, я пыталась написать стихи. Но я не смогла подобрать хорошие рифмы. Вероятно, так было и с этим сочинителем.
Ближе к полудню меня начинал донимать голод. Я волновалась, ожидая, когда же наконец раздастся тихий звук поворачиваемого в замке ключа и войдет тюремщик с едой. И каждый раз удивлялась, что опять получаю пищу. Это было нечто похожее на суп, в нем плавало что-то вроде ячменных зерен, чуточку картофеля и кусочки капустных кочерыжек. Суп был чуть теплый. Я жадно проглатывала его.
В первые дни я ни о чем не думала. Я целиком выключила свое сознание – я чувствовала, что это единственная возможность восстановить свои душевные силы. Мое тело стремилось побороть усталость. Оно отдыхало, принимало пищу, оно не допускало никаких мыслей, никаких размышлений, которые мешали бы восстановить его силы. Лишь на третий или на четвертый день начала я думать о том, что время идет. Ручкой ложки я нацарапала на стене календарь. Я высчитала, что было уже двадцать пятое марта. Внезапно во мне зашевелился страх. И я начала ходить взад и вперед по камере. Я стала думать о том, что на воле происходят события, в которых я не принимаю более участия. Только теперь я до конца осознала, что я полностью выключилась из борьбы, из активных действий против врага. Кончилась моя борьба.
Я слыхала, что люди сходят с ума от одиночного заключения. В первые дни мне казалось просто счастьем, что я одна в камере. Лишь теперь ощутила я потребность в общении с людьми. Я жаждала знать, что происходит на свете. Я напрямик спросила тюремщика, который принес мне вечернюю порцию супа:
– Как там дела?
Он несколько секунд озадаченно смотрел на меня и захлопнул дверь перед самым моим носом.
Когда мы вышли как-то утром из камеры, чтобы подышать воздухом, я шепнула идущему впереди меня:
– Какие новости?
Он, не оборачиваясь, пожал плечами. Из коридора по-немецки крикнули, что разговаривать друг с другом запрещено. Вдруг кто-то рысью подбежал к нам. Это была Аугуста.
– Du also wieder![109]109
Это опять ты! (нем.).
[Закрыть]
И влепила мне такую затрещину, что я упала. Она втолкнула меня обратно в камеру. В этот день я не дышала свежим воздухом.
В следующие дни меня отправляли на прогулку одну.
По утрам мне перестали давать хлеб; лишь вечером я получала обычную порцию каши из дробленой крупы вместе с кусочками овощей. Я опустошала мисочку в двадцать-тридцать секунд. Держа в руке алюминиевую ложку, я думала:
«Вот уже и неделя прошла. Неужели они там, на воле, не знают, что я здесь? Когда кого-нибудь из наших арестовывали, мы по большей части узнавали об этом в тот же день. Такие новости распространяются быстро. Предупредил ли Пауль фелзенский штаб?»
«Фелзен, – подумала я, – Дрихейс, Блумендал…» Я видела все их перед собой: дома, покрытые снегом, сады под тяжелым снежным покровом, разъезженные дороги. Затем я подумала о людях. Наш штаб… И внезапно на меня нахлынул бурный, темный поток страстного отчаяния, которое я так долго заглушала в себе, пробудились все воспоминания, чего я так боялась; я готова была закричать, так жаждала я видеть своих товарищей.
Я сидела за столиком и плакала, плакала о том, что я в тюрьме, плакала о товарищах, о родителях, о своей собственной беспомощности.
Больше я не могла обманывать себя.
Пауль ничего не сообщил фелзенцам; они не знают о моем аресте. Когда он отвернулся от меня, он тем самым доказал, что ему нет до меня никакого дела.
Но ведь фелзенцам не нужен был Пауль, чтобы узнать, что я здесь. У них много всяких связей. Гарлемская полиция могла бы уже сообщить им обо мне. Или Франс. Или же Ан и Тинка. У них есть десятки способов, чтобы разузнать, где я нахожусь.
Я отгоняла мысль, которая все настойчивее возвращалась ко мне. Английская разведка и гестапо… Мне казалось, будто я подслушиваю различные голоса во мне самой. Сбрасывают старый костюм и надевают новый… Однако тайные сведения остаются в голове. Есть люди, которые слишком много знают от обеих сторон. Они должны исчезнуть… Фелзенскому штабу известны способы, какими можно ликвидировать человека, хотя они знают также, как вырвать заключенного из тюрьмы. Они точно знают, как это сделать; и они точно знают, кого надо спасти, а кого нет. «Что за шутки, в самом деле, они разыгрывают?» – услышала я возмущенный девичий голос. Три девушки-коммунистки никогда не учились разыгрывать подобных шуток. Они лишь помогали фелзенцам это делать, не понимая, какую они ведут игру. От этих дум я в первый раз в тюрьме провела ночь без сна.
Это казалось невероятным, но это было так: мысль, против которой я боролась, не только все объясняла. Она же убила все надежды.
На следующий день я ходила взад и вперед по загону для прогулок, пока мне наконец не бросилось в глаза, что возле одной из каменных стен лежит на гравии крохотная трубочка бумаги, наполовину занесенная мокрым снегом. Бумага была папиросная.
Я тотчас же наступила на нее ногой. И осторожно огляделась вокруг. На том месте, где я стояла, меня не было видно из окон и прорезей в стенах. Я наклонилась и сунула трубочку в чулок.
Когда я вернулась в камеру, я стала спиной к двери, спиной к глазку и развернула бумажку. На ней что-то было написано тонким, как иголка, карандашом. Я с трудом прочла записку «Русские продвигаются вперед к Вене. Англичане переправились возле Везеля через Рейн. Рундштедта заменили Кессельрингом. Американцы в японских водах. Англичане снова завоевали Мандалай».
Я не знала, где находится Мандалай, где-то на Малаккском полуострове или в Бирме? Но дело не в том. Это были новости. Записка была лучом света. Кто-то принес ее, кто-то сообщил то, что сам знал.
Я заучила наизусть эти пять строчек. Я повторяла их вслух и про себя. Бумажку я бросила в ведро, но потом подумала: имела ли я право взять записку с собой и уничтожить? Или нужно было оставить ее на месте – для других? Раздумье над свежими, только что принесенными новостями отвлекло мое внимание от страшной неотвязной мысли, которая со вчерашнего дня мучила меня. Мысли, с которой я не могла и все-таки должна была свыкнуться…
Мрачная тень грозила окутать мой рассудок. Душу мне точил опасный червь сомнения. Но я не могла себе позволить поддаться ему.
Чего только я не придумывала, чтобы переключить свои мысли на что-нибудь другое. Я пыталась установить, много ли я помню из Гражданского кодекса. Припоминала, какие вопросы задавал мой старый профессор в то время, когда я нелегально сдавала экзамен на амстердамском вокзале. Я читала вслух все стихи Гейне, какие только приходили мне на ум. Я задавала себе математические задачи и решала их, приводя сложнейшие доказательства.
Тянулись вторые сутки.
Каждый день в загоне из камня и вклепанного в него железа, куда меня выводили дышать свежим воздухом, я первым делом смотрела, нет ли новых известий с воли.
Но ничего не было.
И мрачные думы одолевали меня: человека, который оставил записку, уже увезли отсюда. Возможно, даже казнили. Из-за Раутера. Или из-за новых покушений на нацистских главарей, о чем мне еще не было известно.
Война подходит к концу. Вот что я знала. Русские вступили в Австрию и наступают на Берлин. Западные союзники на Рейне. Это факт.
Горящий дом может обрушиться каждый день, каждый день…
Я снова начала чертить на стене свой календарь. Не успела я его закончить, как за мной пришли Аугуста и дежурный. Они снова привели меня в унылую зеленую комнату, где в тот раз сидел офицер с прилизанными волосами и орденами на груди. Он и теперь сидел тут же, как будто и не уходил отсюда.
Я увидела, что перед ним на столе лежат знакомые мне предметы. Пачка нелегальных газет, которые у меня отобрали, револьвер, а рядом с ним вынутые из него патроны. И удостоверение личности.
Немецкий офицер сделал мне знак подойти поближе и показал, где встать – возле бюро. Прямо перед моим лбом и глазами горела электрическая лампа. Аугуста встала позади меня, я слышала это по тяжелому дыханию ее груди, стянутой военной формой.
Офицер рассматривал мое удостоверение личности. Я порадовалась, что в течение нескольких дней могла есть, отдыхать, спать. Прежней смертельной усталости у меня уже не было. Не было и ощущения голода, лишающего человека сил. Я чувствовала, что могу оказать сопротивление. Только вот я так и не знала, какая же фамилия и какой возраст указаны в этом удостоверении личности. В камере я не раз пыталась припомнить их, но это так и зияло белым пятном в моей памяти, Мне следовало только держаться прежней линии.
– Name?[110]110
Имя? (нем.).
[Закрыть] – сказал наконец офицер.
Я молчала.
– Name? – повторил он и впервые перевел взгляд с удостоверения личности на меня. Он сильно картавил, брови его сошлись на переносице. Его прилизанность и внешняя корректность казались вдвойне фальшивыми. Я ничего не сказала, И почувствовала между лопатками сильный удар Аугусты.
– Wie heissen Sie?[111]111
Как вас зовут? (нем.).
[Закрыть] – спросил офицер.
Я молчала. Аугуста стукнула меня в спину еще один, два, три раза; затем ниже, прямо в почки, ужасно больно. Офицер некоторое время передвигал на своем бюро принадлежавшие мне вещи и затем сказал:
– Die Komödie mit dem Schweigen hat keinen Zweck. Sie reden jetzt, oder ich lass Sie zum Reden bringen[112]112
Бесполезно разыгрывать эту комедию молчания. Вы заговорите сейчас, или я заставлю вас говорить (нем.).
[Закрыть].
Я ничего не ответила. Офицер поглядел на Аугусту. Рот его слегка скривился.
Я приготовилась ко всему. Внезапно Аугуста схватила меня за волосы. Она дернула мою голову назад, а другой, свободной рукой изо всех сил начала бить меня по ушам. Не знаю, сколько раз она ударила. У меня закружилась голова, я покачнулась. Кровь прилила к лицу. Я вывернулась и согнутыми локтями попыталась ударить назад и даже попала в Аугусту. А эсэсовка била меня все сильнее. Я слышала, как она пыхтит – тяжело и неровно; казалось, вот-вот раздастся звериное рычание. Я еще раз ударила назад. Она ответила мне таким ударом, который оглушил меня. Я почувствовала только, как кто-то пнул меня сапогом в бок, и потеряла сознание.
…Когда я пришла в себя, я сидела на стуле, свесившись на один бок. Офицер сидел по-прежнему за бюро. Он улыбался какой-то гнусной торжествующей улыбкой, которой я в тог момент не поняла. Аугуста стояла около меня. Ее красное опухшее лицо тоже скривилось, как будто она тоже улыбается. В руках она держала прядь моих волос. Тут я почувствовала, что я вся мокрая, как будто меня облили водой; зубы у меня стучали. Волосы тоже были мокрые. Только теперь я поняла, почему офицер и Аугуста смеются. Прядь волос в руке Аугусты была черная, как сажа, но сквозь эту черноту явственно проглядывал рыжий цвет.
– Erholt sich schon, – сказала Аугуста. – …Na, stumme Liese, wie wäre es, wenn wir dir mal schön die Haare wüschen?[113]113
Уже приходит в себя… Ну, немая Лизе, что будет, если мы тебе хорошенько вымоем волосы? (нем.).
[Закрыть]
– Sofort machen[114]114
Немедленно вымыть (нем.).
[Закрыть],– сказал офицер.
Аугуста рывком поставила меня на ноги. Схватив меня одной рукой за ворот, она вывела меня из комнаты, потащила по коридору, как при нашем первом знакомстве. Велела тюремщику открыть мою камеру. Втолкнула меня туда. И исчезла. Но и пяти минут не прошло, как она вернулась. Я прислонилась к столику, не зная, что думать, что делать. Я могу снова подраться с Аугустой. Она опять изобьет меня до потери сознания и все равно сделает то, что она хотела сделать теперь.
Аугуста вернулась с тазом, в нем была налита горячая вода. Она принесла мыло и полотенце, положила их на столик, поставила таз. На ее красном опухшем лице по-прежнему было торжествующее выражение.
– Haare waschen, – сказала она. – Dalli, dalli, dalli[115]115
Мой волосы… Быстро, быстро, быстро (нем.).
[Закрыть].
Она решила сама закатать мне рукава. Я оттолкнула ее. Она улыбнулась. Своими большими жесткими пальцами она барабанила по столику и смотрела, как я сняла свитер и взяла в руки мыло. Я начала мыть волосы, медленно, испытывая смешанное чувство – наслаждение от теплой, душистой мыльной пены, которая окутала мою голову, и горькое унижение от того, что эсэсовка заставила меня выполнить ее приказ.
Аугуста чуть не топала ногами.
– Dalli, dalli, – повторяла она.
Я начала вытирать волосы большим тяжелым полотенцем, которое она мне подала, она молча следила за мной.
Мокрые, теплые волосы пока еще безжизненно свисали вниз. Каштаново-коричневые, такие знакомые когда-то пряди с влажным красноватым блеском, который целиком восстановится, как только я высушу и расчешу их.
– Wasser abspülen[116]116
Вылить воду (нем.).
[Закрыть],– сказала Аугуста.
Я вылила в ведро таз с грязной, черной мыльной водой. И надела свитер.
– Mitkommen[117]117
Идем со мной (нем.).
[Закрыть],– сказала она.
Мы шли обратно по коридору, и по моему телу разливалось мучительное, блаженное ощущение тепла и чистоты и в то же время где-то глубоко внутри росло томительное, щемящее чувство-страх, первый настоящий страх!
Я снова превратилась в рыжеволосую девушку. Такой я числилась в полицейском реестре. И они опознают меня. Я ни на миг не сомневалась в этом. Теперь ясно, что черные волосы, по крайней мере первую неделю – я сказала бы, в мирную неделю, – меня охраняли. Но теперь защиты нет, маскировка исчезла.
Аугуста привела меня к офицеру. Как и в тот раз, она встала за моей спиной. Офицер начал меня разглядывать. Пока еще мало что было видно. Мокрые волосы в беспорядке свисали на лицо. Однако по тому, как он рассматривал меня, я почувствовала, что в моей внешности произошли изменения.
Медленно поднявшись со своего стула и опираясь кончиками пальцев о бюро, он сказал:
– Das sind Sie also nicht [118]118
Это, значит, не вы (нем.).
[Закрыть],– он взял удостоверение личности и поднял к глазам. – Hier steht, dass Sie schwarze Haare haben. Allerdings hatten Sie die vor einer halben Stunde. Es werden aber auf Identitätspapiepen keine Vermummungen verzeichnet, aber richtige Daten… Und wer diese Daten fälscht, macht schuldig an einem schweren Verbrechen… Wissen Sie das?[119]119
Здесь написано, что у вас черные волосы. Во всяком случае, они были таковыми полчаса назад. В документах не указываются всякие маскировки. Там стоят только точные данные… А тот, кто эти данные фальсифицирует, виновен в тяжком преступлении… Знаете вы это? (нем.).
[Закрыть]
Последние слова он по своему обыкновению выкрикнул. Его гладкое холодное лицо внезапно исказилось, верхняя губа вздернулась, точно у разъяренного пса.
Я молчала.
Он вышел из-за своего бюро. На этот раз он не уступил Аугусте права первой выдать мне затрещину. И сделал это, как мог. Я убедилась на себе, что его тощее, обтянутое военной формой тело гораздо тверже и безжалостнее, чем заплывшие жиром мускулы эсэсовки. Он так ударил меня, что я упала, стукнулась головой о стену и осталась лежать на полу – у меня перехватило дыхание.
– Du hundsföttische Terroristensau! – выругался он, картавя и задыхаясь, как будто в горле у него клокотала пена. – Wirst du jetzt sprechen?[120]120
Ах ты подлая террористская свинья!.. Будешь теперь говорить? (нем.).
[Закрыть]
Я поднялась. Мне казалось, что у меня все переломано: шея, спина и поясница. Я расправила плечи. И выпрямилась. Я глядела на офицера сквозь мокрые, только что вымытые волосы. И медленно покачала головой. И ожидала второй вспышки ярости, еще более жестокой, беспощадной. Я видела, как нетерпеливо шевелятся руки Аугусты. Офицер глубоко перевел дыхание.
– Abführen[121]121
Увести (нем.).
[Закрыть],– приказал он.
Он направился к телефону, а Аугуста подтолкнула меня к двери. Когда я была уже на пороге, офицер внезапно заклохтал, будто он вдруг придумал для меня зверское наказание.
Аугуста швырнула меня в камеру.
Я лежала на нарах и плакала, горько и безудержно. Плакала от боли, от оскорбления, от страха, который со всею силой вновь овладел мной, как в тот момент, когда меня арестовали жандармы. В камере все еще сильно пахло хорошим жирным мылом, которым я вымыла голову.
Я плакала, потому что мне казалось, что вместе с краской на волосах я лишилась и другой защиты. Рухнули стены, которые я сама воздвигла между той, кем я была последнее время – с броней на сердце, закаленной, дисциплинированной, – и той, прежней, рыжеволосой девушкой. Я была беззащитна, я была просто Ханна С. Я видела себя на тропинке среди дюн; мои волосы, красновато-каштановые, легко развевались около ушей; кто-то шел рядом со мною на узких, гибких маленьких ногах и молча глядел мне в лицо.
Я лежала, держа волосы в руках, я ласкала свои собственные волосы, судорожно, жадно, как будто наконец я – истерзанная и безутешная – сама воскресила это прошлое, и я горько наслаждалась им, чего прежде никогда не позволяла себе.
Спустились вечерние сумерки; холодный, мрачный мартовский вечер; на воле раздавались душераздирающие крики чаек.
Когда в дверь постучал тюремщик, я взяла у него миску и отставила ее в сторону. Я не чувствовала голода. Я прислушивалась к крику голодных чаек. Голод и леденящий холод на воле всегда лучше, чем железные тиски камеры. Они отгородили меня от всего, что на воле еще жило и сопротивлялось; но в то же время они словно вернули мне все то, что я там, на воле, однажды потеряла. И прошлое предстало передо мною таким пьянящим, таким мучительно сладостным! Как воспоминание, как волшебное видение, как призрак утраченного счастья.
Двое суток лежала я, углубившись в себя, в свое горе. Я не ела, я ходила дышать воздухом и не чувствовала холода. Лежа на тюфяке, я глядела на кирпичный свод окна, и меня одолевали воспоминания. Никто не смотрел через глазок, никто не кричал мне, что нельзя днем лежать на кровати.
Волосы высохли. Распущенные, они окутывали мою голову и стлались по грязной лошадиной попоне; они слегка завивались – я снова испытала ощущение, которого не знала с тех пор, как мои волосы покрыла грубая черная краска. Я закрыла глаза и думала о полуразвалившейся цементной фабрике, о хлеве, о нашем приюте в лесу, о горько пахнущих исполинских папоротниках, о вереске, о траве, в которой я так же вот лежала и голова моя покоилась на мягких, густых распущенных волосах. Я знала теперь, почему все казалось тогда таким богатым, таким полным, таким ласковым. Я не плакала больше. Я лежала так и чувствовала, что моя душа смягчилась и я почти способна улыбаться.
Двое суток…
Затем пришла Аугуста – вместе с дежурным; когда они вели меня на допрос, он шел все время слева от меня; его лица я не видела, слышала лишь стук его сапог по кафельному полу тюремного коридора. Меня привели к офицеру «службы безопасности». И опять у меня создалось впечатление, будто он все это время находился здесь, что он сидит здесь днем и ночью, чтобы допрашивать и терзать людей.
Он сделал знак Аугусте. Она подтолкнула меня вперед, на то самое место, где прямо в глаза падал резкий свет лампы. Я нагнула голову от яркого света. Сзади меня грозно вздымался, шелестя материей, бюст Аугусты.
Я взглянула в сторону бюро. Как и в прошлый раз, там было выставлено мое жалкое имущество.
Затем я поглядела на офицера. На его лице было удивление, как будто его застигли врасплох; на какой-то миг это сделало его похожим на человека со всеми его слабостями. Он взглядом смерил меня с головы до ног и сказал:
– So sehen Sie also aus… – и затем добавил еще более язвительно, как будто он уже справился с чувством, которое считал непростительным: —…Hanna S.![122]122
Вот как вы, значит, выглядите… Ханна С. (нем.).
[Закрыть]
Я уставилась на него. Он засмеялся. Деланным, показным смехом, торжествующим смехом охотника, который поймал наконец дичь.
Он взял с бюро удостоверение личности и ткнул мне в лицо.
– Falsch, natürlich. Verbrechen gegen die Besatzungsbehörden![123]123
Фальшивое, конечно. Преступление против оккупационных властей (нем.).
[Закрыть]
Затем он бросил документ на стол. Взял пачку нелегальных «Де Ваархейд» и поднес ее мне.
– Illegale Zeitungen. Verbreitung von Feindespropaganda… Feindeshilfe, kurzum[124]124
Нелегальные газеты. Распространение вражеской пропаганды… Короче, помощь врагу (нем.).
[Закрыть].
Он убрал листки газет и поглядел на револьвер. И снова засмеялся, стараясь, чтобы это вышло у него тонко, хитро, по-мефистофельски.
– Und zum Schluss: bewaffneter Terrorismus. Da braucht man nichts hinzuzufügen. Was?[125]125
И в заключение: вооруженный террор. К этому нечего добавить. А? (нем.).
[Закрыть]
Я молчала. Он опять рассмеялся:
– Natürlich schweigen Sie. Wollen Sie diese Fakten etwa verneinen?[126]126
Разумеется, вы молчите… Вы и эти факты намерены отрицать? (нем.).
[Закрыть]
Он показал на револьвер, на газеты и удостоверение личности.
Я молчала. Офицер пожал плечами. Затем открыл в своем бюро ящик. Вытащил оттуда напечатанный листок. Я сразу узнала его: полицейские ведомости, где были помещены моя фотография и воззвание ко всем – как можно скорее передать меня, предпочтительно живой, в руки оккупационных властей. Он перевернул листок, так что я могла увидеть, что там было, и острым кончиком карандаша показал на мою фотографию.
– Das sind Sie… Oder nicht?[127]127
Это вы… или нет? (нем.).
[Закрыть]
Я молчала.
– Wir wissen alles, – сказал он затем почти беспечно. – Sie können ruhig alles gestehen…[128]128
Мы знаем все… Вы можете спокойно во всем признаться… (нем.).
[Закрыть]
Он опять язвительно улыбнулся с видом превосходства:
– Hier irren wir uns nie. Hier entwischt uns keiner[129]129
Мы здесь никогда не ошибаемся. Здесь от нас никто не скроется (нем.).
[Закрыть].
Я ничего не сказала. Он поднял голову. И сделал знак дежурному.
– Frau Wemeldinge hierher…[130]130
Фрау Вемельдинге сюда… (нем.).
[Закрыть]—распорядился он.
Дежурный вышел. Я слышала, как он разговаривал в соседнем помещении. И вернулся с кем-то еще. Я невольно взглянула, кого он привел. И увидела крикливо одетую и сильно накрашенную женщину. Она сразу показалась мне знакомой, хотя я не могла определить, при каких обстоятельствах я ее видела. Я напрягла память. Бедную мою, измученную память, в которой было так много белых пятен!
– Sehen Sie die Dame an! – сказал офицер, картавя. – Damit sie sich Ihre Fratze besehen kann!..[131]131
Посмотрите на эту даму… Чтобы она могла видеть вашу физиономию (нем.).
[Закрыть]
Затем он спросил совсем другим тоном, льстиво, с раболепной прусской учтивостью, снова повернувшись в сторону женщины:
– Na, Frau Wemeldinge… was ist Ihr Eindruck?[132]132
Ну, фрау Вемельдинге, каково ваше впечатление? (нем.).
[Закрыть]
– Это она! – сказала женщина. Обвиняющим жестом она протянула в мою сторону белую, слегка дрожащую руку. – Я сразу узнала ее! Это она и еще две девки… они просто-напросто остановили меня, перегородив дорогу велосипедами… Прямо позор, говорю я, что убийцу не поймали… Они притворялись, что ничего не понимают…
– Bitte, – сказал офицер. – Dies Mädel war also betätigt beim Attentat auf den Scharführer Obbe Schaaf?[133]133
Пожалуйста… Значит, эта девушка была замешана в покушении на шарфюрера Оббе Схаафа? (нем.).
[Закрыть]
Он произнес имя «Схааф», как будто это было немецкое слово «Schaf»[134]134
Овца (нем.).
[Закрыть].
– Была ли она при этом? – завопила женщина. – Боже ты милостивый!.. Да ведь она самая отчаянная и отпетая из всей шайки.
Я уставилась на женщину: любовница Оббе Схаафа. Я видела ее единственный раз в жизни, она меня тоже; тогда на ней был пестрый халат огненного цвета, а на мне – плащ. Но волосы мои были тогда выкрашены в черный цвет. Я пожала плечами и отвернулась от нее, а она все продолжала кричать:
– Не отворачивайся от меня, убийца! Я хорошо помню, что ты говорила! Во всяком случае, ты была соучастницей!..
Офицер поднял руку и предупредил поток проклятий, готовых сорваться с губ женщины.
– Sie haben das Mädel von der Photographie erkannt, nicht wahr?[135]135
Вы узнали девушку по фотографии, не правда ли? (нем.).
[Закрыть] – сказал он, показывая ей полицейскую газету.
– Сразу же!.. – крикнула она. – Да она еще говорила мне тогда, что позвонит для меня в полицию!
Я тихонько засмеялась, повертываясь к ней спиной. Она вовсе не у знала меня. Я очень хорошо помнила, что насчет телефонного звонка говорила Ан, а не я. Офицер разом обернулся в мою сторону.
– Warum lachen Sie?[136]136
Почему вы смеетесь? (нем.).
[Закрыть]
Я не отвечала.
Он опять повернулся к фрау Вемельдинге, поблагодарил ее, сделал кому-то знак, чтобы ее вывели. Затем он встал. И прошел мимо меня по направлению к своей комнатке. Открыл дверь. И я услышала позади себя его голос.
– Bitte, bitte sehr… liebe, verehrte Frau Cheval…[137]137
Пожалуйста, пожалуйста…. дорогая, уважаемая фрау Шеваль… (нем.).
[Закрыть]
У меня все внутри напряглось, когда я услышала это имя. Я поглядела вперед, между ножками бюро, где лежал потертый коврик; офицер, видимо, имел обыкновение ставить на него ноги. Я услышала мелкие шажки. На меня повеяло слабым ароматом французских духов, он окутал меня, защипало слизистую оболочку; я чуть не чихнула. Крепко зажмурила глаза, чтобы сдержаться. Снова открыв глаза, я увидела; рядом со мной стоит мадам Шеваль, но уже в другом меховом пальто и в другой меховой шапочке; вуалетку она откинула. Лицо у нее было круглое, точно кукольное, без всякого выражения, глаза навыкате, тоненькие губы. Позади нее стоял офицер. Он, кажется, лично подвел ее ко мне. У нее за плечом он сделал несколько странных глубоких поклонов, а она улыбнулась ему своим пурпурным кукольным ртом и стояла, опустив глаза, пока он не уселся за бюро.
Он соединил кончики пальцев обеих рук и сказал мягко:
– Ihre Aussage, liebe Frau Cheval![138]138
Ваши показания, дорогая фрау Шеваль! (нем.).
[Закрыть]
Мадам Шеваль поглядела на меня. Только тут на ее лице появилось какое-то выражение: на губах – издевательская, мстительная усмешка, дуги бровей сошлись, глаза потемнели. Это придало ей одновременно и человеческий и бесчеловечный вид; по крайней мере ничего кукольного в ней уже не было. Она цедила слова сквозь накрашенные губы:
– Das ist sie. Ohne Zweifel. Hab sie sofort wiedererkannt. Würde sie und die zwei ändern überall und sofort wiedererkennen. Hat wenigstens drei, vier Mal auf mich geschossen…[139]139
Это она. Несомненно. Я сразу ее узнала. Везде и всегда узнала бы ее и двух других… Она стреляла в меня по крайней мере три или четыре раза… (нем.).
[Закрыть]
Она выпрямилась, ее глаза сверкали злобой и презрением:
– Ich lebe noch!..[140]140
Я еще жива!.. (нем.).
[Закрыть]
Она взглянула на меня, как будто уже теперь-то я должна была что-то сказать. Я отвернулась от нее и молчала.
– Na, Hanna S.?.. – спросил офицер; он по-прежнему говорил мягко, но уже с иронией: – Haben Sie nichts zu erklären? Zu verneinen vielleicht?[141]141
Ну, Ханна С.? Вам нечего заявить? Или, может быть, станете отрицать? (нем.).
[Закрыть]
Я не дала ему никакого ответа. Он вздохнул, встал и опять подошел к мадам Шеваль. Не знаю, что он ей говорил. Затем он сам, я слышала это, проводил ее до двери. Обратно он шел более быстрым шагом. Сел на свое место за бюро. Вид у него был явно раздраженный. Постучав о стол карандашом, он сказал:
– Der Polizei-Inspektor hierher![142]142
Инспектора полиции сюда! (нем.).
[Закрыть]
Я опять с любопытством поглядела, прежде чем осознала это. Подошел и встал рядом со мной высокий, желчного вида человек. Инспектор полиции. Тот самый инспектор полиции, который любил говорить скучные ядовитые двусмысленности и в свое время привел Ан, Тинку и меня в «Черные дрозды». На этот раз на его лице не было кривой усмешки. Лицо его ничего не выражало, ни хорошего, ни плохого. Я еще раз мельком взглянула на него. Усиленно билось сердце…
– Herr Inspektor… Haben Sie die Verhaftete jemals gesehen?[143]143
Господин инспектор… Видели вы когда-нибудь арестованную? (нем.).
[Закрыть]
– Niemals[144]144
Никогда (нем.).
[Закрыть],– ответил инспектор.
Офицер нетерпеливо постучал карандашом по столу.
– Bitte. Sie haben sie kaum angesehen. Sehen Sie sich das Mädchen sehr genau an. Schärfen Sie Ihr Gedächtnis…[145]145
Пожалуйста. Вы почти не смотрели на нее. Вглядитесь в девушку получше. Напрягите вашу память… (нем.).
[Закрыть]
Инспектор бросил на меня равнодушный взгляд; кадык медленно двигался над синим воротником его военного мундира.
– Na?.. Was sagt Ihr Gedächtnis?[146]146
Ну? Что подсказывает вам память? (нем.).
[Закрыть] – допытывался офицер. Инспектор по-военному повернулся к нему.
– Tut mir leid, Herr Oberscharführer. Hab sie niemals gesehen[147]147
Мне очень жаль, господин обершарфюрер. Я никогда не видел ее (нем.).
[Закрыть].
Офицер еще раз нагнулся над бюро.
– Sie wissen das bestimmt?[148]148
Вы это определенно знаете? (нем.).
[Закрыть]
– Bestimmt[149]149
Определенно (нем.).
[Закрыть], – ответил инспектор.
Офицер некоторое время сидел молча, сжав губы. Видно было, что он очень недоволен. Затем он поднял глаза.
– Dann danke ich Ihnen, Herr Inspektor… Sie können gehen[150]150
Тогда благодарю вас, господин инспектор… Вы можете идти (нем.).
[Закрыть].
Инспектор отдал честь. Офицер провозгласил «Хайль Гитлер».
Подождав, пока инспектор не вышел из комнаты, он встал опять и картаво проговорил назидательным тоном:
– Der Inspektor hat Sie nicht wiedererkannt, weil Sie jetzt wieder Ihre rote Haare haben. Aber die Damen haben Sie sofort erkannt. Sie wissen wahrscheinlich selbst, dass die Frauen über ein viel ausgeprägteres Beobachtungsorgan verfügen als Männer. Es fällt ihnen erstaunlich leicht, Personen selbst nach langjähriger Frist ohne Zögern zu identifizieren[151]151
Инспектор не узнал вас, потому что у вас теперь опять рыжие волосы. Но дамы сразу вас узнали. Вы сами, вероятно, знаете, что женщины обладают гораздо большей наблюдательностью, чем мужчины. Им удивительно легко моментально опознать человека, даже через много лет (нем.).
[Закрыть].
Я не отвечала. Но улыбнулась спокойно, насмешливо, как ни в чем не бывало, слыша это смехотворное доказательство. Улыбка моя вызвала у него вспышку ярости. Я подняла руку, чтобы защитить лицо, так как он подошел ко мне вплотную.








