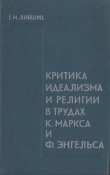Текст книги "Формирование философии марксизма"
Автор книги: Теодор Ойзерман
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 40 страниц)
Выступая против этого недостаточно критического подхода к философии Гегеля и к истории философии вообще, Маркс, во-первых, доказывает, что «бессовестно бросать учителю упрек в том, будто за высказываемыми им взглядами скрываются тайные намерения» (2; 76). Во-вторых, и это, конечно, главное, Маркс отмечает, что консервативные выводы Гегеля связаны с недостаточностью, непоследовательностью самих принципов его философии. «Вполне мыслимо, – писал Маркс, – что философ совершает ту или иную явную непоследовательность в силу того или иного приспособления; он может даже сознавать это. Но одного он не сознает, а именно, что сама возможность подобного явного приспособления имеет свои наиболее глубокие корни в недостаточности принципа или в недостаточном понимании философом своего принципа» (там же, 77).
Таким образом, Маркс уже не ограничивается указанием на противоречие между принципами и конечными выводами гегелевской философии; он идет дальше, усматривая теоретические корни этого противоречия в непоследовательности, недостаточности принципов Гегеля, т.е. в непоследовательности самой гегелевской диалектики. В чем конкретно заключается эта недостаточность, непоследовательность, Маркс еще не может сказать, поскольку он не видит (оставаясь на позициях идеализма), что основной порок диалектики Гегеля состоит в том, что это – идеалистическая диалектика. Однако важна сама постановка задачи критического анализа гегелевской диалектики с целью преодоления ее недостаточности, т.е. дальнейшего развития диалектического метода.
Очевидно и то, что разграничение объективного содержания философского учения и его субъективной формы выражения, так же как и анализ их взаимосвязи, может быть успешно осуществлено лишь постольку, поскольку объективное содержание рассматривается как отражение объективной действительности, независимой от сознания. Между тем Маркс различает объективное содержание и субъективную форму лишь как «внутреннее, существенное сознание», с одной стороны, и внешнее, «экзотерическое сознание» – с другой. Различие проводится внутри сознания, внутри философии. Однако, поскольку Маркс ставит вопрос об отношении философии к миру, самосознания к бытию, теории к практике, постольку намечается направление выхода за пределы идеалистического умозрения.
Новой вехой в идейном развитии молодого Маркса является его первое выступление по конкретным политическим вопросам – «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции», написанные в начале 1842 г. и опубликованные в 1843 г. в сборнике, который подготовил и издал в Швейцарии А. Руге[40]40
См. «Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik» («Неизданное из области новейшей немецкой философии и публицистики»). Bd. I, 1843. Этот сборник состоял из статей, издание которых было запрещено цензурой в Германии.
[Закрыть]. Отправляясь от критики прусской цензурной инструкции 1841 г., Маркс переходит к разоблачению феодального бюрократически-полицейского государства.
Инструкция, о которой идет речь, представляла собой образец лицемерной заботы Фридриха Вильгельма IV о «процветании» литературы: она осуждала на словах излишние цензурные стеснения литературной деятельности и призывала к точному исполнению указа о цензуре 1819 г., в частности статьи 2-й этого указа, согласно которой «цензура не должна препятствовать серьезному и скромному исследованию истины, не должна подвергать писателей неподобающим стеснениям, не должна мешать свободному обращению книг на книжном рынке». От лиц, занимающихся литературной деятельностью, инструкция, как и цитируемая статья указа, требовала благонамеренности, скромности, благопристойности. Неопределенность этих требований предоставляла простор произволу цензуры, которая получала возможность преследовать литераторов не за какие-то определенные высказывания, а за недостаток «благопристойности» и т.п.
Маркс разъясняет, что требование инструкции быть скромным в исследовании есть замаскированное требование отказа от безбоязненного стремления к истине. Какого рода скромности требуют от исследователя? «Всеобщая скромность духа – это разум, та универсальная независимость мысли, которая относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи» (1, 1; 7). Об этой ли скромности идет речь? Конечно, нет! Инструкция предлагает исследователю не прямо стремиться к истине, а считаться с общепризнанными предрассудками, т.е. быть скромным в отношении ко лжи. Но сущность духа – это исключительно истина сама по себе, в то время как инструкция делает ударение не на истине, а на скромности, благопристойности, а также «серьезности», под которой понимается отказ от критического отношения к порядкам, существующим в Пруссии, к освящающей их религии и т.д.
Маркс противопоставляет лицемерным фразам цензурной инструкции рационалистический культ разума и истины, непримиримый ко всему тому, что так или иначе пытается ограничить свободное, устремленное к одной лишь истине мышление. «Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинно, истинное исследование – это развернутая истина, разъединенные звенья которой соединяются в конечном итоге» (1, 1; 7 – 8).
Инструкция запрещает критику религии, прикрывая это запрещение неопределенным заявлением относительно нетерпимости всего того, что «в фривольной, враждебной форме направлено против христианской религии вообще или против определенного вероучения». В этой связи Маркс, развивая положение, уже высказанное им в подготовительных работах к диссертации, касается сущности религии. Он пишет: «…отделение общих принципов религии от ее позитивного содержания и от ее определенной формы противоречит уже общим принципам религии, так как каждая религия полагает, что она отличается от всех остальных – особых, мнимых – религий своей особенной сущностью и что именно она в этой своей определенности и является истинной религией» (1, 1; 10).
Это положение представляет особый интерес: оно показывает, чем отличается подход Маркса к религии от фейербаховского. Фейербах видит сущность религии в чувстве и, исследуя ее общее содержание, считает второстепенным все, что отличает одну религию от другой. Между тем каждая религия обладает своими догматами, которые составляют не только форму, но и содержание религии. Противоречия между религиями, то, что они опровергают друг друга, – необходимые проявления внутренне присущих каждой из них (всякому религиозному сознанию вообще) противоречий. Эта точка зрения, которую Маркс развивает в работах 1842 – 1843 гг., не отвергая принципов фейербаховской критики религии, исключает вместе с тем постановку вопроса о некоей «разумной» религии без бога.
Маркс ставит вопрос: почему прусское государство оберегает религию от критики? Он указывает, что религия санкционирует существующее положение вещей. Реакционеры называют Пруссию христианским государством. Это значит, что христианские догматы, т.е. отличие христианства от любой другой религии, его особая сущность, объявляются мерилом государства. Вы хотите, говорит Маркс, «сделать опорой государства не свободный разум, а веру; религия и служит для вас всеобщей санкцией существующего…» (1, 1; 12 – 13).
Маркс, как и Б. Бауэр, доказывает, что государство как разумная организация общественной жизни и религия (неразумие) органически враждебны друг другу. С этой точки зрения понятие христианского государства является нонсенсом, а защита государством религии – антигосударственной практикой. И все же позиция Маркса несколько отличается от свойственного Б. Бауэру подхода, поскольку Маркс подчеркивает, что разумность государства основывается на разуме членов общества[41]41
«Нравственное государство предполагает в своих членах государственный образ мыслей, если даже они вступают в оппозицию против органа государства, против правительства. Но в таком обществе, в котором какой-либо один орган мнит себя единственным, исключительным обладателем государственного разума и государственной нравственности, в таком правительстве, которое принципиально противопоставляет себя народу и поэтому считает свой антигосударственный образ мыслей всеобщим, нормальным образом мыслей, – там нечистая совесть политиканствующей клики измышляет законы о тенденции, законы мести, карающие за тот образ мыслей, которого на самом деле придерживаются одни только члены правительства» (1, 1; 15). Это положение иллюстрирует революционно-демократические убеждения Маркса.
[Закрыть].
Б. Бауэр, А. Руге и другие младогегельянцы вслед за Гегелем ставили над «гражданским обществом» с его, как казалось им, прозой частных интересов государство как сферу разума, осуществляющего всеобщую, абсолютную цель. В своих заметках о цензурной инструкции Маркс еще не отвергает этой концепции. Но, подвергая критике феодальное государство как выражение интересов отдельных сословий, что, по его убеждению, противоречит сущности государства, он доказывает, что лишь интересы народа не являются частными, своекорыстными интересами. Поэтому-то законы, противостоящие народу, квалифицируются Марксом как мнимые законы, противоречащие своему понятию. Такого рода законом, вернее, привилегией господствующего сословия Маркс считает указ о цензуре. «Закон, карающий за образ мыслей, не есть закон, изданный государством для его граждан, это – закон одной партии против другой… Это закон – не единения, а разъединения, а все законы разъединения реакционны. Это не закон, а привилегия» (1, 1; 15). Поскольку связь юридических установлений с интересами определенных классов и партий рассматривается здесь как нечто противоречащее праву, это положение носит идеалистический характер. Истинные законы, полагает Маркс, выражают всеобщие, общенародные интересы. Революционно-демократический характер этих положений несомненен.
Если верить цензурной инструкции, то притеснения печати в Пруссии имели место якобы лишь вследствие несоблюдения указа о цензуре. Почему же не соблюдался указ? – спрашивает Маркс. Объяснить этот факт нерадивостью или злонамеренностью цензоров – значит приписать отдельным лицам недостатки, присущие определенному учреждению. «Такова обычная манера мнимого либерализма: вынужденный делать уступки, он жертвует людьми – орудиями, и сохраняет неизменной суть дела – данный институт» (1, 1; 4 – 5). Между тем дело заключается в том, что «в самой сущности цензуры кроется какой-то коренной порок, которого не исправит никакой закон» (там же, 4).
В то время как многие немецкие либералы с воодушевлением встретили прусскую цензурную инструкцию, увидев в ней прогрессивную инициативу королевской власти, Маркс обнажает скрытую реакционную подоплеку этой уступки, которая лишь усиливает абсолютизм. «Действительным, радикальным излечением цензуры было бы ее уничтожение, ибо негодным является само это учреждение, а ведь учреждения более могущественны, чем люди» (1, 1; 27). Последнее замечание представляется нам весьма существенным с точки зрения исторической перспективы формирования марксизма. Маркс, по существу, подходит здесь к пониманию того, что условия, определяющие жизнь людей и господствующие над ними, создаются самими людьми.
Статья Маркса о прусской цензурной инструкции – замечательный образец революционно-демократической публицистики, яркий пример критически-диалектического анализа противоречия между видимостью и сущностью, между субъективной формой и объективным содержанием.
Критика прусской цензурной инструкции дает Марксу повод выступить против реакционной романтической идеологии, прикрывающей попытки господствующих феодальных сословий завуалировать свою диктатуру ссылками на старые, добрые, неписанные обычаи, разрушение которых должно якобы повести ко всеобщей испорченности. Маркс показывает, что неопределенность, утонченная чувствительность и субъективная экзальтированность романтики нередко имеют вполне определенный политический подтекст.
Критика политического романтизма – весьма важный момент в формировании философии марксизма. Выступление Маркса против прусской цензурной инструкции лишь начало его борьбы против идеологии реакционного романтизма. Ее продолжением станет критика исторической школы права и феодального псевдосоциализма.
Итак, уже в начале 1842 г. Маркс выступает как революционный демократ, непримиримо враждебный господствующим в Германии общественным отношениям. Ясно также и то, что Маркс готов бесстрашно идти вперед, не останавливаясь перед любыми революционными выводами и практическими последствиями, из них вытекающими.
В эти же годы независимо от Маркса начинается идейно-политическое развитие Энгельса, формирование его революционно-демократических убеждений.
В своей первой опубликованной статье, на которой мы остановимся ниже, Энгельс набрасывает картину своего родного города Бармена и непосредственно примыкающего к нему Эльберфельда, которые уже тогда, в 30-х годах XIX в., были крупными центрами текстильного производства в Рейнской провинции. В духовной жизни этих форпостов немецкого капитализма, впрочем, как и во всей Вуппертальской долине (Muckertal, как называет ее Энгельс, – ханжеская долина), господствовали клерикализм и мещанство. «Вся эта местность, – говорит Энгельс, – затоплена морем пиетизма и филистерства…» (1, 1; 472). Это, разумеется, не мешало благочестивым фабрикантам беспощадно эксплуатировать не только взрослых, но и детей. У фабрикантов «эластичная совесть, и оттого, что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви. Ибо установлено, что из фабрикантов хуже всех со своими рабочими обращаются пиетисты…» (там же, 456). Что касается культурного уровня местных богачей, то о нем можно сказать лишь одно: «Образования – ни малейшего; тот, кто играет в вист или на бильярде, умеет немного рассуждать о политике и сказать удачный комплимент, считается в Бармене и Эльберфельде образованным человеком» (там же, 467).
Вот что представлял собой родной город Энгельса, очерченный пером 19-летнего юноши, остро почувствовавшего духовное убожество окружавших его представителей преуспевающей буржуазии, к которой принадлежала и его собственная семья. Духовная атмосфера в доме фабриканта Энгельса, по-видимому, не так уж отличалась от той, которая описана в «Письмах из Вупперталя», хотя мать и подарила сыну к его двадцатилетию сочинения Гёте, о котором местные пиетисты знали только то, что он «безбожник».
В 1839 г. Энгельс писал своему школьному товарищу В. Греберу, что религиозная ортодоксия, которая внушалась ему в семье и в школе, не могла не вызвать протеста в его сознании[42]42
«Если бы я не был воспитан в крайностях ортодоксии и пиетизма, если бы мне в церкви, в школе и дома не внушали всегда самой слепой, безусловной веры в библию и в соответствие между учением библии и учением церкви и даже особым учением каждого священника, то, может быть, я еще долго бы придерживался несколько либерального супернатурализма» (2; 313).
[Закрыть]. И чем больше школьные наставники и родители пытались развить в нем пиетистскую непримиримость к любым нерелигиозным представлениям, тем сильнее становился этот протест. «Еще гимназистом, – указывает В.И. Ленин, – возненавидел он самодержавие и произвол чиновников. Занятия философией повели его дальше» (5, 2; 7).
В выпускном свидетельстве, полученном Энгельсом в Эльберфельдской гимназии, которую ему не пришлось окончить, так как отец предназначал его для коммерческой деятельности, отмечается, что он «отличался весьма хорошим поведением, а именно обращал на себя внимание своих учителей скромностью, искренностью и сердечностью и при хороших способностях обнаружил похвальное стремление получить как можно более обширное научное образование…». Там отмечается также, что гимназист Энгельс выделялся «религиозностью, чистотой сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами» (59; 480 – 481).
В 1838 г. отец Энгельса отправил его в Бремен для обучения коммерческому делу. Здесь, сидя в конторе местного фабриканта и купца, юноша находит время для самообразования, для журналистской работы, публицистики, а также для сочинения стихов и рассказов, некоторые из которых были опубликованы в 1838 – 1839 гг. Письма Энгельса сестре Марии дают представление об удивительном многообразии его интересов. Он не только пишет статьи и пробует свои силы как писатель; он также рисует, сочиняет музыку, изучает иностранные языки и регулярно занимается спортом. «Теперь мы стали заниматься фехтованием, я каждую неделю фехтую по четыре раза…» – пишет он в одном из писем (1, 41; 468).
Если пиетизм был непримирим даже к умеренным светским представлениям, то развитие философских и политических воззрений Энгельса, сначала под влиянием литературной группы «Молодая Германия», а затем благодаря сближению с младогегельянством, в свою очередь исключало какую бы то ни было возможность компромисса с религией. Вопрос об отношении веры и разума, религии и науки приобретает важнейшее значение на этом этапе его идейного развития. И это понятно: в предреволюционной Германии борьба против религии и клерикализма была одним из основных идеологических выражений буржуазно-демократического движения. И для Маркса, как было показано выше, этот вопрос имел большое значение в период его работы над диссертацией. Но Маркс не воспитывался в атмосфере пиетизма, ему не надо было преодолевать «вуппертальскую веру», и вопрос об отношении разума и веры был для него преимущественно теоретической проблемой. У Энгельса же речь идет о собственном разуме и собственной вере; его, во всяком случае на первых порах, волнует не теоретическая сторона вопроса, а личный конфликт с «вуппертальской верой».
В одном из стихотворений, относящихся к началу 1837 г., он восклицает:
Господи Иисусе Христе, сыне божий,
О, сойди со своего трона
И спаси мою душу! (59; 465)
В письмах к братьям Греберам (1838 г. – февраль 1841 г.), которые представляют собой ценнейший источник для изучения этого раннего этапа духовного развития Энгельса, вопрос об отношении к религии занимает главное место. Мы, правда, не находим в них явного супернатурализма, безапелляционно утверждающего (подобно современному протестантскому фундаментализму), что каждое слово Священного писания надо понимать буквально. Однако Энгельс и не отмежевывается от него и, больше того, все еще считает себя умеренным супернатуралистом, враждебным лишь пиетизму. «Нет, пиетистом, – пишет он, – я никогда не был, был одно время мистиком, но это tempi passati; теперь я честный, очень терпимый по отношению к другим супернатуралист; сколько времени я останусь им, не знаю, но я надеюсь остаться таковым, хотя и склоняюсь иногда, то больше, то меньше, к рационализму» (2; 281 – 282)[43]43
В этой связи становится понятен интерес Энгельса в то время к мистицизму Я. Бёме, а также к религиозной поэзии (см. 2; 265 – 266, 268).
[Закрыть].
Это выдержка из письма, написанного в начале апреля 1839 г. В конце того же месяца Энгельс, все еще называя себя супернатуралистом, склоняется к рационалистическому истолкованию религии, выступая против религиозной ортодоксии. «Я не понимаю, – пишет он, – как ортодоксальные священники могут быть столь ортодоксальны, когда в библии встречаются такие явные противоречия… Ортодоксы требуют не послушания разума Христу, нет, они убивают в человеке божественное и заменяют его мертвой буквой. Поэтому-то я и теперь такой же хороший супернатуралист, как и прежде, но от ортодоксии я отказался. Я ни за что не могу поэтому поверить, что рационалист, который от всего сердца стремится творить добро сколько в его силах, должен быть осужден на вечные муки. Это же противоречит и самой библии» (2; 282 – 283).
Попытки придать разумную форму религии, рационалистически истолковав ее догматы, безусловно, говорят о кризисе веры: об этом свидетельствует как история религии, так и история философии. Выступая против догматической формы религии, Энгельс, сам еще не сознавая того, подвергает критике ее сокровеннейшее содержание. И не только потому, что в религии, как и везде, форма неотделима от содержания; догматы, как это уже видел Маркс в 1841 г., являются не только формой, но и содержанием религии. Религия, свободная от догматов, возможна разве только в сознании философов. И попытка Энгельса рационалистически истолковать религиозные догматы приводит к неожиданным для него последствиям: вместе с крушением слепой веры рушится и религиозная вера вообще. Так, возражая Ф. Греберу, который настаивает на том, что надо, не мудрствуя лукаво, принимать без обсуждения истины откровения, Энгельс пишет: «Дорогой Фриц, пойми, что это было бы бессмыслицей и что разум божий, конечно, выше нашего, но он все же не другого рода; иначе бы он вовсе не был разумом. Ведь библейские догматы надо тоже воспринимать разумом. – Свобода духа, говоришь ты, заключается в отсутствии самой возможности сомнения. Но ведь это – величайшее рабство духа; свободен лишь тот, кто победил в своем убеждении всякие сомнения. И я вовсе не требую, чтобы ты меня разбил; я вызываю на бой всю ортодоксальную теологию, пусть разобьет меня» (2; 307).
Уже в этом письме (июль 1839 г.) обнаруживается и для самого Энгельса, что его борьба с христианской ортодоксией чревата сомнением в истинности религии вообще. Это открытие потрясает Энгельса, который полагал, что рационализм должен очистить и укрепить религиозные чувства. «Я молюсь ежедневно, даже почти целый день об истине; я стал так поступать с тех пор, как начал сомневаться, и все-таки я не могу вернуться к вашей вере; а между тем, написано: просите и дастся вам…
У меня выступают слезы на глазах, когда я пишу это, я весь охвачен волнением, но я чувствую, что не погибну; я вернусь к богу, к которому стремится все мое сердце» (2; 309).
Хотя Энгельс здесь говорит о невозможности вернуться к «вашей вере», т.е. к религиозной ортодоксии братьев Греберов, он и сам чувствует, что суть дела гораздо глубже; этим объясняются его смятение и надежды вернуться к религии. Однако возвращение уже невозможно, так как вместе с «вуппертальской верой» рушится и религиозность вообще. Об этом говорят последние письма к Греберам, в которых все меньше и меньше затрагиваются вопросы религии. И хотя Энгельс еще не заявляет о своем атеизме, уже очевидно не только то, что его надежда вернуться к богу не осуществилась, но и то, что это уже не волнует его.
Таким образом, с 1839 по 1841 г. Энгельс проходит путь от религиозного супернатурализма к атеизму, который вполне выявляется в его памфлетах против Шеллинга. Главную роль в этом процессе играет все более развивающееся (в значительной мере под влиянием младогегельянства) сознание несправедливости тех общественных отношений, которые освящает религия.
В апреле 1839 г. Энгельс в письме к Греберам восторженно приветствует «раскаты грома июльской революции, самого прекрасного со времени освободительной войны проявления народной воли» (2; 279). В это время симпатии Энгельса привлекает «Молодая Германия», идейными вдохновителями которой были Л. Бёрне и Г. Гейне, находившиеся в эмиграции. Он в основном одобряет ее политические идеи, главными из которых считает: участие народа в управлении государством, следовательно, конституцию; далее, эмансипацию евреев, уничтожение всякого религиозного принуждения, всякой родовой аристократии и т.д. (см. 2; 280). Он высоко оценивает К. Гуцкова, талантливого драматурга, публициста и издателя младогерманского журнала «Telegraph für Deutschland». Умеренность Гуцкова в отношении к религии также импонирует Энгельсу, поскольку он еще не идет дальше рационалистического тезиса, согласно которому «божественным можно считать лишь то учение, которое может выдержать критику разума» (там же, 302)[44]44
Энгельс замечает, что для Гуцкова «высшая цель в жизни найти ту точку, где положительное христианство могло бы братски слиться с современным образованием» (2; 302 – 303).
[Закрыть]. То обстоятельство, что «Молодая Германия» подвергалась репрессиям и произведения младогерманцев были запрещены в Пруссии, не могло не привлечь симпатий Энгельса к этой группе, тем более что других активных сил на общественно-политической и литературной арене он в то время еще не видел (см. там же, 280). Отсюда понятно его заявление в письме к Ф. Греберу: «…я должен стать младогерманцем, или, скорее, я уж таков душой и телом» (там же, 281)[45]45
В другом месте, касаясь преследований, которым подвергается «Молодая Германия», Энгельс заявляет, что эта группа «королевой восседает на троне современной германской литературы» (2; 312). Это говорится в письме, датированном 30 июля 1839 г. А весной 1840 г. в статье «Современная литературная жизнь» Энгельс уже высказывает серьезные критические замечания в адрес деятелей «Молодой Германии». Он указывает, в частности, на политическое филистерство Т. Мундта, в новеллах которого «идеи эпохи выступили с подстриженной бородой и прилизанными волосами, во фраке просителя, протягивающего верноподданнейшее ходатайство на всемилостивейшее их осуществление» (1, 41; 94). Касаясь полемики между Гуцковым и другими младогерманцами, в которой на первый план выступили личные мотивы, Энгельс упрекает «Молодую Германию» в беспринципности, противопоставляя ей младогегельянцев, которые сплачиваются в борьбе против реакционных общественных сил (см. там же, 72).
[Закрыть]. На благочестивых и умеренных Греберов (одного из них Энгельс называет в письме «ночным колпаком в политике») это заявление произвело устрашающее впечатление. Не отваживаясь прямо возражать против буржуазно-демократических идей «Молодой Германии», В. Гребер пытается доказать, что не следует торопить дело прогресса. Против этого аргумента, типичного не столько для реакционеров, сколько для либералов, Энгельс обрушивается со всей юношеской страстностью, сквозь которую уже проглядывает решимость революционера. «Во-первых, – пишет он, – я протестую против твоего мнения, будто я подгоняю дух времени пинками, чтобы он живее двигался вперед… Нет, от этого я воздерживаюсь, наоборот, когда дух времени налетает, как буря, увлекая за собой железнодорожный поезд, то я быстро вскакиваю в вагон и даю себя немного подвезти» (2; 312).
Итак, дух времени налетает, подобно буре, – эта фраза лучше всего выражает и чувства, и надежды молодого Энгельса. Тщетны попытки укрыться от бури в какой-нибудь тихой гавани. И вы, пишет Энгельс Греберам, будете «вовлечены в политику; поток времени затопит ваше идиллическое царство, и тогда вы будете растерянно метаться в поисках убежища. Деятельность, жизнь, юношеское мужество – вот в чем истинный смысл!» (2; 338).
Энгельс страстно жаждет революционной бури. И его переход к атеизму объясняется не только сознанием противоразумности религии, но и пониманием того, что она сковывает человеческую личность. «Человек родился свободным, он свободен!» (2; 304) – эти слова Энгельса в одном из писем 1839 г. как бы подытоживают развитие его воззрений на данном этапе.
В том же 1839 г. в «Telegraph für Deutschland» увидела свет статья Энгельса «Письма из Вупперталя», в которой прямо указывается на связь между религиозностью трудящихся и той нещадной эксплуатацией, которой они подвергаются. «Работа в низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода, – и в большинстве случаев, начиная уже с шестилетнего возраста, – прямо предназначена для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности. Ткачи-одиночки сидят у себя дома с утра до ночи, согнувшись за станком, и иссушают свой спинной мозг у жаркой печки. Удел этих людей – мистицизм или пьянство» (1, 1; 455 – 456)[46]46
В 1842 г. в шуточной поэме «Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или Торжество веры», написанной Энгельсом совместно с младогегельянцем Э. Бауэром, та же мысль о связи религиозности с рабством и нищетой трудящихся выражена еще ярче и определеннее:
…вот там сапожничек стоит;Ему быть набожным грудь впалая велит.А рядом трезвенный кабатчик круглолицый,Он нацедит тебе за денежку водицы,Смиреньем набожным сияет лунный лик;Как не сказать, что ты, о веры ключ, велик?! (2; 486).
[Закрыть].
В «Письмах из Вупперталя» Энгельс еще не выделяет пролетариат как особый класс среди массы эксплуатируемых и угнетенных. Но в отличие от либералов (к которым принадлежали и деятели «Молодой Германии», за исключением разве только Бёрне и Гейне) он свободен от иллюзий относительно готовности буржуазии бороться за улучшение положения трудящихся. Энгельс подчеркивает, что фабрикантам нет дела до положения рабочих: их не волнует ужасающее распространение чахотки, мистицизма, алкоголизма среди рабочих. И хотя Энгельс пока еще бичует главным образом «безобразное хозяйничанье владельцев фабрик», он в сущности уже сознает несовместимость интересов трудящихся и «работодателей». В этом проявляется становление революционно-демократических взглядов Энгельса: признание непримиримого противоречия между угнетаемыми и угнетателями, сознание необходимости революционного разрешения этого противоречия.
В письмах к Греберам Энгельс не только восхищается французской революцией 1830 г., но и прямо говорит о необходимости народного восстания против германского абсолютизма. Так, в феврале 1840 г. Энгельс заявляет: «…я смертельно ненавижу его (прусского короля Фридриха-Вильгельма III. – Т.О.); и если бы я не презирал до такой степени этого подлеца, то ненавидел бы его еще больше… Нет времени, более изобилующего преступлениями королей, чем время с 1816 по 1830 год; почти каждый государь, царствовавший тогда, заслужил смертную казнь… От государя я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты революцией» (2; 337 – 338).
В то время как либеральный буржуа страшится революционного почина угнетенных и эксплуатируемых, видя в нем нарушение «порядка» и «безопасности», для революционного демократа Энгельса народ – могущественная сила осуществления исторической справедливости. Это убеждение образует одно из исходных теоретических положений революционного демократизма молодого Энгельса.