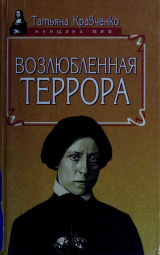
Текст книги "Возлюбленная террора"
Автор книги: Татьяна Кравченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
В какой-то момент казаки на минуту расступились, и глазам невольных наблюдателей предстало зрелище растерзанного девичьего тела, еще недавно бывшего маленькой аккуратной гимназисткой. Кто-то тихо ахнул.
– Ох, изверги… – тихо выдохнули в толпе.
Аврамов оглянулся и словно только сейчас заметил, что на платформе, помимо казаков, еще есть люди. Глаза его злобно сверкнули.
– Бей всех, кто тут есть! – дико взревел он. – Всех в нагайки, к такой-то матери!
И сам подал пример, с размаху хлестнув старика чиновника, на беду стоявшего довольно близко.
Оставив недавнюю жертву лежать на потемневшем от крови снегу, казаки бросились исполнять приказ своего подъесаула. Удары падали направо и налево без разбору. Толпа в ужасе кинулась врассыпную. Мировой судья Коваленко, наконец опомнившись, поспешил скрыться в вагоне, сочтя за благо переждать там до окончания событий. Унтер-офицер Хитров несколько замешкался и попался на глаза Тихону Жданову.
– Что стоишь как пень на дороге! – завопил Жданов, поднимая нагайку.
– Я… – попытался что-то сказать Хитров, но нагайка уже обрушилась на его голову. Закрываясь руками, он поспешно бросился наутек. Остановился Хитров, только оказавшись во дворе станции. – Не люди, а звери! – пробормотал он возмущенно, морщась от боли. – Жалобу подам на бесчинства!
Когда на платформе никого, кроме казаков, не осталось, Аврамов вспомнил о виновнице событий. Он подошел к недвижному маленькому телу, распластанному на платформе. Казак, охранявший преступницу, слегка посторонился. Аврамов приподнял голову девушки носком сапога. Голова безжизненно мотнулась и упала. Аврамов смачно сплюнул.
– К исправнику ее! – решил он. – На дознание!
Марусю схватили за ногу и поволокли по платформе. Юбки задрались вверх, бесстыдно обнажив часть туловища. Но то, что казаки тащили по платформе, не было молоденькой стыдливой девушкой. Избитому и окровавленному куску человеческого мяса, в которое усилиями Аврамова превратилась аккуратная гимназистка, уже было все равно. Нестерпимая, невыносимая боль заслонила и стыд, и все другие чувства.
Совместными усилиями Марусю усадили на извозчика – она была как тряпичная кукла, совершенно неживая, – и повезли, на квартиру к исправнику Протасову.
По дороге она не то чтобы пришла в себя, но сознание вернулось. Маруся даже сама смогла подняться вверх по лестнице, ведущей в квартиру. Однако у самой двери силы вновь оставили ее. Остановившись на верхней площадке, она привалилась спиной к стене, тяжело дыша и стараясь превозмочь боль. Аврамов, шедший следом, тоже остановился. Он стоял прямо против нее, сильный, наглый, и, не стесняясь, рассматривал с головы до ног. Глаза у него были слегка навыкате и какие-то мутные, вероятно от пьянства, на щеке сидела крупная некрасивая бородавка. Почему-то при виде этой бородавки Марусю чуть не стошнило.
Взгляд Аврамова остановился на Марусиных руках.
– А где же револьвер ваш, барышня? – с издевательской усмешкой сказал он.
Маруся скорее угадала, чем услышала, о чем ее спрашивают. Попробовала ответить – из горла вырвалось какое-то хрипение, потом удалось тихо произнести:
– Выронила, когда вы били меня на станции.
Аврамов усмехнулся еще шире:
– Как ваша фамилия?
«О чем он говорит?»– подумала Маруся. Она видела, как шевелятся его губы, но слов не разбирала.
– Я не здешняя, – наугад сказала она.
– Я спрашиваю, как ваша фамилия? – мгновенно раздражаясь, повторил Аврамов.
– Я не здешняя, тамбовка, – с трудом выговорила Маруся.
Дышать почему-то становилось все тяжелее и тяжелее, и уши опять словно ватой заложило. Аврамов размахнулся и ударил Марусю в лицо. Голова ее стукнулась о стенку. Маруся подняла руку и провела по лицу – на белой ладони остался красный кровавый след.
– Зачем вы меня бьете? – Собравшись с силами, она говорила тихо и внятно, глядя прямо в наглые пьяные глаза казачьего подъесаула. – Предавайте суду, расстреливайте, вешайте, но зачем истязаете меня?
Аврамов коротко хохотнул и, не отвечая, втолкнул Марусю внутрь квартиры.
Воздух в квартире исправника был затхлым и спертым. Окна по случаю прибытия раненого решили не открывать, а комнаты давно не проветривались.
Гаврила Николаевич находился в сознании; мучительные боли от ран едва ли заглушались постоянными впрыскиваниями камфары. Еще на станции, в вагоне поезда, куда Луженовского перенесли с платформы, его осмотрел случившийся тут же железнодорожный врач Ещенко. Гаврила Николаевич, морщась от боли, без звука претерпел процедуру осмотра. Когда врач закончил, Луженовский, скрывая страх под вымученной улыбкой, спросил нарочито бодрым тоном:
– Ну что, доктор, есть ли какая-нибудь опасность?
Ещенко задумчиво пожевал губами:
– Как вам сказать… Легкие, конечно, сильно пострадали, но большой опасности не представляют, а вот живот… М-да…
– Уверяю вас, легкие совсем не пострадали, – вмешался стоявший неподалеку помощник полицейского надзирателя Новиков. – Их высокоблагородие курят-с. Вот только что изволили папироску выкурить.
Ещенко пожал плечами, явно не убежденный доводами Новикова, и сказал, что больному необходимо впрыскивание камфары. Срочно послали в ближайшую аптеку.
С тех самых пор камфару впрыскивали постоянно, но заметного облегчения это не приносило. Со станции Гаврилу Николаевича со всей осторожностью перевезли в дом исправника Протасова. Хозяин с тех пор находился при Луженовском безотлучно, приезжали и другие. Для приезжих справиться о здоровье в соседней комнате накрыли стол с водкой и закусками. Была отправлена телеграмма в Тамбов губернатору фон дер Лауницу и родным Луженовского. Ждали приезда в Борисоглебск его матери и жены, Веры Константиновны.
Отправив арестованную в полицейский участок, в квартиру воротился Петр Аврамов. Подойдя к столу и выпив подряд несколько рюмок водки, он подсел к постели раненого. Лицо Луженовского, и обычно бывшее нездорового цвета, теперь стало совсем восково-желтым. Он лежал на спине, щеки дряблыми складками свисали на подушки, глаза почти скрыты веками. Заметив Аврамова, Луженовский шевельнул губами, словно хотел что-то сказать. Аврамов наклонился к нему:
– Что, Гаврила Николаевич?
– Как… – губы разлеплялись с трудом, а раз разлепившись, никак не хотели сомкнуться обратно, – как… там?
Аврамов понял, что речь об арестованной.
– Все будет сделано как надо, – успокоил он раненого. – Пока молчит, но в конце концов обо всем расскажет, не сомневайтесь. С ней пока Тихон.
– При ней… что-нибудь нашли?
– Тихон нашел дорожную корзинку с книгой, кажется «Странички жизни». Говорит, книга из местной публичной библиотеки.
Луженовский с трудом кивнул. Тут накатил очередной приступ боли, он охнул и шумно, со всхлипом втянул в себя воздух.
– Ох, Гаврила Николаевич! – вдруг завыл Аврамов, схватившись за голову и раскачиваясь из стороны в сторону. – Ох, что ты наделал! Угораздило же тебя!
Исправник подошел к подъесаулу и похлопал его по плечу, призывая успокоиться. Луженовский сделал знак, что хочет еще что-то сказать. Аврамов прекратил на полуслове причитания и наклонился к постели раненого.
– Ты вот что, Петя, – прошелестел Луженовский, – вот что… Поезжай-ка в здешнюю библиотеку с обыском… Видно… рассадник крамолы…
– И то верно, – поддержал исправник, – возьми двадцать казаков и две подводы, отправляйся живо, не теряя ни минуты, скорее! И будь мужествен! А потом – в участок, продолжай свое дело.
Аврамов преданно посмотрел на Луженовского и поднялся.
– Я вернусь, Гаврила Николаевич, – обернулся он с порога, – доложить, что и как.
В полицейском участке было холодно как в могиле. На каменном полу камеры, мокром и грязном, лежала, скорчившись, маленькая обнаженная фигурка. Сознание возвращалось медленно, толчками. Вероятно, немало тому способствовал холод. Первое движение Маруси, когда она пришла в себя, – подтянуть колени к подбородку. Все тело страшно болело, после побоев на нем живого места не осталось, одна сплошная рана. Превозмогая боль, Маруся все же сжалась в комочек, стараясь хоть немного согреться. Встать сил у нее совсем не было.
Сколько времени прошло с тех пор, как ее привезли в участок, она не знала. Может быть, два часа, а может быть, двое суток. Ее обыскали, раздели, а потом втолкнули в эту камеру. Следом вошли Жданов и Аврамов.
– Что, камеру не топят? – спросил Тихон Жданов, потирая руки.
– Никак нет, – отрапортовал стоявший у двери жандарм.
– Ну вот и отлично, – Жданов улыбнулся, – и не топите. Так-то барышня быстрей разговорится. Правда, барышня?
Маруся не ответила. Она ощущала голой спиной ледяной холод, идущий от каменного пола.
– Что молчишь? – Жданов, угрожающе оскалившись, сделал к ней шаг и замахнулся. – У, ты…
Память вдруг услужливо подсказала Марусе слова, сказанные Владимиром так давно – или так недавно? «Идя на акт, не надо скрывать своего имени и сущности поступка. Пусть негодяи знают, за что расплачиваются». А она и не собиралась этого скрывать.
Еле шевеля разбитыми губами, Маруся тихо, но спокойно выговорила:
– Я готова назвать свое имя и объяснить, почему я сделала то, что сделала.
– Ах, она готова! – Аврамов недобро сощурил глаз. – Что ж, послушаем.
Он повернулся к жандарму у двери:
– Выйди-ка отсюда, любезнейший.
Жандарма тут же как ветром сдуло. Аврамова боялись – слухи о его крутом нраве распространились по всему уезду, а уж в Борисоглебске-то, на своем служебном месте, он особенно старался.
Как только за жандармом закрылась дверь, подъесаул повернулся к арестованной:
– Ну что, барышня, давай выкладывай. Кто ты будешь?
«Гимназистка, – почему-то вертелось в голове у Маруси. – Я – гимназистка…»
– Ученица седьмого класса тамбовской женской гимназии… – чуть слышно прошептала она.
– Звать как?
– Мария Александрова… – она хотела добавить «Спиридонова», но голос оборвался, и стало нечем дышать.
– Так, значит, Александрова. Гимназистка… Из хорошей семьи, наверное, – протянул Аврамов. – Смотри-ка, Тихон, какая цаца нам досталась!
Аврамов подошел к Марусе почти вплотную. От него сильно несло перегаром. Приподняв ее избитое лицо за подбородок, он выдохнул:
– А теперь, дорогая, будь умницей и дальше. Скажи, кто твои товарищи? Ведь не одна же ты пустилась на такое дело, а?
Маруся молчала. Тогда Аврамов сильно ударил ее.
– Тихон, лови! – Он приподнял Марусю за волосы и ногой перебросил в другой угол камеры, где стоял Жданов. Жданов, в свою очередь, пнул Марусю к подъесаулу. От этого толчка она рухнула на каменный пол лицом вниз. Громко лязгнули зубы, и изо рта потекла кровь.
«Весельчакам» забава явно понравилась. Однако, повторив ее еще раза два, они решили усовершенствовать развлечение. Жданов встал девушке на спину и начал бить беззащитную жертву нагайкой, приговаривая:
– Ну, барышня, скажи нам зажигательную речь! Ну, давай, сука, давай!
Аврамов понаблюдал за ним минуты две, потом прикурил папироску, затянулся и притушил горящий окурок о Марусино тело. При этом он пристально смотрел ей в лицо. У Маруси в глазах потемнело от боли, но она смолчала. Аврамов заметно разозлился:
– Смотрите какая! Ну же, кричи!
«Умру, – подумала Маруся, – а кричать не буду. Не дождутся, такой радости я им не доставлю». Она уже не чувствовала своего тела, сознание уплывало, и это было благом, позволяющим терпеть невыносимые мучения. «Только бы не бредить! Ничего не сказать в бреду…»
– Кричи, дрянь! У нас целые села коровами ревели, а эта девчонка ни разу не крикнула ни на вокзале, ни здесь! Тихон, иди сюда!
Жданов с усмешкой подошел и встал у Маруси в ногах:
– Ну?
– Смотри, какие изящные ножки! А ну-ка, поставь ее на них!
Жданов подхватил Марусю под мышки. Стоять она уже не могла и бессильно повисла на руках своего мучителя.
– Ах, какие ножки! – издевательски повторил Аврамов и сапогом наступил Марусе на ступни. Стало слышно, как хрустнули косточки.
– И еще, и еще, – приговаривал Аврамов, давя каблуком маленькие пальцы. – Больно, дорогая?
Но Маруси словно уже и не было – за пределом человеческого терпения наступает забвение, амнезия, потеря ощущений, когда уже не сознаешь ни себя, ни окружающее.
Чувства стали к ней возвращаться только спустя некоторое время, когда Маруся вдруг обнаружила себя сидящей на узком подоконнике тюремного окна. Слева от нее сидел Жданов, справа – Аврамов. Она была как в тисках зажата между их потными сильными телами.
– Нравится ли вам так, барышня? – совсем близко наклонившись к ней и дыша перегаром, спросил Аврамов. – Не правда ли, мы умеем обращаться с дамами?
Тиски смыкались все крепче и крепче. Маруся не проронила ни звука.
– Ах ты… – Жданов безобразно выругался. – Ну погоди же! Мы тебя на ночь казакам отдадим!
– Ну, нет, – недобро усмехаясь, сказал Аврамов. – Сначала мы, потом казакам…
Он сгреб Марусю в охапку и грубо прижал к себе:
– Кричи!
Она молчала.
Тогда Аврамов со всего размаха ударил ее по голове. Левый Марусин глаз уже после побоев на вокзале совершенно заплыл, часть лица представляла собой сплошное кровавое месиво. Удар Аврамова пришелся как раз на эту часть.
От нестерпимой боли Маруся дернулась и снова потеряла сознание.
В публичную библиотеку Аврамов и Жданов явились в сопровождении полусотни казаков. Вот как описывала газета «Русь» их действия в библиотеке.
«Войдя в первую комнату, где было порядочно народа, пришедшего менять книги (тут были учащиеся, горничные, дворники, все те, кто обычно приходит за книгами), Аврамов зычным голосом крикнул: «Оставаться на местах, иначе стрелять буду!..» Казаков выстроил в шеренгу и приказал навести ружья.
Такие предосторожности он принял там, где половина была женщины, и все до одного невооруженные. Такая сила понадобилась ему там, где никто не хотел оказывать никакого сопротивления, где люди собрались не для битв, а для просветительных мирных целей.
Приняв все необходимые военные меры против столь опасного противника, Аврамов храбро приступил к обыску.
Аврамов принял на себя более приятную роль, как он сам выразился вслух при всех присутствовавших, обыскивать барышень.
Эти обыски он производил так бесцеремонно, позволял себе водить рукой по нескольку раз по таким местам, где обыкновенно ничего не хранится, да и не может храниться, так что одна из барышень не выдержала столь бессовестного и наглого отношения и крикнула резко:
– Я не позволю вам так обращаться со мной. Можете убить, если хотите, но этих вещей я не позволю вам делать!
– Ах, mademoiselle, помилуйте! – ведь это так приятно! – фамильярным тоном ответил любезный Аврамов и продолжал ее обыскивать тем же приемом.
– Если вам приятно, то мне противно! Слышите! Оставьте, я вам говорю! – в страшном негодовании воскликнула девушка.
Тут тон офицера сразу переменился, и резким, грубым голосом он крикнул:
– Молчать, сударыня! Ни слова!..
И воцарилось гробовое молчание. Только нервно подергивалось лицо бедной девушки, все залитое красным румянцем; слезы стыда и оскорбления еле удерживались на ее прелестных глазах. Она растерянно смотрела на окружающих; она не понимала, за что он оскорбил ее? Почему он так нагло осквернил ее целомудрие и чистоту? Неужели только потому, что она бессильна и слаба, а у
него 25 свирепых казаков, вооруженных ружьями, нагайками, готовых броситься по первому мановению его руки…
Из тяжелого раздумья вывел ее резкий, грубый голос Аврамова: «Ты жид?» Этот вопрос относился к мальчугану лет 17-ти, стоявшему неподалеку от барышни. Тот ответил: «Я еврей».
– А, ты еврей! а не жид… очень приятно познакомиться с вами, господин иерусалимский дворянин! – и при этих словах хлесткие удары по лицу посыпались на бедного еврея.
Он молчал, еле удерживаясь от крика вследствие сильной физической боли; бил он его действительно сильно и как-то умело и ловко, так что скоро лицо окровянилось и брызги крови попали на окружающих. Одна из таких капель попала на руку одной молоденькой барышне. Она в ужасе вскрикнула:
– У меня на руке кровь!.. Что вы делаете? Изверг!
Аврамов быстро повернулся, увидал красивое, пухленькое личико с протянутой вперед хорошенькой рукой, сразу весь переменился, улыбнулся, вынул из кармана платок и со словами: «Ах! pardon, mademoiselle! какая с моей стороны неосторожность!..» – вытер ей с руки каплю крови. Она с чувством омерзения выдернула свою руку, когда тот задержал ее в своей руке.
Затем Аврамов моментально вновь переменился, повернулся к своей прежней жертве, к мальчугану-еврею. Заметив на его лице капли слез, которые тот не смог сдержать, несмотря на то, что прилагал все усилия к тому, Аврамов со свирепым лицом вновь размахнулся и начал наносить ему сплеча удары по лицу, приговаривая:
– Вот как… Ты плачешь? Так вот тебе за твои нежности… Получай!.. Еще!.. Не плачь, иеруса, химский дворянин! – и удары сыпались хлестко и часто.
Обыск продолжался. Все понимали, что судьба каждого из них находится в полной зависимости от страшного произвола этого дикого, жестокого человека, который быстро переходит из состояния кровожадного зверя к состоянию умиленного похотливыми побуждениями сладострастника, не могущего равнодушно видеть женское лицо, женскую фигуру. Все понимали это и с ужасом ждали развязки. Она не замедлила явиться.
В читальне под столом нашли кем-то выброшенную нелегальную брошюру. Кому она принадлежала – неизвестно. Аврамов рассвирепел и крикнул: «Если не скажете, кто это сделал, я вас всех перестреляю! Слышите, пусть лучше сознается тот, кто это сделал, нежели пострадают невинные люди!» Никто не сознавался, Аврамов несколько раз повторил свою страшную угрозу, и все были уверены, что он ее приведет в исполнение. Ждали расстрела. По его предыдущим выходкам никто не сомневался, что ему ничего не стоит пролить кровь тридцати – сорока человек Минута была ужасная; все ждали смерти.
Вдруг Аврамов, посоветовавшись со Ждановым, приказал всех до единого отправить в тюрьму, а библиотеку закрыть. Всю толпу окружили казаки и повели к тюремному замку, где их продержали от трех дней до недели, не найдя за ними никакой вины. По дороге казаки позволяли себе самые грубые, циничные выходки, ругались, острили; грозили нагайками тем, кто отставал или замедлял шаг. К библиотеке приставили часовых, и три недели она была закрыта.
По натуре своей Аврамов человек дикий, в высшей степени несдержанный, не умеющий владеть собой и подчинять эмоции своей воле. Переходы его из одного состояния в другое совершаются в нем быстро, не оставляя никакого следа.
Много пьет, и это заметно на его лице. По свидетельству казаков, его считают в своей команде человеком злым и жестоким, что видно из его обращения с лошадьми и нижними чинами.
Перед возвращением в участок Аврамов снова заехал на квартиру к исправнику.
Луженовскому за это время лучше не стало: боли хотя и не усиливались, но и не утихали, лицо приняло какой-то восковой оттенок, щеки еще более обвисли. Он лежал на постели, огромный, как гора. Половина туловища прикрыта одеялом, жирная волосатая грудь обнажена, чтобы облегчить дыхание. Только что состоялся врачебный консилиум. Решено было повременить с перевозкой раненого в Тамбов хотя бы сутки.
И опять Аврамов, прежде чем подойти к раненому, влил в себя несколько стопок водки, одну за другой, подряд, почти не закусывая.
– Что, Петр Федорович, – поинтересовался исправник, – как все прошло?
Аврамов махнул рукой:
– А! Арестовали барышень и жидов, отправили в участок, после разберемся… – Он опрокинул очередную стопку и смачно хрустнул огурцом. – Нашли кое-что… Нелегальное. Под стол бросили, думали, не заметим.
– Ну и?
Аврамов ухмыльнулся:
– Расстрелять их всех надо было к чертовой матери! Но мы с Тишкой решили – надо бы сначала дознание провести. Тихон-то в библиотеку со мной поехал, а потом снова в участок вернулся.
– А что ваша гимназистка?
– Пока молчит. Сейчас в камере без сознания. Но это мы еще посмотрим, и не такие у нас коровами ревели! – Аврамов стукнул кулаком по столу. – А как Гаврила Николаевич? Что доктора говорят?
– Да плохо… Прибытие матушки его ждем с минуты на минуту.
Аврамов заглянул в соседнюю комнату. Луженовский недвижно лежал на постели, и непонятно было, в сознании ли он или нет. Подъесаул подошел и наклонился над раненым. Луженовский продолжал смотреть прямо перед собой. Аврамов схватился за голову и зарыдал.
– Эх, Гаврила Николаевич, – выкрикнул он сквозь пьяные слезы, – эх, как же мы теперь без тебя-то! Друг, что же это такое!
Внезапно он вскочил и ударил себя в грудь.
– Я! Я во всем виноват! Недоглядел! Допустил Гаврилу одного выйти из вагона!
– Да Господь с тобой, Петр Федорович, – попытался утихомирить его исправник. – О чем ты говоришь?
– Моя вина! – буйствовал Аврамов. – Недосмотрел! Из-за меня погибает Гаврила!
– Да полно! – Исправник обнял его за плечи и повел к столу. – Давай выпьем за его здоровье! Даст Бог, поправится.
Он налил себе и Аврамову еще по стопке.
Через некоторое время Луженовского снова осмотрел врач, дежуривший в соседней комнате. После осмотра покачал головой:
– Без особых изменений. Две пули в живот чрезвычайно опасны.
Притихший Аврамов нерешительно кашлянул и спросил:
– Что, господин доктор, возможен ли благоприятный исход?
Врач пожал плечами:
– Будем надеяться. А теперь, после осмотра, я могу отлучиться на полчаса и пойти к арестованной.
– Зачем? – удивился Аврамов.
Врач пожал плечами:
– Посмотреть ее и оказать помощь.
– Какую такую помощь, позвольте спросить? – прищурился Протасов.
– Медицинскую, – сухо пояснил врач. – Она в ней нуждается, так как ее сильно избили.
Лицо исправника из любезного сразу сделалось жестоким и неприятным.
– Нет, – резко возразил он. – Этого не надо. Ни доктора, ни следователя я к ней не пушу. Сегодня же вечером ее отправят в Тамбов.
Аврамов, дождавшись конца разговора, повернулся и вышел из квартиры. «Я из нее, дряни, душу вытрясу», – бормотал он, сбегая вниз по ступенькам.
В тот же день вечером в кухню к врачу, который днем дежурил у Луженовского, явились странные посетители. Кухарка вызвала барина. Он пришел не сразу, оторвавшись от обычного вечернего чтения газеты. На пороге переминались с ноги на ногу два мужика.
– Что вам угодно? – сердито поинтересовался хозяин квартиры.
– Вы уж извините нас, господин доктор, – робко начал один из пришедших. – Только вот отрядили нас спросить… Что, правда ли Луженовский ранен серьезно?
– Правда. Две пули в живот, задеты легкие и рука.
– Ну и как он… – после минутной заминки спросил другой. – Возможно ли выздоровление?
– Нет, – сухо сказал доктор. – После такого ранения – определенно нет.
Лица мужиков просветлели.
– Есть Бог на небесах, он и явил свою милость! – широко перекрестились они. – Спасибо, господин доктор, на добром слове!
Мужики ушли. Кухарка, вытирая руки о передник, спросила:
– Что барин, звать ли вас в другой раз-то? Это уж третьи, почитай, за сегодня. И как пить дать придут еще!
– Зови, – разрешил доктор. – Хорошие новости должны быстро распространяться.
В одиннадцать вечера арестованную привели в комнату, где ее ожидал судебный следователь. На Марусю было страшно смотреть: распухшее от побоев тело, голова небрежно перевязана, а лицо превратилось в синюю вздутую маску с багровыми кровоподтеками. Ее усадили на стул, поддерживая сзади и сбоку, – без поддержки она не могла сидеть, все время падала. Следователь сначала в ужасе посмотрел на девушку, потом постарался справиться с собой и спросил почти спокойно:
– Ваше имя?
Она смотрела на него, явно не понимая вопроса. Один глаз у нее заплыл совершенно, второй же еле-еле раскрывался.
– Ваше имя? – растерянно повторил следователь.
– Красное… Красное и белое…«– пробормотала Маруся еле слышно.
– Что?
– Они все бегут… одно за другим, одно за другим…
Следователь отодвинул от себя бумагу и ручку.
– Я не могу снимать показания, – решительно сказал он. – Арестованная бредит. Ей необходима медицинская помощь.
Стоявший за спиной Маруси жандарм оглянулся и вопросительно посмотрел на Жданова, прислонившегося к дверному косяку. Тот равнодушно пожал плечами:
– Это дело тюремной администрации.
Следователь, не говоря больше ни слова, вышел из комнаты.
По телефону разыскали железнодорожного фельдшера Зимина. Ему было приказано сопровождать арестованную во время переезда в Тамбов до станции Терновка.
Дорогу до вокзала Маруся не запомнила. Сознание вернулось, только когда ее втаскивали в вагон. Первое, что она услышала, – гиканье, свист и грубая площадная брань, которой Аврамов награждал ее, казаков, фельдшера, всех, кто подворачивался под руку. Заметив, что арестованная приходит в себя, подъесаул отпихнул поддерживающего ее казака:
– А ну, оставь барышню! Она к твоим рукам непривычная, правда ведь?
Казак ухмыльнулся и отошел. Чтобы не упасть, Маруся прислонилась спиной к стенке купе. Аврамов подошел к ней вплотную, сощурился и вдруг закричал:
– Ну, стреляй же в меня, стреляй! Ну, что же, ведь ты убила Луженовского, убивай и меня!
От него невыносимо несло перегаром, бородавка на щеке дергалась, как жирный черный паук. Фельдшер Зимин, робко наблюдавший из угла эту сцену, вдруг подумал, что маленькая избитая девушка едва до плеча Аврамову достает, и шире он ее раза в три, а вот поди ж ты… Боится он ее, что ли? Или просто так забавляется?
Однако эта забава Аврамову скоро надоела. Он отошел от Маруси на шаг и сказал с пафосом:
– Хорошо тебе все-таки от нас досталось. И правильно– на то мы и казаки, чтобы избивать таких, как ты.
Перед глазами у Маруси опять все поплыло, и она стала медленно сползать по стенке. Зимин успел ее подхватить.
– Воды… – выдавила она из себя, – пожалуйста, дайте воды…
Аврамов, еще не успевший отойти, услышал.
– Не давать! – обернувшись к Зимину, приказал он. – Ничего не давать.
Аврамов оглядел присутствующих, остановил взгляд на приставе Новикове и распорядился:
– Отведите ее в купе второго класса и закройте там.
А Луженовский все это время по-прежнему лежал в квартире исправника. Состояние его было безнадежно, и он об этом догадывался. Но смерть, назначенная ему, была настолько ужасной, что такой и врагу добрые люди не пожелают.
18 января Гаврилу Николаевича перевезли в Тамбов. При нем неотлучно находились его мать и жена, губернатор фон дер Лауниц постоянно справлялся о его здоровье. Хотя врачи определенно ничего не говорили, сам Гаврила Николаевич понимал, что обречен. Еще из Борисоглебска он велел исправнику отправить тамбовскому губернатору телеграмму: «Умираю. Попросите у Государя за детей. Берегите себя». Поздно вечером, до приезда матери, пожелал причаститься, – не верил, что увидит следующее утро. Однако смерть к нему не спешила – Гаврила Николаевич прожил еще двадцать шесть мучительных дней.
Умирал Луженовский долго и страшно – после Марусиного выстрела здоровый организм тридцатичетырехлетнего мужчины все еще боролся, пытаясь сохранить остатки жизни, теплившиеся в разлагавшемся заживо жирном теле. Гноящиеся раны смердели так, что невозможно было находиться не только у постели больною, но и в соседней комнате. Потом началось рожистое воспаление живота, грозящее перекинуться на все тело. Особенно мучительны были перевязки – к бинтам прилипали не только сгнившая кожа, но и большие куски живого мяса.
Говорил он мало, когда был в сознании, стонал от боли. Если боль отпускала, лежал, уставив глаза в потолок, и о чем-то думал. Вспоминал ли прошедшее, жалел ли о содеянном? Этого не знает никто.
Как-то раз, впрочем, от него услышали: «Действительно, я хватил через край…»
Отпевали Луженовского на сыропустной неделе в Кафедральном соборе города Тамбова. Служили ректор Тамбовской Семинарии архимандрит Феодор, кафедральный протоиерей Озеров и законоучитель тамбовской мужской гимназии протоиерей Бельский. Похоронили его в фамильном склепе дворян Луженовских. в имении Токаревка.
Однако память по себе Гаврила Николаевич оставил в Тамбовской губернии долгую. Говорят, в 1906 и 1907 годах по многим деревням крестьяне заказывали молебны за здравие Марии-избавительницы, впрочем, может быть, это только слухи. Зато достоверно известно другое: спустя десять лет, уже после Февральской революции 1917 года, пришедшие с фронта солдаты на празднике Пасхи сломали фамильный склеп, извлекли останки Луженовского и до вечера таскали их по улицам, свистя и улюлюкая. Потом, вдоволь натешившись, на площади у церкви разложили громадный костер. В ею огне и сгорело то, что некогда было тамбовским помещиком, советником тамбовского губернского правления Гаврилой Николаевичем Луженовским.
В купе второго класса, куда Марусю определил Аврамов, вместе с ней находились фельдшер Зимин и пристав Новиков. Новиков уснул почти тотчас же, сладко похрюкивая носом на соседней полке, а Зимин сидел у Маруси в изголовье и время от времени смачивал ей губы водой. Маруся полуспала, полубредила. Ей чудилось, что она снова ночует на станции Жердевка, а Луженовский уже проехал, она опоздала, опоздала… «Ах, нет, – внезапно очнувшись от какого-то толчка, вспомнила она. – Все случилось. Я сделала все как надо».
Зимин легонько тряс ее за плечо.
– Барышня, послушайте, – шепотом сказал он. – Четвертый час ночи… Сейчас будет Терновка, мне выходить.
– Да… – Маруся никак не могла понять, что он ей говорит. – Да…
– Барышня…
Вдруг дверь купе широко распахнулась. На пороге стоял Аврамов. Зимин резко отшатнулся от. Маруси – так велик был страх перед казачьим подъесаулом. Поезд замедлял ход.
– Терновка, господин фельдшер, – обманчиво вежливо сказал Аврамов. – Вам выходить.
Зимин, ни слова не говоря, взял саквояж и поспешно вышел. Аврамов сел па его место, вытянул ноги – они заняли почти все свободное пространство купе – и посмотрел на Марусю. Она тоже села, хотя опухшее, израненное тело отозвалось на перемену положения невыносимой болью.
– s Ну что, Мария Александровна, не желаете ли подкрепиться? – Аврамов любезно улыбнулся и выложил на столик плитку шоколада.
Маруся не ответила, но взгляд не отвела.
– Не хотите шоколаду, могу предложить водки, – продолжил Аврамов тем же тоном. – Только прикажите, сейчас же принесут. А может быть, у вас есть еще какие пожелания? Так сказать, мне неведомые?
– Только одно, – с трудом усмехнулась Маруся разбитыми губами. – Проследите, чтобы веревка, на которой меня будут вешать, оказалась крепкой. А то в нашей несчастной России не только самодержавие, но и веревки гнилые.
Она намекала на казнь декабристов, но Аврамов, разумеется, намека не понял:
– Ну зачем же говорить в такую ночь о столь мрачных материях?
Пересев к Марусе поближе, Аврамов протянул руку и провел пальцем по ее груди. Блузка давно порвалась и служила плохой преградой коротким волосатым пальцам с квадратными холеными ногтями. Маруся отшатнулась. На лице ее появилось выражение гадливости:








