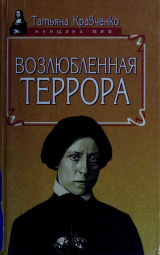
Текст книги "Возлюбленная террора"
Автор книги: Татьяна Кравченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Маруся выпрямилась во весь свой небольшой рост.
Глаза ее гневно сверкнули:
– Вот не знала…
– Что не знала? – сказала Клаша уже совсем еле слышно.
– Не знала, что ты предательница!
– Маруся! – Клаша попыталась схватить ее за руку. – Что ты делаешь, Маруся, опомнись! Мы же подруги!
Марусины глаза сузились в две злые щелочки:
– Подруги? Мне не нужны такие подруги!
– Но мы же… Мы же с детства вместе! Ты же мне как сестра! Я же люблю тебя!
Маруся дернула плечом:
– Отстань!
Клаша выпустила Марусину руку и горько прошептала:
– Ты же сама потом жалеть будешь…
– Я? Никогда!
Она уже открыла дверь и собралась с треском захлопнусь ее за собой с другой стороны, как вдруг услышала:
– Мама говорит, что друзей трудно найти и больно терять…
Маруся оглянулась и гневно выпалила Клаше в лицо:
– А мне и не нужны такие друзья! Мне нужны друзья-соратники в моем деле!
«И зачем она сюда пришла?» – опять подумала Маруся, раздражаясь все больше и больше. Таким, как Клаша, не место среди ее товарищей.
А обстановка в зале все накалялась.
<…> Речь Киншиной сразу подняла настроение слушателей и перенесла их внимание на общие темы. После Киншиной попросил слова местный эсэр М. К. Вольский. Речь его, длившаяся более часа, была еще резче, еще более зажигательна, она дышала ненавистью к существующему правительственному и учебному строю и до такой степени воспламенила всю публику, что далее вести собрание было невозможно. Поднялся страшный шум, крики: «долой самодержавие» и пение революционных песен. Собрание само собою закрылось, и около 12 часов ночи все вышли на улицу. Здесь толпа около 300 человек, состоящая из учащихся, земских служащих и рабочих, с пением революционных песен медленно потянулась по Большой улице по направлению к Екатерининскому Институту, имея в виду силою освободить заключенных институтцев.
Когда участники демонстрации подошли к зданию Института, то здесь они были окружены войсками и полицией и препровождены в 1-ю часть. Здесь в страшной грязи и холоде их продержали до трех часов утра, некоторых отпустили, а 52 человека отправили в тюрьму. Путь от части до тюрьмы был ужасен. По команде кавалерийского офицера: «Гони их, гони!» солдаты чуть не бегом двинулись с задержанными, подгоняя задних тычками и прикладами. причем били прикладами даже девиц. Площадная ругань, крики, стоны, бег по колени в грязи под ударами прикладов – все это создавало ужасную картину бесчеловечного произвола.
СТРАШНО ТОЛЬКО В ПЕРВЫЙ РАЗ
Господину Прокурору
Тамбовского Окружного Суда
24-го марта у Екатерининского Учительского Института между 11–12 часами ночи мы вместе с другой публикой были окружены солдатами и, без всякого предупреждения разойтись, отведены в 1-ю часть.
Там нас продержали на дворе в грязи в течение 3 часов и, несмотря на неоднократные заявления публики, в помещение не впустили.
Из части под конвоем тех же солдат, чинов полицейского отряда или под начальством офицера (учитель гимнастики в Екатерининском Учительском Институте) публика была отправлена в тюрьму и вот тут началось грубое издевательство и избиение.
Публику буквально гнали, гнали по страшной грязи (многие пришли в тюрьму не только без галош, но и без обуви вообще).
Солдаты били прикладами ружей как попало и по чему попало, толкали и оскорбляли – офицер при этом присутствовал.
Мы утверждаем, что избиение это было организовано заранее, так как 1) публика держалась корректно и не давала ни малейшего повода к насилию, т. к. 2) на обращение публики к конвойному офицеру он не обращал внимания и смеялся и 3) в части были жандармский полковник, полицмейстер, другие чины полиции, конвойный офицер, туда же вызывали по нескольку человек конвойных солдат.
Мы считаем арест наш незаконным, поведение полиции и конвойного офицера – грубым произволом и насилием и требуем немедленного освобождения всех арестованных, расследования дела и привлечения к ответственности виновных лиц.
Авдеева, А. Гармиза,
Р Коникова, В. Колендо, М. Спиридонова
31 марта 1905 года
Уже десять дней девушки провели в тюрьме. Их всех – и Ванду, и Марусю, и обеих Ань – Авдееву и Гармиза– определили в одну довольно просторную камеру – при желании можно было посадить в нее арестованных вдвое больше, чем теперь. Но, как шутили девушки, размеры – единственное достоинство этого помещения Холодно было почти как на улице – отопление еле-еле грело, и хоть вода не замерзала, зато изо рта шел пар. Мало того что холодно – было так сыро, что на каменных стенах оседали капельки влаги, а под отсыревшими тюфяками на асфальтовом полу образовывались мокрые пятна. Хорошо еще, хоть еду можно было получить в передачах из дома, потому что тюремная баланда была абсолютно несъедобной.
Этот день начался как обычно – подъем, завтрак, прогулка по тюремному двору… На прогулку пошли все, кроме прихворнувшей Ани Авдеевой и Маруси. Маруся не вставала уже пятый день – к простуде, полученной в ночь ареста, добавились сильные головные боли от слабости и нервного перенапряжения, часто шла носом кровь.
Испуганные девушки потребовали вызвать врача – тот хоть и не сразу, но пришел. Сделать, правда, все равно ничего не смог. Сказал, что единственно возможное лечение – перемена обстановки, но это не в его силах.
Денек выдался серый, промозгло-мартовский, хоть уже и начался апрель. Слабый свет, проникавший в камеру через небольшие оконца высоко под потолком, не мог рассеять сумеречный полумрак. Анна сидела на своем тюфяке, уткнувшись в недавно выпущенную книжечку «босяцких» рассказов Горького. Буквы дешевого шрифта сливались перед глазами. Не в силах больше напрягаться, Анна провела по лбу рукой, вздохнула и отложила книгу.
Из того угла, где лежала Маруся, послышался слабый кашель.
– Аня…
– Да?
Анна подошла к Марусе и присела у нее в ногах:
– Я думала, ты спишь. Сделать для тебя что-нибудь?
– Да нет… Что тут сделаешь.
Маруся чуть улыбнулась и опять закашлялась. Аня сочувственно погладила ее по руке. Приступ кашля на этот раз прошел довольно быстро. Аня нахмурилась и сказала:
– Надо тебе выбираться отсюда как можно скорее. Почему ты не хочешь, чтобы за тебя похлопотали? Если бы Женя знала, в каком ты состоянии… По здоровью тебя бы отдали на поруки.
– Нет уж, – Маруся упрямо покачала головой. – Не хочу никаких поблажек. Почему мне должно быть лучше, чем вам? Мы выйдем отсюда только все вместе.
– Но, Маруся…
– Я же сказала – нет. Да и ничего со мной не случится.
Ну почему она такая упрямая, подумала Анна. Если уж вобьет себе что-то в голову, так не переубедишь. Решила, что с ее стороны нечестно и непорядочно бросать товарищей, и теперь готова уморить себя – лишь бы быть со всеми вместе. Сказать по правде, Марусино самопожертвование Анну слегка раздражало. Глупо все это. Но вслух она, разумеется, ничего не сказала.
– Аня, – Маруся тронула подругу за рукав и улыбнулась, – а ты знаешь, это даже хорошо, что я сейчас в тюрьме.
Анна посмотрела на нее в полном недоумении:
– Чего же хорошего? Что ты вот-вот чахотку подхватишь?
– Да нет, я не об этом… Ты помнишь, как я вела себя тогда… Ну, тогда, когда у Жени в первый раз делали обыск.
Аня невольно усмехнулась:
– Да уж помню…
Это было не так давно – в ноябре прошлого года. На квартире у Евгении Александровны в доме Спиридоновых проходила так называемая подпольная дискуссия. Обсуждали резолюцию, только что принятую Женевской группой партии эсеров «О боевых дружинах в деревне». Текст резолюции привез Герман Надеждин, накануне вернувшийся из Саратова. У саратовских товарищей связь с эмиграцией налажена лучше, чем у тамбовцев. Всего на дискуссию собралось человек двенадцать – пятнадцать – в основном эсеры, эсдеков было мало.
Вдруг в самый разгар прений, около двенадцати ночи, под окнами раздался топот коней, послышались шаги, грохнули открываемые с улицы ставни, и сразу вслед за этим – настойчивый стук в дверь:
– А ну, открывайте!
На долю секунды в комнате повисла зловещая тишина. Стук повторился. Маруся вскочила и метнулась к двери:
– Жандармы! Мы пропали, погибли!
Ее нервное худенькое лицо перекосилось от ненависти и страха, в голосе – истерика:
– Что же теперь будет? Что делать? Что делать?
Аня Авдеева молча подошла к ней, обняла за плечи и усадила на место. Маруся схватила Анину руку так крепко, что потом остались красные пятна.
– Что же будет?
– Сидите спокойно, на вопросы не отвечайте, протокол не подписывайте, – быстро проговорил Надеждин. – У кого что есть, живо выкладывайте и жгите.
И сам подал пример, скомкал текст резолюции, поджег его и кинул на пол. Присутствующие стали торопливо выбрасывать в импровизированный костер прокламации и записи, сделанные только что во время обсуждения. Шаги полицейских уже слышались на лестнице. В дверь застучали.
– Сидите спокойно, – еще раз повторил Надеждин.
Дверь под ударами распахнулась, ворвались городовые и жандармы с револьверами в руках. Вслед за ними на пороге возник пристав:
– Именем закона прошу не трогаться с места!
А никто и не думал трогаться. На полу догорали еще какие-то бумажки, валялись кусочки писем, прокламаций…
Начался обыск. Жандармы искали повсюду, чуть ли не мебель вверх дном переворачивали. Задержанные, в основном люди опытные в такого рода делах, с интересом наблюдали за их манипуляциями. Хозяйка квартиры, Женя Спиридонова, стояла у двери, скрестив руки на груди, с безразличным и отстраненно-спокойным лицом.
Платон Михайлов, медлительный добродушный парень, пересел поближе к самому младшему «подпольщику», гимназисту Саше Ежову, взял его за руку и успокаивающе шепнул:
– Не надо бояться.
– А я и не боюсь, – Саша доверчиво посмотрел на Платона. В глазах у него действительно не было страха, только любопытстве. Все происходящее он воспринимал как игру. – Даже забавно, что это они…
– Прекратить шептаться! – прикрикнул на них пристав. – Молчать, если не хотите схлопотать по морде!
Впрочем, тон у пристава был буднично-равнодушным, и грозился он больше по обязанности.
– Офицер, здесь дамы, – насмешливо напомнил Юрий Шамурин. Эсер Шамурин занимался подпольной работой уже несколько лет, обыск для него – дело обычное и привычное, как и для пристава.
– Молчать! – повысил голос пристав. – Ты кто такой, чтобы мне указывать?
И пристав, и Шамурин хорошо знали свои роли – где прикрикнуть, где сбавить тон, где ядовито сострить, а где гордо смолчать. Сейчас полагалось прикрикнуть.
– Да как вы смеете! – вдруг взвилась из своего угла Маруся. – Как вы смеете грубить! Вы… Вы…
Шамурин от неожиданности даже вздрогнул и с удивлением взглянул на нее.
– Не кипятитесь, барышня, – насмешливо сказал пристав, почему-то вдруг сразу успокоившись, и тоже с интересом посмотрел на девушку. Марусино возмущение приятно разнообразило обычную монотонность обыска. – Не такое у вас сейчас положение, чтобы кипятиться.
Лицо Маруси пошло красными пятнами от гнева:
– Полицейская ищейка! – с ненавистью выдохнула она.
Женя метнула на сестру быстрый предостерегающий взгляд.
– Маруся! – Аня Авдеева, сидевшая рядом с ней, укоризненно покачала головой: – Не надо, Маруся.
Маруся же явно хотела еще что-то добавить, но под взглядами сестры и подруги сумела сдержаться.
Пристав раздумчиво поднял брови, словно решая, стоит ли опять рассердиться или нет, но потом, видно, решил не тратить эмоции на взъерошенную пигалицу.
После того обыска никого не арестовали. Жандармы ушли около двух ночи, потом разошлись и остальные, все, кроме Ани. Она осталась у Спиридоновых ночевать.
Аня Авдеева словно снова увидела перед собой разоренную комнату, спокойную Женю, пытающуюся кое-как прибраться, и нервно бегающую из угла в угол Марусю – лицо пылает, волосы растрепались, руки стиснуты на груди.
– А почему ты сейчас об этом вспомнила? – заинтересовалась вдруг Аня.
Маруся приподнялась на локте.
– Ты знаешь, я ведь тогда уж-жасно боялась. – Она даже зажмурилась, представив свой тогдашний страх. – Уж-жасно боялась, что нас сейчас арестуют и отправят в тюрьму. Поэтому и кричала, и кипятилась. Чтобы перебороть себя. Мне казалось, что тюрьма – это очень-очень страшно.
– А теперь? – спросила Аня.
Маруся улыбнулась почти торжествующе:
– А теперь вижу, что не очень. И в тюрьме можно жить.
Аня грустно покачала головой:
– Лучше бы не надо.
– Нет, – возбужденно продолжала Маруся. – Я теперь знаю, что смогу. Я все смогу, я вынесу, если надо будет, и тюрьму, и ссылку, и каторгу. Страшно только в первый раз…
Аня собралась было что-то сказать, но тут в камеру ворвались возвратившиеся с прогулки девушки. Едва дождавшись, пока за надзирательницей закроется дверь. Ванда достала из-за пазухи смятый листок:
– Смотрите, что я принесла! Мальчики наши какие молодцы, заявили протест! А мы что же, сидим здесь как клуши на насесте!
На листке было аккуратно выведено мелким красивым почерком:
Господину Прокурору
Тамбовского
Окружного Суда
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы окончательно отказываемся выносить дольше наше заключение. Мы не бесчувственные куклы, чтобы выносить все, чему вздумается кому-то нас подвергать. Достаточно было бы и того варварского насилия, которому нас подвергли при аресте. Но нет – очевидно, этим не удовлетворились. Наше заключение в тюрьме по своим условиям есть сплошное глумление над нашим человеческим достоинством. Право вредить здоровью и лишать жизни людей – право палача, но не тюремщика. Какими статьями закона оправдывается такое, например, условие тюремного заключения, как отсутствие коек или нар при асфальтовом поле? Ведь это постоянная угроза здоровью. Такие камеры, как наша, – это прямо морилка. Грязь, темнота, холод, сквозняки и сырость– и при этих условиях мы вынуждены были спать на полу, на тюфяках набитых гороховой соломой. Сырость доходит до того, что под тюфяками на асфальте образуются мокрые потные пятна. Все мы больны, но при этих скотских условиях даже лечение кажется насмешкой. Может быть, поморить более или менее долгий срок в таком варварском каземате самый удачный способ отделаться от людей, «опасных для спокойствия города» (выражение г. тов. прокурора).
Сегодня двенадцатый день нашего «морения» в такой тюрьме, а мы даже и не знаем, за что сидим. Мы настаиваем на своем освобождении и отказываемся принимать пищу, пока не получим удовлетворительного ответа на это вполне законное, при отсутствии материальных оснований к нашему заключению, желание.
Политические заключенные: А. Сперанский, В. Гроздов, А. Потапьев, Евг. Кудрявцев, И. Белов, И. Чемряев, П. Михайлов, М. В. Котрохов
5 апреля 1905 года, 11 часов дня
Прочитанное письмо вызвало у девушек в камере приступ энтузиазма.
– Вот так вот и надо! – прокомментировала Ванда. – Мне за нас просто стыдно.
– Хорошо, что ты предлагаешь? – сказала Анна.
– Написать нечто подобное!
Аня Гармиза тряхнула черными кудряшками:
– Уже писали… Не помогает!
Ванда решительно вздернула подбородок:
– Еще написать! Писать до бесконечности!
– Так уж прямо и до бесконечности? – не удержалась Авдеева от насмешки.
Вообще-то Ванда права, ребят нужно поддержать, но излишний Вандин энтузиазм Анне претил. Такая уж у этой Колендо натура: во всем хочет быть первой. А уж если дело хоть каким-то боком касается мужчин – тем более.
– Девочки, вы недооцениваете значение таких писем, – Маруся Спиридонова, приподнявшись на локте, внимательно слушала разговор. – Я тоже считаю, что писать нужно до бесконечности. И потом, надо не просто писать. Надо сделать так, чтобы содержание наших протестов стало известно за стенами тюрьмы. Наше заключение – не только наша личная беда. Это дело всей революционной общественности!
Она хотела еще что-то добавить, но зашлась в приступе кашля. Авдеева и Гармиза подскочили к постели:
– Маруся! Что, опять?
– Может быть, дать водички?
Маруся замотала головой, стараясь справиться с приступом. Наконец кашель отпустил, и она, отстранившись от рук заботливо поддерживающих ее девушек продолжила:
– Конечно, дело всей революционной общественности! Как вы не понимаете, мы должны подавать пример в борьбе!
– Марусенька, – всплеснула руками Аня Гармиза, – ну какая борьба в тюремной камере?
Маруся с вызовом посмотрела па нее:
– Бороться можно и нужно везде.
В результате письмо было написано и передано тюремному начальству, а копии розданы в соседние камеры.
Господину Прокурору
Тамбовского
Окружного Суда
ЗАЯВЛЕНИЕ
12 дней как мы арестованы и до сих пор не соблюдена даже тень законности – мы не знаем, в чем нас пытаются обвинять. Протестуя против такого грубого нарушения наших элементарных прав, мы требуем освобождения или немедленного предъявления нам формального обвинения и ведения дела судебным порядком.
Авдеева, Гармиза,
Коникова, Колендо, Спиридонова.
5 апреля 1905 года (11)
На следующий день последовало еще одно письмо:
Господину Прокурору
Тамбовского
Окружного Суда
ЗАЯВЛЕНИЕ
Присоединяясь к заявлению товарищей, требуем немедленного освобождения всех незаконно арестованных 24-го марта. Впредь до освобождения объявляем голодовку.
Авдеева, Гармиза,
Коникова, Колендо.
Вторично просим Вас приехать в тюрьму для личных переговоров.
Авдеева, Гармиза,
Коникова, Колендо.
6 апреля 1905 года
И еще:
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Козловская ул., д. Спиридоновых, № 57
Евгении Александровне Спиридоновой
Евгения Александровна!
Пишу Вам по поручению Маруси – она лежит. Читать ей, конечно, не буду того, что сообщаю Вам – иначе она не согласится отсылать письмо, а Вам знать настоящее положение теперь необходимо. Она больна – результатом чего эта болезнь, здесь говорить не буду, Вы, вероятно, и сами знаете: те условия, при которых нас арестовали… Теперь мы, требуя освобождения, объявили голодовку. Ее с трудом убедили пока не присоединяться, присоединение к голодовке было бы равносильно смерти через 4–5 дней…
У нее страшное кровотечение носом, доктор был 2 раза (Никишин). Вы должны сделать все возможное для ее немедленного освобождения, т. е. действовать на прокурора и министра. За советом обратиться можно к одному из порядочных присяжных поверенных, например, Тимофееву, Вольскому, Мягкову и т. д.
6 апреля 1905 года
Ванда Колендо
Такой способ борьбы оказался действительно эффективным. Меньше чем через неделю все арестованные были освобождены.
ПРИГОВОР
– Маруся! Мария Александровна!
Маруся, целиком поглощенная своими мыслями, не сразу заметила невысокого полного господина, спешившего к ней через улицу. Владимир Алексеевич Апушкин, начальник канцелярии Дворянского собрания! Они не виделись уже месяца три – почти с тех пор, как Маруся вынуждена была уволиться из канцелярии.
– Маруся! Уф, наконец-то я вас догнал! Иду за вами уже минут десять, но где уж мне, старику, поспеть за такой юной и проворной дамой.
– Здравствуйте, Владимир Алексеевич, – Маруся вежливо поклонилась, и они вместе пошли по Большой в направлении к Дворянской.
– Как дела дома, как мама, как Коля? – Апушкин взял Марусю под руку, примеряя свою семенящую походку к шагам девушки.
– Спасибо, все в порядке. Мама здорова, Коля учится.
– А сестры? Людочка что, все у нее хорошо ли? Евгения Александровна не слишком устает?
Люда уже несколько лет как вышла замуж и жила в Балашове.
– Спасибо, все нормально. А как вы, Владимир Алексеевич?
– Да помаленьку, помаленьку. Слава Богу.
– Как Софья Львовна?
– Ничего. Мигрень только вот замучила. А так – ничего, слава Богу.
Некоторое время они шли молча. Маруся очень тепло относилась к Апушкину, но совершенно не представляла, о чем с ним говорить помимо здоровья родных.
– А я ведь заходил к вам на Козловскую, – неожиданно сказал Владимир Алексеевич, – недели две назад и третьего дня тоже.
– Да?
– Александра Яковлевна говорит, вас почти никогда не бывает дома.
Маруся промолчала.
– Она так волнуется за вас, Марусенька… и за Женечку. Маруся, – Апушкин с трудом подбирал слова, – я знаю, я не вправе вмешиваться в вашу жизнь, но как старый друг семьи я не могу… До меня доходят странные слухи. Вы поддерживаете знакомства, не совсем подходящие для девушки вашего круга и возраста. Конечно, я никого не хочу обвинять, но то, что в марте вы оказались в тюрьме…
– Владимир Алексеевич, – вежливо, но холодно прервала его Маруся, – не будем об этом говорить.
– Марусенька…
– Пожалуйста, Владимир Алексеевич.
Марусин тон был столь сух и холоден, что Апушкин тут же смешался и смущенно закашлялся. Слава Богу, они дошли уже до угла, Владимиру Алексеевичу надо было сворачивать на Дворянскую. Он приподнял шляпу:
– Ну что же, очень рад был вас повидать.
– Ия вас. До свидания, кланяйтесь от меня Софье Львовне.
Маруся, распрощавшись с Апушкиным, быстро пошла прямо, собираясь чуть дальше спуститься к Цне. Если бы она оглянулась, то увидела бы, что старик остановился и смотрит ей вслед. Взгляд у него и печальный, и понимающий…
Но Маруся не оглянулась. Встреча с Апушкиным оставила в душе неприятный осадок. Владимир Алексеевич все еще никак не может привыкнуть, что маленькая девочка, которую он в детстве качал на коленях, выросла и теперь сама решает свою судьбу. И решает не так, как, по мнению Апушкина, следовало бы.
Даже когда в марте этого года Маруся, вместе с другими участниками демонстрации, попала почти на месяц в тюрьму, добрейший Владимир Алексеевич отказывался верить ее принадлежности к революционной партии. Он долго заступался за Марусю, когда потребовали уволить ее из канцелярии как неблагонадежную, но его заступничество успеха не имело. Да Маруся и сама бы оттуда ушла – слишком много времени стала отнимать партийная работа.
Теперь Маруся Спиридонова была уже не просто членом Комитета партии социалистов-революционеров. Этим летом она вступила в боевую дружину эсеров – мощную тайную организацию, готовившую и проводившую террористические акты. Все лето она почти каждый день ходила упражняться на специальные стрельбища, оборудованные партийцами в лесочке за Цинским мостом. Сейчас Маруся уже запросто выбивала шесть из десяти, – неплохой результат, особенно если учесть, что в первый раз она взяла в руки браунинг меньше трех месяцев назад. Но Спиридонова всегда была упорной.
Вот и сейчас она опять шла на стрельбище. Правда, уже начало октября, темнеет рано… Распрощавшись с Апушкиным, Маруся взглянула на часы – без двадцати три, если поторопиться, еще часа три светлого времени у нее в запасе есть. Она прибавила шагу и неожиданно сразу за перекрестком Большой и Дворянской нос к носу столкнулась с Анной Авдеевой.
– Ох, – запыхавшись от быстрой ходьбы, проговорила Аня, – как удачно, что я тебя встретила! Я как раз к тебе и шла. Ты что, опять за мост собралась?
– Да, а что такое? Мы договорились на сегодня с Платоном.
– Отменяется. Пойдем скорее к Вольскому, Платон, наверное, уже там.
От неожиданности Марусины щеки вспыхнули ярким румянцем. Аня не любила Михаила, поэтому ходила в этот дом либо по исключительной партийной надобности, либо… Неужели?..
– Что, Владимир уже вернулся? – как можно небрежнее спросила она. – А я думала, он будет не раньше ноября.
Владимир Вольский по партийным делам уехал в Баку.
Аня, поглощенная своими мыслями, не сразу поняла, что сказала Маруся:
– Владимир? Да нет, он тут ни при чем. Пришли инженеры из мастерских. Кажется, мы тоже присоединимся к забастовке.
Марусе тут же стало досадно. Она разозлилась на себя – расчувствовалась, как кисейная барышня, когда надвигаются такие события. Железнодорожники Москвы и Петрограда бастуют уже давно, неужели и они в Тамбове наконец сподобятся? Она взяла Аню под руку и прибавила шаг:
– Пойдем скорее.
В просторном доме Вольских на Большой улице фактически жили три семьи: старики Вольские, Казимир Казимирович и Елизавета Леопольдовна с младшей дочерью, тринадцатилетней Юлей, Михаил и его жена Маша, и Владимир Вольский. Владимир опять был на положении холостяка – Валя, не выдержав то ли революционных увлечений мужа, то ли его беспокойного характера, года три назад уехала в неизвестном направлении. Что именно произошло между супругами, никто точно не знал, но поговаривали, что урожденная девица Лукьяненко нашла себе нового мужа, и вроде бы из офицеров. Владимир теперь даже имени своей жены не упоминал, словно ее и не было никогда.
Обычно все встречи и дискуссии проходили на квартире у Владимира, но сегодня собирались у Михаила…
В полицейских документах Михаил Казимирович Вольский значился председателем Тамбовского социал-демократического комитета. А известный тамбовский писатель и историк Петр Черменский во всех своих работах называет его видным эсером. Вероятно, и то и другое не совсем соответствовало реальности. Вряд ли Михаил Вольский действительно всерьез принадлежал к какой-либо революционной партии; скорее всего он был сочувствующим, но сочувствующим горячо. Он выступал на сходках и митингах, разбрасывал прокламации, жертвовал деньги на нужды бастующих. По его совету во время одной из забастовок в Козлов были отправлены делегаты за продуктами для рабочих тамбовских мастерских. Красноречивый не только на словах, но и на бумаге, Михаил Вольский активно сотрудничал с газетами и даже сам хотел издавать газету «Голос труда». Учитывая всю его разностороннюю деятельность, не так уж и важно, кому он больше сочувствовал, эсерам или социал-демократам.
Кроме того, отношения между рядовыми большевиками-эсдеками и эсерами обострились значительно позднее. Тогда же, в 1905-м, идеологически непримиримые споры велись в основном руководящими верхушками, пока члены обеих партий бок о бок делали одно общее дело, не слишком разбирая, какой лозунг для них главнее – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» или «В борьбе обретешь ты право свое!». По крайней мере, похоже, что в Тамбове дело обстояло именно так, – там даже полиция не могла отделить зерна от плевел, овец от козлищ, эсеров от социал-демократов.
Присяжный поверенный Михаил Вольский – неважно, эсер или эсдек, – был одним из самых популярных в городе людей. В тех же самых полицейских документах описан довольно показательный случай. После объявления манифеста 17 октября демонстрация учащихся двигалась по Гимназической улице и встретила Михаила Вольского. Демонстранты приветствовали известного, как теперь бы сказали, «правозащитника» аплодисментами. Вольский сказал речь, в которой призвал всех разойтись по домам, и его тут же и беспрекословно послушались.
Считаясь отличным адвокатом и слывя либералом, он имел прекрасную практику, приносящую очень неплохой доход. Да и вообще Вольские были люди не бедные – собственный дом на главной улице Тамбова и три имения в Тамбовской губернии что-нибудь да значили… Так что Михаилу, в отличие от пролетариата, было что терять, помимо цепей. И меньше чем через год он признается себе, что терять-то ему ох как не хочется…
…На этот раз собрание проходило в квартире Михаила. Авдееву и Спиридонову там явно не ждали: публика собралась сплошь солидная, гимназистов и семинаристов не было вообще, рабочих, кажется, тоже. Зато здесь присутствовали инженеры из железнодорожного депо Бейкман и Гиттерман и новый инженер Лесневский. В большом кресле в углу комнаты устроился Лев Брюхатов, большой приятель Михаила, по убеждениям вроде бы примыкавший к эсерам. Из женщин, кроме Маруси и Анны, была Екатерина Михайловна Киншина, жена городского врача, и еще какая-то незнакомая девушка, наверное служащая в железнодорожной конторе. С Екатериной Михайловной считались и эсдеки и эсеры – она была одной из старейших партиек в Тамбове; кроме того, на ее даче в Инвалидной регулярно устраивали собрания и сходки.
– И вот вообразите. – скорчив забавную гримаску, рассказывал маленький инженер Гиттерман как раз в тот момент, когда девушки вошли в комнату (Гиттерман был обрусевший немец, так и не смог избавиться от легкого акцента). – Вообразите, Дмитрий Егоров направляет губернатору петицию! Просит охранить склад и добро от посягательств.
Аня и Маруся переглянулись. Дмитрий Егоров – старший компаньон известной в Тамбове фирмы «Торговый дом Прасковьи Николаевны Егоровой с сыновьями». В Тамбове он имел репутацию одного из самых прижимистых людей города. При чем же тут Егоров?
– А много ли добра-то на складе? – поинтересовался Брюхатов, попыхивая сигарой. – Или так, больше воду мутят, чтоб конкурентов постращать или от платежей увильнуть?
Брюхатов вполне соответствовал своей фамилии – толстый и вальяжный, он так удобно развалился в глубоком кресле, что, казалось, составлял с ним одно целое.
– Да хватает, – усмехнулся Гиттерман, – пшеница, рожь, мука – Бог знает сколько пудов, триста вагонов стоят на станции. А еще в железнодорожных баках залито пудов двадцать нефти…
«Ну, – подумала Маруся, – теперь все понятно. Слухи о неизбежности забастовки пошли гулять по городу».
– Ах-ах, – притворно вздохнул Бейкман. – Бедная Прасковья Николаевна!
– Господа, господа! – призвал Вольский к порядку развеселившихся инженеров. – Мы здесь не для того собрались, чтобы заботиться о благосостоянии купцов Егоровых. Следует выбрать наиболее оптимальную дату для начала забастовки. Как настроения у рабочих? Те, с кем я говорил, крайне недовольны расценками. Машинистам например платят гроши – всего одиннадцать рублей…
Он откинул со лба непокорную прядь, и Маруся невольно залюбовалась: какой 1 истый лоб, какие светлые глаза! Вот так же, наверное, выглядел и Данко. (Она недавно прочла «Старуху Изергиль» Горького.) Да, ничего не скажешь, красивый брат у Владимира! Даже слишком красивый…
Вольский обвел взглядом присутствующих и веско сказал:
– Экономические требования – наш главный козырь. Если его хорошо разыграть, то экономическую забастовку можно плавно перевести на политические рельсы. Требование созыва Учредительного собрания…
Договорить Вольский не успел. Дверь стремительно распахнулась, и в комнату быстро вошел инженер Георгий Давидович. Лицо у него было странно возбужденное и расстроенное одновременно.
– Ну вот, – Давидович швырнул на стол какую-то бумажку, – больше ждать нечего.
Вольский взял бумажку. Маруся разглядела, что это был телеграфный бланк.
– «Уполномоченные дороги Архангельский и Орлов арестованы в Петербурге», – прочел он и пожал плечами: – Что ж, действительно, больше ждать нельзя. Да и нечего. Начнем прямо завтра.
ТЕЛЕГРАММА
Петербург
Товарищу Министра
Внутренних Дел,
Заведывающему Полицией.
Седьмого октября рабочее депо, телеграфисты станции Стасово Московско-Казанской забастовали. Все поезда были задержаны. Восьмого забастовала Рязанско-Уральская. и рабочие мастерских Козлов, Тамбов прекратили работы. Девятого забастовала Юго-Восточная, десятого Сызранско-Вяземская. Все забастовки произошли по телеграфному распоряжению свыше. Служащие, рабочие мастерских неохотно подчинились распоряжению, говоря: это забастовка господская. Общее настроение добродушное, никаких манифестаций, недоразумений не было. В Тамбове пока спокойно. В Козлове забастовщики силою заставили прекратить работу правительственной почтово-телеграфной конторы. Через час по прибытии войска действия возобновились. Происходят сходки рабочих, мастеровых в полосе отчуждения. Ораторами выступают высшие служащие дороги инженеры Давидович, Мельхесидеков. Ярко выделяются среди местных революционеров деятельным участием в сходках и разжигательными речами Вольский, Брюхатов, Мягков. Последние дни настроение учащейся молодежи было напряженное, но учение продолжалось. Сегодня забастовали все средние учебные заведения. Демонстрации не было. Половина семинарии забастовала, другая распущена. Архиереем все должные меры приняты.








