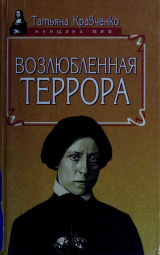
Текст книги "Возлюбленная террора"
Автор книги: Татьяна Кравченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
РАЗДЕЛИ СУДЬБУ СО СВОИМ ВРАГОМ
Марию Спиридонову не случайно арестовали именно в феврале 1937. По «гениальной» задумке Сталина ее имя на очередном готовящемся процессе должно было быть неразрывно связано с именем другого старого революционера, – когда-то ее союзника по вопросу о Брестском мире, потом ее жестокого оппонента на рабочих митингах в 1918-м, потом отчасти и обвинителя, – с именем «любимца партии» большевиков Николая Бухарина.
Трения между Сталиным и Бухариным начались давно. Еще на апрельском Пленуме ЦК 1929 года Сталин выступил с резкой критикой правого уклона и его главного лидера – Николая Бухарина. Нападки Сталина вызвало сопротивление Бухарина и его сторонников чрезвычайным мерам, применяемым к крестьянству под лозунгом обострения классовой борьбы.
Тогда Бухарин, обращаясь к руководству партии, написал в одной из своих статей: «Серьезные больные вопросы не обсуждаются. Вся страна мучается над вопросом хлеба и снабжения, а конференции пролетарской господствующей партии молчат. Вся страна чувствует, что с крестьянством неладно, а конференции пролетарской партии, нашей партии, молчат. Вся страна видит и чувствует перемены в международном положении. А конференции пролетарской партии молчат. Зато град резолюций об уклонах (в одних и тех же словах). Зато миллионы слухов и слушков о правых – Рыкове, Томском, Бухарине и т. д. Это маленькая политика, а не политика, которая в эпоху трудностей говорит рабочему классу правду о положении, ставит ставку на массу, слышит и чувствует нужды массы, ведет свое дело, слившись с массами».
Конечно же такие письма не прощались. Обвинив Бухарина в противоборстве генеральной линии партии, Сталин припомнил ему и многолетней давности споры с Лениным о государстве, и позицию по вопросу о Брестском мире… Вождь даже намекнул, что, дескать, еще тогда, в 1918-м, Бухарин тайно вступил в сговор с левыми эсерами, чтобы арестовать Ленина. После Пленума Бухарин был освобожден от должности главного редактора «Правды» и вместе с Рыковым и Томским обвинен во фракционной деятельности. Но тогда еще все трое остались в составе Политбюро ЦК.
7 ноября 1929 года Сталин объявил о «великом переломе», то есть о начале сплошной коллективизации. На ноябрьском Пленуме ЦК Бухарин был выведен из Политбюро. Этот Пленум закончился полным поражением Бухарина и его фракции. Но приговор его фракционной деятельности тогда еще не означал тюремного приговора. Это все еще была только партийная критика…
После 1930 года Бухарин работал в ВСНХ, потом – в Наркомтяжпроме. На XVII съезде партии, в 1934 году, он был переведен из членов ЦК в кандидаты. Но на этом, казалось бы, падение остановилось: опального Николая Бухарина вдруг назначают главным редактором «Известий». В августе 1934 года он был одним из трех докладчиков на I учредительном съезде Союза советских писателей. Его включили в комиссию по составлению новой Советской Конституции. Возможно, он и был реальным автором этой Конституции, – официально ее творцом считался товарищ Сталин.
Когда в Париже были выставлены на продажу архивы разгромленной социал-демократической партии Германии, Бухарину доверили приобрести их. В конце апреля 1936 года он вернулся в Москву– это была его последняя поездка за границу. Примерно через полгода, 19 августа, начался процесс Зиновьева и Каменева. А 21 августа Вышинский на этом процессе объявил о начале следствия по делу Бухарина, Томского и Рыкова.
Томский покончил с собой.
В январе 1937 года на процессе Пятакова, Сокольникова и Радека снова звучали обвинения в адрес Бухарина и Рыкова.
Началась травля Бухарина в печати. В знак протеста он объявил голодовку…
Стивен Коэн в своей известной книге о Бухарине приводит некоторые протоколы допросов подсудимого Вышинским. Чаще всего Бухарин прямо отвергал предъявляемые ему обвинения:
Вышинский Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в шпионаже?
Бухарин. Я не признаю.
Вышинский. А Рыков что говорит, а Шарангович что говорит?
Бухарин. Я не признаю.
Вышинский. Я еще раз спрашиваю на основании того, что здесь было показано против вас не угодно ли вам признаться перед советским судом, какой разведкой вы были завербованы – английской, германской или японской?
Бухарин. Никакой.
Вышинский. А насчет убийства товарищей Сталина. Ленина и Свердлова?
Бухарин. Ни в коем случае.
Вышинский. План убийства Владимира Ильича был?
Бухарин. Отрицаю.
Некоторые показания и обвинения, пишет Коэн, Бухарину приходилось опровергать более тонко. Во время перекрестного допроса одного из подсудимых, чьи показания указывали на причастность Бухарина к диверсионной деятельности, он заставил допрашиваемого привести точные даты. Даты эти противоречили самому обвинительному заключению. В другом случае Бухарин нанес удар по версии заговора, на которой строился процесс, настаивал, что и в глаза не видел заговорщиков и не слышал о них ни разу, «а ведь члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой». Сославшись на то, что Вышинский называл логикой. Бухарин даже пофилософствовал: «Это будет то, что называется в элементарной логике тавтологией, то есть принятие за доказанное то, что нужно доказать».
Однажды из тюремного застенка был доставлен «странный, похожий на мертвеца» свидетель, старый эсер Карелин, чтобы дать показания о заговоре с целью убийства Ленина. Когда Вышинский спросил Бухарина, знаком ли ему этот свидетель, он ловко намекнул, что человек этот был сломлен пытками. Бухарин ответил: «…он настолько изменился, что я не сказал бы, что это тот Карелин».
Однако Камков и Карелин, привлеченные в качестве свидетелей на этот процесс, все-таки погоды не сделали. Правда, они дали показания о связи Бухарина с левоэсеровским мятежом 6 июля. Но без показаний Спиридоновой и ее ближайшего окружения никак не получалось убедительно представить советским гражданам и мировой общественности «преступный сговор Бухарина и левых эсеров».
Ведь согласно сталинскому плану Бухарину предстояло сыграть роль основного доказательства в обвинении старых большевиков в измене революции. Бухарин был символом досталинского большевизма и виднейшим из руководителей партии, оказавшемся на скамье подсудимых (Троцкого судили и приговорили заочно). И если бы удалось показать, что Бухарин объединился с уже давно заклейменной партией левых эсеров – «врагов народа», то окончательно скомпрометирован был бы не только он, но и вся «ленинская гвардия».
ЭПИЛОГ
Из показаний Марии Спиридоновой:
На суде в 1919 и в 1918 году я держалась столь дерзко и вызывающе, что зал (коммунисты) гудел от негодования, аж разорвал бы. Но я как думала, так и говорила. А тогда я была злая. Также было и на царском суде, приговорившем меня к повешению, когда председатель суда, старый генерал, заткнул уши и замотал головой, не в силах был слушать столь дерзкие речи.
Но я вся такая и в жизни, и в политике, такой была и такой ухожу сейчас в могилу.
Никогда не имела привычки прятаться в кусты и уклоняться от ответа. Ведь именно меня, когда пушки палили из Кремля в Трехсвятительский и обратно, послали в июле 1918 года мои товарищи-цекисты с ответом на Пятый съезд. Ведь разве под горячую руку я не могла ответить головой? Ведь 9—10 июля было расстреляно во главе с Александровичем свыше 200 человек левых с – р., и именно с нас, л. с.-р. началось применение смертной казни.
И, если бы сейчас я за собой знала подпольную борьбу против Соввласти, я бы говорила о ней с былой дерзостью. Ведь я вела бы ее в согласии со своими взглядами, со своими убеждениями и верой, так почему мне отпираться было бы от этой борьбы? Раз я ее вела, я не считала ее позорным и грязным делом, я встретила бы последнюю расплату за нее, не каясь и не ползая. Зачем? Сделанное мною оплачиваю твердо. Поэтому сейчас-то я так унижена и смертельно оскорблена предъявленными обвинениями, (потому), что я давно разоружилась и борьбы не вела… Причины к этому были внутренние и внешние. Внешние причины вы знаете сами.
Внутренние причины:
Огромная пространственная разобщенность с основным идейным косяком – Камковым, Самохваловым и др. Разрыв во времени личного общения в 16–17 лет и отсутствие нелегальной переписки создавали полную неуверенность в настроениях и мыслях друзей…
Деревню мы не знаем вовсе. А ведь у нас упор был на деревню, и вся наша борьба с коммунистами была из-за деревни… Когда партия была разгромлена и снята со счетов страны полностью (все сидели в тюрьмах) и мы перестали быть конденсаторами деревенских настроений, прекратился наш вождизм и наша работа.
Вне работы с массами и для них, вне связи с массами наше существование оказалось немыслимо, и мы растаяли. На нашем партсъезде в апреле 1918 у нас было зафиксировано при поверхностном подсчете 73 тыс. членов, было на самом деле больше. Теперь, может быть, насчитывается 50 человек.
Огромная часть (крестьяне, рабочие и солдаты) ушли к большевикам сразу же после нашего разрыва с большевиками. Некоторая часть, оторвавшись от нас, затаилась, никуда не пойдя (вот еще почему я так не хочу, чтобы вы распубликовывали меня как центральную террористку), а маленькие осколки постепенно из тюрем и ссылок рассосались в советском гражданстве, сохранившись к 1932 году в качестве музейных редкостей всего б числе нескольких десятков человек, из которых часть уже новички в лице студенчества 1924 года.
Отсутствие какой-либо сговоренности друг с другом по вопросам программ и тактики. За это время исторические условия настолько изменились, что переоценка ценностей императивно нужна…
Мне думается, у нас каждый левый с. – р имеет свой самостоятельный взгляд в большом разнобое со взглядом своего соседа, тоже левого с.-р. У меня с Майоровым стало много по-разному, но обоим было лень и неохота хоть когда об этом договориться, так как вся область умственной жизни перестала быть актуальной.
Мы жили всегда будто в общей камере и никогда не имели возможности отдельных личных бесед. Он как-то черкнул мне записку, что у нас намечается как будто бы крупное политическое разложение. Надо бы поговорить и объясниться. Так и не собрались до ареста…
Оттого, что мы не работали в партийном смысле, разговоры просто разговоры, чем всегда увлекались правые с.-р. без продвижения в жизнь, казались мне развратным занятием, мучительно меня раздражали, и я была подчас груба и невежлива, если кто приставал ко мне. Я называла это онанизмом…
Майоров пишет о восстановлении капитализма, если только мне верно показал между закрытыми строчками Михайлов этот абзац. И я бы с ним жила бы в дружбе-любви до последнего дня, если бы он скатился к правым с.-р., и я бы поддерживала догматическое товарищество, не размолотив его вдребезги!!.
Как бы я ни склонна была из дружеской жалости и непогасшей, живой по-прежнему любви к моим близким друзьям и товарищам объяснить и оправдать их, все же я считаю низким падением показания на меня Б. Д. Камкова об участии моем в центре, и еще более низким падением такое же показание И. А. Майорова, друга моего любимого и мужа. Есть ли такой центр, дал ли свое согласие на вступление в него Камков, я не берусь ни утверждать, ни отрицать. Склонна думать, что его нет вовсе, и также склонна думать, что Камков на себя наговаривает, видя, что иного выхода из петли нет. Оба они, и Майоров и Камков, могут быть оппортунистами большой руки. Я тоже могу быть оппортунисткой в интересах дела, но в личном поведении отрицаю этот метод категорически…
Я против террора в отношении большевиков, и левые с.р. его никогда против них не практиковали… мы-то вас считаем товарищами по целям, и потому террор допускаем только в отношении фашистов.
Это основной момент.
Из соображений формального порядка против террора в советской стране отмечу два.
Первое: в царское время бюрократия была в последнее столетие, да и всегда, настолько бездарна, что талантливые правители были редки, и народники с террористической тактикой, начиная с народовольцев, именно на этих правителей и метали свои динамитные громы…
Теперь это было бы бесполезно, так как страна полна талантливых работников снизу доверху. Вы, наверное, знаете лучше меня, как без особенного надрыва на место одного снятого, по каким-нибудь примитивным причинам, работника, вы находите сразу замену, и ткань опять оживает. зарастая новой энергией.
И второе: Соввласть так жестоко и, я бы сказала, нерасчетливо к человеческой жизни расправляется за террор, что нужно иметь много аморализма, чтобы пойти на террор сейчас. При царе пропадал только сам террорист и кто-нибудь случайно влипший. Ни предков, ни потомков не трогали. Товарищи по организации отвечали в порядке статей в кодексе законов и пр., попадаясь на своей работе. А сейчас Михайлов сказал мне, что он посадил моих сестер в Тамбове, когда мой-то террор на воде вилами писан. Я виделась с двумя сестрами один раз по приезде с каторги в 17-м году, а с третьей тоже один раз в 29-м году. Короткие встречи после 12–24 лет отрыва, конечно, близости не создали. Переписывалась я чрезвычайно формально и редко с одной сестрой (ей 70 лет). Не содержала ни одну. Все старухи, все старше меня очень Одной уже 70 лет. Одна больна раком, и у нее выщелучено операциями четверть мускульной поверхности. Дети коммунисты, муж у одной коммунист. Когда я сажусь, ни одна не приезжала ко мне на свидание…
А между тем я больший друг Советской власти, чем десятки миллионов лояльнейших обывателей. И друг страстный и действенный. Хотя и имеющий смелость иметь свое мнение. Я считаю, что вы делаете лучше, чем сделала бы я…
Я не согласна только с тем, что в нашем строе осталась смертная казнь. Сейчас государство настолько сильно, что оно может строить социализм без смертной казни…
Я всегда думаю о психологии и целях тысяч людей – технических исполнителей, палачей, расстрельщиков, о тех, кто провожает на смерть осужденных, о взводе, стреляющем в полутьме ночи в связанного, обезоруженного обезумевшего человека. Нельзя, нельзя этого у нас. У нас яблоневый цвет в стране, у нас наука и движение, искусство, красота, у нас книги и общая учеба и лечение, у нас солнце и воспитание детей, у нас правда, и рядом с этим этот огромный угол, где творится жестокое кровавое дело. Я часто, в связи с этим вопросом, думаю о Сталине, ведь он такой умный мужчина и как будто не интересуется преображением вещей и сердец?! Как же он не видит, что смертной казни нужно положить конец. Вот вы нами, левыми с.-p., начали эту смертную казнь, нами бы и кончили бы ее, только снизив в размерах до одного человека в лице меня, как неразоружившегося – какой меня называете. Но покончить со смертной казнью надо.
И еще я бы скорректировала бы и вашу пенитенциарную систему, ваш тюремный режим. В социалистической стране должно быть иначе. Надо больше гуманности определенно. Самое страшное, что есть в тюремном заключении, – это превращение человека в вещь. Об этом замечательно в своем романе «Воскресение» сказал Толстой, в тюрьме ни разу не сидевший…
Когда читаешь сейчас показания Спиридоновой, невольно ловишь себя на мысли, что писалось это не для следователя. Стала бы она Михайлову объяснять внутренние мотивы и побуждения, руководившие ею в последние годы. Для нас, для нас это написано, чтобы поняли ее те, кто придет потом. Поняли и приняли ее беспокойную жизнь.
В этом письме Спиридонова такая, какой она была на самом деле, какой осталась до смерти. Неисправимая идеалистка, стремящаяся достичь недостижимого – справедливости и гармонии на земле и считающая, что для этого все средства хороши, цель их оправдывает… Приняла ли она действительно Советскую власть? Думаю, да, – такую, какой хотела бы ее видеть, такой, какой ее описывали в газетах того времени. Реальность же Спиридонова бессознательно отторгала, иначе ей пришлось бы признать, что всю жизнь она гналась за химерой…
В 1939 году Ирина Каховская случайно встретила свою старую подругу на этапе, при переводе из Ярославского изолятора во Владимирский. Спиридонова шла по коридору столыпинского вагона, держась за стенку, седая, худая – тень прежней Марии. Увидев Каховскую за решеткой другого купе, она крикнула свой приговор и, показав на уши, добавила: «Ничего не слышу»…
Марию Спиридонову расстреляли 11 сентября 1941 года. Ее и других приговоренных, в числе которых был и Илья Майоров, вывели во двор Орловской тюрьмы (к тому моменту их перевели в Орел), посадили в крытые машины с пуленепробиваемыми бортами и повезли в Медведковский лес, что находился в десяти километрах от города.
«Именем Союза Советских Социалистических Республик… подвергнуть высшей мере наказания расстрелу…»
Могила Марии Александровны Спиридоновой не найдена до сих пор.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Женщина и террор… Что может быть более противоположного, чем два этих понятия? «Две вещи несовместные» – как сказал в свое время Пушкин, правда, совсем по другому поводу. Со словом «женщина» мы привыкли связывать жизнь, красоту, любовь, нежность. Террор – это смерть, кровь, насилие, жестокость…
И тем не менее всемирная история знает столько примеров женского терроризма, что это явление, несомненно, заслуживает тщательного изучения и анализа.
13 июля 1793 года 25-летняя француженка Шарлотта Корде заколола кинжалом Жана Поля Марата – одного из самых жестоких вождей радикального крыла Французской революции. Но это был один из единичных случаев, когда поступок женщины-террористки вызывал не столько осуждение, сколько сочувствие: слишком уж отвратительна фигура Марата, постоянно призывавшего к массовым казням и расправам. К тому же убийство одного из главных «идеологов» террора, как это ни парадоксально, говорило скорее о протесте молодой француженки против насилия и крови, нежели о ее стремлении открыть список женщин-террористок, и было, как показывает история, даже закономерно.
К сожалению, эта сомнительная «честь» – если говорить о женском терроре как о явлении – принадлежит нашим соотечественницам, русским женщинам-террористкам. И чтобы понять, как это получилось, следует мысленно вернуться в 1862 год, когда на страницах журнала «Русский вестник» появился роман Тургенева «Отцы и дети». А вместе с ним не только в литературу, но и в жизнь российского общества ворвался новый человеческий тип нигилиста. Впрочем, этот тип существовал и раньше, но тем не менее роман Тургенева стал в определенном смысле рубежом. Броское и запоминающееся словечко забавляло и будоражило одних, но других тревожило и даже пугало. Поэтому не мудрено, что стоило в жаркое лето того же года в Петербурге (и в некоторых других городах) случиться нескольким пожарам, как торопливая молва, а за нею и власти обвинили «нигилистов» в поджогах. С этого начался так называемый «разночинский» этап противостояния радикалов и закона в России.
А спустя год публикуется роман Чернышевского «Что делать?», сенсационность которого определялась уже самим местом его создания – Петропавловская крепость! Читателей тех далеких времен особенно поразили несколько необычные семейные отношения двух героев и героини романа, а также еще более непривычная по тогдашним понятиям общественная активность этой героини. Нет, Вера Павловна Лопухова еще не бросала бомб в губернаторов и не стреляла в царских прислужников, но она все время за что-то боролась, боролась… За что же? Человеку с нормальной, уравновешенной психикой понять это трудно.
И тем не менее явление именно этой литературной героини, почтовым голубем выпорхнувшей из казематов Петропавловки, также оказалось своеобразным рубежом. Хотя сам Чернышевский никаких руководящих установок на данный счет не давал, его роман во многом определил присоединение к нигилистам-мужикам мощного отряда нигилисток. Вошло, например, в моду, став едва ли не эпидемией, создание пресловутых швейных мастерских по образцу мастерской Веры Павловны. В одной из них, между прочим, работала Вера Засулич, которой в 1878 году суждено было стать первой русской террористкой.
Казалось бы, эти внешне безобидные швейные мастерские никак не могли привести ни к террору, ни даже к более умеренной революционной деятельности. Однако дело заключалось не в самих мастерских и в скромном занятии трудившихся в них женщин, а в том, что именно в этих мастерских началось уничтожение традиционного места женщины в русском (да и не только в русском, разумеется) обществе. К тому времени в России косные правила «Домостроя» уже давно вышли из обихода, и, например, героини пьес Островского (по-своему яркие и убедительные) страдали от них куда больше, чем реальные женщины. Роль женщины в семье была значительной и почетной, при желании женщины вполне могли заниматься и наукой, и общественной деятельностью, правда, в ту пору это было довольно редким явлением и в России, и в других европейских странах.
Но женщин, постоянно пополнявших когорты нигилистов, интересовали отнюдь не наука и не труд на благо общества. Они были охвачены нараставшей лихорадкой, стремлением поскорее совершить нечто грандиозное на революционном поприще. Поначалу, в шестидесятые годы прошлого века, это стремление, как правило, удерживалось в рамках участия женщин в различных псевдодемократических кружках и сборищах, дерзкое свободолюбивой болтовни Но уже тогда в этом беспокойном порыве проявилось какое-то патологическое отсутствие индивидуального осознания действительности. Мысли, слова и поступки нигилисток были удручающе одинаковыми, стадными.
В мемуарной литературе тех лет можно встретить рассказ о жене московского «демократа» А. Дашкевича, у которого постоянно собиралась радикально настроенная публика, тешившая себя «крамольными» разговорами. При этом мадам Дашкевич постоянно повторяла: «Господа, но ведь это все слова, это хорошо, но когда же дело? Дело, дело-то когда же?»
Но в чем заключалась суть этого загадочного «дела»? Подобные дамы вряд ли могли бы объяснить это чем-либо, кроме общих устных фраз, они как бы индуцировали вокруг себя атмосферу беспокойного сумбура. Нигилистки тех далеких лет, как и их последовательницы, словно рыба на нерест, рвались «на дело», не понимая толком ни существа этого «дела», ни чьей-либо – в том числе и своей собственной – нужды в нем.
Знаменитый математик Софья Ковалевская тоже попала в водоворот этою бурного движения и даже написала на данную тему две небольшие повести с характерными названиями – «Нигилист» и «Нигилистка». К героине второй повести (под ней Ковалевская подразумевала себя) приходит незнакомая девушка и заявляет: «Я совсем одна на свете и ни от кого не завишу. Моя личная жизнь кончена. Для себя я ничего не жду и не хочу. Но мое страстное, мое пламенное желание – это быть полезной «делу». Скажите, научите меня, что мне делать?»
Впрочем, сама Ковалевская, умный человек и прекрасный ученый, не проповедовала безумных теорий. Сочувствуя «борцам за справедливость» (это, в конце концов, дело вкуса), она в то же время неплохо ориентировалась в том, что творилось в стране. Вот как метко и беспощадно она характеризовала участников опереточного явления 1870-х годов, именовавшегося «хождением в народ»: «Незнакомые с нравами народа и с самым его говором, пропагандисты осуществляли свою миссию так непрактично и неловко, что после первых же попыток «произвести брожение» между рабочими хозяева фабрик и кабатчики, нередко также сами крестьяне, выдавали их головой полиции».
От того, чтобы ринуться в безумие взрывов и выстрелов, явочных квартир и подпольных типографий, Ковалевскую удержали и образование и происхождение: она была дочерью полковника. А у большинства сумасбродов и сумасбродок тех лет ни того ни другого и в помине не было. Если порой они и были студентами, то непременно недоучившимися, личная жизнь их, как правило, складывалась крайне неудачно. Вера Засулич в мемуарах, написанных в конце жизни, так вспоминала о своем детстве: «Никто никогда не ласкал меня, не целовал, не сажал на колени, не называл ласковыми именами». Насколько же остро должен был чувствовать ребенок свое одиночество и ненужность, если и в старости эти боль и отчаяние никуда не уходили, оставались рядом!
Вот в этой «питательной среде» и вырастали революционеры-радикалы (разумеется, не только в России), постоянным оружием которых стали насилие и террор. К концу 1870-х годов присутствие женщин среди них становится обычным явлением. История, в частности, сохранила имена Софьи Перовской и Веры Фигнер, входивших в наиболее агрессивную организацию той поры «Народная воля» и участвовавших в подготовке и осуществлении террора. Но это лишь наиболее известные фигуры, за которыми стояло немало «рядовых» террористок.
Еще большие масштабы женский террор приобрел в начале XX века, прежде всего в рамках боевой организации партии социалистов-революционеров (эсеров). Эта партия была, пожалуй, самой популярной из всех тогда существовавших.
В столицах и провинции множились, как грибы, подпольные революционные кружки. Многие девушки вступали в них сначала отнюдь не потому, что
их сжигал огонь любви к свободе. Просто запретный плод, как известно, сладок, да и какие еще развлечения можно было найти где-нибудь в Тамбове или в Саратове? Привлекала и короткость отношений с молодыми людьми (светские приличия и условности у революционеров были не в почете). А потом… Кто-то вовремя выходил из «борьбы», а у других жизнь оказывалась непоправимо искалеченной. Среди женщин, приговоренных за участие в терактах к вечной каторге, эсерок было подавляющее большинство.
Однако большевики, расправившись с эсерами и вышвырнув их из истории, не только приняли от них своего рода «эстафету» террора, но и сделали террор главной опорой государственной политики. И если до Октябрьской революции народовольцы, эсеры или иные радикалы тщательно выбирали для террористического акта кандидатуру какого-нибудь «царского сатрапа», то после нее объектом террора стало практически все население страны. Крайний цинизм и жестокость, взращенные в радикальных кругах, постепенно разъедали и нравственный облик нации в целом, превращая несправедливость и беззаконие в привычный атрибут быта.
Этот печальный процесс, конечно, затронул и женщин. Известны имена «комиссарш» времен гражданской войны, с исключительной жестокостью расправлявшихся с пленными белогвардейцами, следовательниц ВЧК – ОГПУ – НКВД, с садистским сладострастием пытавших заключенных. Таковой оказалась роковая эволюция женского террора, начавшегося с внешне благородного стремления – уничтожить, покарать того или иного убийцу и злодея! Но при этом уничтожались и женские души, чистые и нежные, созданные для любви и материнства, для продолжения жизни, а не для своевольного прекращения ее.
Впрочем, история и сама жизнь многократно демонстрировали нам, сколь опасно и опрометчиво использовать для принципиальных оценок только две краски – черную и белую. Конечно, женский террор (да и террор вообще) как идея, как явление заслуживает решительного осуждения. Но вправе ли мы однозначно осудить бесстрашную французскую девушку, поднявшую руку на жестокого тирана? При вынесении оценок следует соблюдать осторожность и предельную объективность.
Именно с такими мыслями, как мне представляется, и подошла автор этой книги, Татьяна Кравченко, к освещению сложной и противоречивой судьбы своей героини. Мария Спиридонова в январе 1906 года застрелила Г. Луженовского, незадолго до этого зверски расправившегося с крестьянскими волнениями в Тамбовской губернии. За этот поступок бесстрашная девушка (Спиридоновой был тогда 21 год) подверглась страшным пыткам и надругательствам, а затем была приговорена к повешению, замененному на «вечную» каторгу. Февральская революция вернула ей свободу, но дальнейшая судьба Марии Спиридоновой как бы в миниатюре повторила судьбу всей эсеровской партии. Временный союз большевиков с левыми эсерами прервался уже в июле 1918 года, после так называемого левоэсеровского мятежа, в котором и по сей день загадочного остается куда больше, чем ясного.
Формально Спиридонова была амнистирована, но большевики редко прощали своих противников. Спиридонову арестовывали, освобождали и снова арестовывали, вездесущее око органов ни на минуту не выпускало ее из виду. В сентябре 1941 года она была расстреляна близ Орла в числе полутора сотен других заключенных местной тюрьмы: в противном случае, как опасались большевики, наступавшие гитлеровцы могли бы освободить их и использовать в своих целях.
Трагическая судьба этой незаурядной яркой женщины интересна не только сама по себе. В ней отразилась противоречивость и запутанность очень сложного периода российской истории, который в определенном смысле еще продолжается. Поэтому знакомство с жизнью таких выдающихся личностей, как Мария Спиридонова, безусловно, поможет нам лучше понять не только недавнее прошлое нашего отечества, но и многое из того, что происходит сегодня.
С. Н. Бурин, кандидат исторических наук









