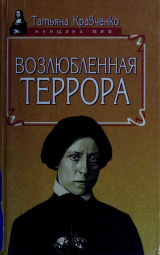
Текст книги "Возлюбленная террора"
Автор книги: Татьяна Кравченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
С первого же дня Спиридонова попыталась установить связь с волей. Газет ей не давали, книг тоже, переписку строжайше запретили, только продуктовые посылки, которые, прежде чем ей передать, тщательно осматривали. Что ж, рассудила она, раз запретили легальную переписку, будем переписываться нелегально.
Высмотрев из стражи паренька с показавшимся ей честным лицом, она попробовала передать через него записку. После длительных уговоров и колебаний он взялся это сделать, но ничего не вышло. Записку обнаружили, паренька отстранили от охраны. Следующая попытка, казалось, была удачной.
Красноармеец сам вызвался передать письмо от нее на волю. Передал. Спустя пару дней принес ответ. И следующее письмо тоже прошло гладко. Эта-то гладкость Марию и насторожила. После несложной проверки выяснилось: красноармеец действовал по поручению ВЧК…
И опять она не без горечи сожаления вспомнила своих прежних охранников. Латыши носили ей письма в город и из города, давали книги… Они понимали, что побег от такой охраны Спиридонова не предпримет просто в силу своей внутренней порядочности. Чем лучше с ней обращаться, тем сильнее ее свяжешь. Поэтому все, что облегчает заключенному муку тюрьмы, они допускали сознательно.
После провала с перепиской Спиридонова уже ни в какие контакты со стражей старалась не вступать.
Силы убывали, чувствовала она себя все хуже и хуже. Даже ходить было тяжело. Часто лежала на своем тюфяке, укрывшись старенькой шубейкой, мало спасавшей от промозглости и холода. Иногда, когда сил становилось совсем мало, накатывали приступы отчаяния и злобы от собственного бессилия. Все идет не так, дело всей жизни рушится, а она ничего не может сделать!
Сергей Борисов появился как раз в один из таких тяжелых моментов.
– Мария Александровна, – послышался от дверей тихий голос, – Мария Александровна, вы спите?
Она не ответила, только сильнее натянула на плечи свою шубку. Еще один любопытствующий! До чего они обнаглели, совсем покоя не дают!
Красноармеец вошел в комнату и робко приблизился к тюфяку:
– Мария Александровна.
Она не выдержала и резко села на постели:
– Ну, чего вам еще надо? Не можете оставить меня в покое?
– Мария Алекс…
– Вам ваше начальство приказало дежурить под дверью! – выкрикнула она, уже не владея собой. – Избавьте меня хотя бы от вашего присутствия в моей так называемой комнате!
Красноармеец слегка попятился от этого натиска, но не ушел.
– Мария Александровна, я ваш друг.
– Друг? – иронически переспросила Спиридонова – А может быть, провокатор?
Красноармеец поспешно вытащил откуда-то из-за пазухи клочок бумаги:
– Вот, посмотрите! Это вам.
Она недоверчиво взяла сложенную в несколько раз записку, развернула ее, пробежала глазами… Это было письмо от товарищей из ЦК. «Передавший это Сергей Борисов – честный и надежный товарищ…»
– Вы – Сергей Борисов?
– Да
– Вы социалист-революционер?
– Нет. По убеждениям я анархист. Но уж больно жалко мне на вас здесь смотреть. Уморят вас тут…
– Надеюсь, что выдержу. Царскую тюрьму и каторгу выдержала, и большевистскую выдержу.
Она окинула почтальона цепким, внимательным взглядом. А что, если это опять провокатор? Да нет, вроде не похоже. Совсем молоденький, физиономия простодушная, в глазах вроде бы искреннее сочувствие и сострадание. Ох, все равно опасно! Как бы еще раз не нарваться…
– Ну что ж, Мария Александровна, будете писать-то?
Спиридонова не ответила.
– А то если будете, я здесь дежурю завтра после полудня, тогда и возьму ваш ответ. Если опять же надумаете…
За перегородкой послышались тяжелые шаги. Почти сразу же вслед за этим дверь распахнулась, и в проеме возник толстый усатый красноармеец, явно слегка навеселе.
– Серега! – пророкотал он. – Ну че застоял, не нагляделся?
Приобнял Борисова за плечи и, слегка покачиваясь на широко расставленных ногах, продолжил:
– Он у нас, видите ли, новенький. А вы, видите ли, знаменитость. Так что уж не серчайте.
– Пойдем, Иван, пойдем, – Борисов сделал движение к выходу. – Пойдем.
Так, вполуобнимку, они и перешли в большую караульную комнату.
Месяц-другой Борисов исправно служил личным почтальоном Марии Спиридоновой – не потому, что он разделял ее политические взгляды. Просто ему было до смерти жалко это больную, затравленную женщину. Но добро наказуемо, и всему приходит конец. За разоблачением последовал арест: через некоторое время Сергей Борисов сам оказался узником ВЧК.
Из писем Марии Спиридоновой:
3 марта
Пришлите мне градусник. Я себя с каждым днем чувствую все сквернее. Надо бы вылежаться, но кровать ужасная, на ней нельзя лежать с больным боком и спиной. Бок весь заложен и перешел на всю правую часть спины, значит, разыгрывается, как по нотам, туберкулез. Возмутительно, что я так скоро сдаю. Вылежать нельзя еще и потому, что в уборную ходить надо через всю караулку и т. д., а если лежать, то сил меньше для вставания. Это я отметила. Кровать из брусьев и спиц, без досок, матрасишко – грязная тонкая рвань, так что все врезается в тело. Я бы матрас положила на пол и спала на ровном месте, но пол сырой (каменный) и очень холодный.
Я все время хожу только тихонько и стараюсь дышать ровно, но колотья в боку не дают додыхнуть. Это обострение от промозглости, сырости и очень дурного воздуха. Здесь ночью собираются спать несколько человек, это в таком-то закутке. Им около печки тепло и весело. Воздух – топор виснет. Я закрываю голову шубой и дышу в нее.
Больше всего не могу выносить махорки. Презираю себя я за недемократизм. Ведь раньше любила даже, но сейчас искашливаюсь.
Сил у меня еще много, но к чему же все-таки их терять последними. Хорошо, что делаете передачи. Я возмещаю едой другие недохватки.
4 марта
…Подсматривание и шпионаж особенно усилились, когда один из моей стражи провалил письмо от наших ко мне. Кстати, у меня почему-то пропала уверенность к этому почтальону. Уж очень ему удается, когда у других не выходит. Потом пропажа письма от вас, положенного им для меня в условленном месте Администрация для провокации велела положить обратно туда же, но я, разуверившись и тщетно проискав в условные дни и не имея условной метки, потом не искала, и они убрали обратно без моего ответа. Можно думать, важнейшее государственное дело – словить Спиридоновскую записку…
После пропажи письма от наших развилось какое-то бешенство подсматривания и слежки, шушукания, инструкций, лакейства… Являются уже добровольцы. Изгадили, изжандармили хороших свежих, почти детей. Экая пакость все эти Бухарины и К. Ведь они губят основное в красноармейцах – их душу. Ведь сам Бухарин побрезгует шпионить, хотя на доносы уже опустился. Побрезгует же он нагайкой, розгой, шомполом пороть, хотя бы и «восставшего» против его произвола мужика. Так как же он пользуется для этого услугами малых сих, услугами этих детей с чистой и нерастленной душой. У меня перед глазами так и встают ряды наших конвойных на каторге. То же самое. И как ни верти, ни хитри, ни блуди языком «видные советские деятели», редакторы и пр. и пр. – палачество есть всегда палачество, охранник есть всегда охранник, и жандарм – всегда жандарм…
Не такими средствами победит народ и добьется социализма.
Только вопреки им победит.
Для характеристики лицемерной заботливости большевиков о моем здоровье добавлю о внешней обстановке в моем «санатории».
Печи в моей комнате нет, и она прогревается через перегородку. Студь, конечно. А когда начинает прогреваться, то сырость с окна требует тряпок, углы стен и потолок и пол в углах и под столом отмокают мокрыми пятнами, и вся камера как разрисованная.
Меня все время, конечно, лихорадит, и я кашляю от этой дикой камеры и от непривычной махорки, которая тянется к окну видной глазам дымкой, кашляю от чада и дыма печки, у которой своеобразное устройство, и она чадит, дымит и дает угар.
После топки часы сижу у стола или пробую лежать на своей совершенно невозможной, стильной ко всей обстановке кровати, пытаясь преодолеть угарное стучание молоточков в виски, сердцебиение и проч, отравление. Это почти ежедневно.
Справлялась о газетах – отказом. Кое-как добилась мыла.
Почему нет свиданий?
Теперь я ни о чем не справляюсь. Пусть их.
В уборную меня должен водить часовой. Она гармонирует вполне с общим стилем и тоже со щелистой перегородкой, высотой в свою дверь. За дверью стоит мой часовой. Идти в уборную надо через неистово глазеющих всех солдат караульного помещения, вместе с ними, бегущими тоже в смежную большую уборную со стеклянными дверьми. Так что я, кроме того что живу почти в общей комнате с 2-мя – 4-мя чужими мужчинами, вообще-то делю жизнь и всю прозу ее со 100 красноармейцами.
Смена бывает каждые 2 часа. Посещение еще всяких разных ежеполчасны. Стерегут. Ночью грохот двери, громкий разговор бряцание и галдеж в дверях на меня, лежащую под своей шубкой, каждые 2 часа, час, полчаса…
Так не делали с нами и на каторге.
А мелочей, бесконечных, постоянных– не передать…
14 марта
9-го марта меня перевели в Кремлевскую больницу. Совсем мне плохо стало.
Заболела я с первых дней помещения в свою конуру… С 4-го – 5-го марта началось кровохарканье, – и такое обильное, как в 1906—7–8 гг. до зарубцевания. Я наклонялась к вонючей ряжке, и из меня лило. Я все ходила, потому что шумело в голове и знала, что мне плохо, – не хотела поддаваться.
Одна ночь была острая. Я проснулась с ощущением – вот оно. Началось. Вся подушка была полна крови, платок, полотенце. Общее замирающее состояние. Сразу вдруг чувствую, что уже я не хозяин, что «оно» пришло, началось…
Зову часового, чтобы он приподнял, – нет голосу. Пробую стучать. Рука не желает шевельнуться.
Вытереть с губ, рта, щеки кровь – руки не поднялись.
Сколько времени я так была, не знаю.
Когда рассвело уже, я нашла в себе силы и начала приводиться в порядок.
Очень было интересно. Мысли были такие особенные. Никакого возмущения, что пришла, кажется, смерть. Никакого.
Все вспоминала, чего я еще не доделала. И такая покорность в душе. Так тихо, тихо. Лежала и ждала.
Озябла я страшно тогда. К утру у меня был такой вид, что часовые взъелись и, невзирая на протесты, просьбы мои, все же звонили, звали и вытребовали всяких своих властей и фельдшерицу. Я на все их приставания отвечала: «Мне ничего не надо».
Фельдшерица, растерянно поглядывая на зияющие, как язвы, пятна на стенах, на всю обстановку, говорит: «Если еще на одну ночь вас оставить, вы здесь умрете».
Караульный начальник говорит:
– «Мы имеем право не считаться с заявлением больного. Больные становятся достоянием врача, и вас просто возьмут на руки» и т. д.
Я перестала спорить, как ни было мне противно переходить в больницу, как бы во исполнение их иезуитского приговора.
Хотели меня положить на носилки, потому что очень мне было неважно, но это было бы уж слишком обстановочно. Понемногу оправилась, и кое-как доползли мы с очень большим эскортом.
Правы оказались мои предчувствия первых дней ареста.
Совсем близка была у смерти.
Здесь в больнице я почти оправилась. Дрожат руки, шумит голова, но уже есть силы. Здесь вылилось 6–8 стаканов крови. Возьму мокну в стакан кончик платка – чудесное знамя получается, яркое, алое.
Здесь как-то сразу легче. Могучий у меня организм. Значит, опять зарубцуется, и не умру. Когда улеглось кровотечение, меня выкупали в ванне. Чистое белье, кровать такая, что можно не только лежать, но прямо барствовать. Есть и подушка, а там маленький комок чего-то грязностружечного, и лежать на кровати даже здоровому неловко, а больному нельзя совсем. Здесь я раздеваюсь и ложусь, как человек. Часовой не подглядывает, а стережет входы и выходы, что только и надо. Там же была паника, тенденциозный прижим.
Интересны были часовые в той моей конуре два дня назад.
Им приходилось ставить штыки в угол и укладывать меня, закрывать, подпихивать чего-либо под голову.
Сердились: «Здесь только бандита можно держать, а не такого человека».
20 марта
Меня перевели из больницы в чугунный коридор.
В нетопленную комнату, пахнущую плесенью, с темнокрасными обоями, со сводами каменными. Один раз ее истопили по настоянию стражи. Вообще не очень намереваются топить. Дрожу, конечно, но камера нравится. Пол деревянный, третий этаж. Камера длинная, узкая. Ходить хорошо, шагов 9—10.
Сегодня вымерили окна. Будут делать решетки.
Значит, вместо санатории они на год приспособляют одну из кремлевских комнат под тюрьму. Очень остроумно.
Выписал меня из больницы доктор «коммунист» и настоящий тюремщик. Фамилия его что-то вроде Опокова. В больнице, когда он заставал меня пишущую, сейчас же делал замечание страже:
– «Вы глядите, чтобы записок не писала и не передавала» и т. д.
Он выписал меня из больницы потому, что ему нужно было поместить в мою комнату свою родственницу. Я заявила ему «протест».
– «Если меня помещают в ту же конуру, куда сажали раньше, то я заявляю протест и прошу запомнить».
– «Меня это не касается, куда вас поместят…»
И сразу же побежал к коменданту:
– «Когда же вы возьмете от меня Спиридонову!..»
Раньше меня лечила женщина-врач. Та была только врачом, но она уехала.
Как характерно, что врачи и те «пап[уа]сы…
ЦК партии левых эсеров постановил: организовать ей побег. В ее охрану удалось проникнуть эсеру Н. С. Малахову, бывшему крестьянину из Рязанской губернии.
2 апреля 1919 года Мария Спиридонова вместе с ним бежала из Кремля.
«НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
Судьба жестока к революционерам. Ступив на этот путь человек не всегда вполне осознает, что будущей реальностью для него становятся либо тюрьма, либо каторга, либо существование под чужим именем – нелегальщина. Первое и второе Марии Спиридоновой хорошо знакомы. Теперь же ей довелось испытать и третье – все прелести жизни на нелегальном положении. И когда! После долгожданной и победившей революции… Раньше скрывались от царской охранки, и это было вполне естесственно, нормально, в порядке вещей. Теперь же прятались от бывших своих, которые лютовали свирепее, чем царское охранное отделение.
Те полтора года, которые Спиридонова нелегально провела на свободе, были временем отчаянного сопротивления «диктатуре пролетариата». По всей стране нарастало недовольство политикой нового правительства, и это недовольство жестоко подавлялось. Ленин в России призывал использовать репрессивный опыт Великой французской революции. Новые суды были названы трибуналами, приговоры этих судов не могли быть обжалованы. Приговор никем не утверждался и должен был приводиться в исполнение в течение 24 часов.
Однако «спасать страну» предполагалось не только расстрелами и казнями, но и репрессиями, обрекавшими на голодную смерть сотни тысяч людей.
Жизнь на родной Спиридоновой Тамбовщине в 1918—1920-х годах подробно описал чиновник из Петрограда, некто Окнинский. В 1918 году, спасаясь от голода, он приехал с семьей в Тамбовскую губернию. Окнинский служил делопроизводителем в одном из волостных Советов Борисоглебского уезда до 1920 года. Потом ему удалось эмигрировать в Латвию. А некоторое время спустя появились его воспоминания «Два года среди крестьян. Виденное, слышанное, пережитое в Тамбовской губернии с ноября 1918 года до ноября 1920 года».
Из воспоминаний А. Л. Окнинского:
…Борисоглебский уезд несколько раз входил в состав прифронтовой полосы. Вследствие этого крестьянам волости приходилось ежедневно, во всякое время давать иногда до 20 и более подвод бесплатно…
Более всего возили разных воинских чинов, их снаряжение и продовольствие, причем последнее часто бралось от волости. После воинских чинов первое место в этом отношении занимали разные ревизоры и инструкторы, большею частью зеленая молодежь, часто плохо грамотная и невежественная, не знающая совсем того дела, по которому приехала, но очень самолюбивая, нахальная, самоуверенная и решительная, сильная своей безответственностью, как члены большевистской партии… Всех их не только нужно было отвезти куда-нибудь, самое близкое верст за десять, но и накормить. Кроме того, все «ревизоры» и «инструкторы» норовили и еще что-нибудь получить: кто масла коровьего, кто подсолнухов, кто проса… Это. собственно и было целью их поездок по волостям, а никак не ревизии или инструктирование. Помимо всего этого, почти каждый день по телефонограмме из Борисоглебска получалось приказание прислать туда или два воза ржаной соломы или воз сена, или две меры овса, или несколько пудов проса и т. п.
Все это сейчас же раскладывалось по селам, по числу едоков в каждом, и все это не шло в счет продналога. От всех этих поборов и тяжелой бесплатной подводной повинности волость воем выла, а потом еще больше завыла, как был объявлен дополнительный сбор ржи в соответствии с посевной площадью каждого двора.
Из материалов «Архива партии социалистов-революционеров» 1919–1920 гг.:
Двухгодичный опыт по строительству государственного социалистического сельского хозяйства принес печальные результаты. В Тамбовской губернии около 40 000 десятин бывшей помещичьей земли были отданы под советское хозяйство. На этих государственных фермах работали не только их собственные рабочие (около 30 тыс. человек), но и насильно мобилизованные крестьяне. Хотя Ленин и другие большевистские лидеры многократно и публично заявляли, что Советская власть решила не прибегать к принудительному труду для обработки земель государственных хозяйств, насильственная мобилизация проводилась в неограниченных масштабах… Но даже при всех этих чрезвычайных мерах сельское хозяйство не только не является образцом для подражания, но и иллюстрирует развал и разорение деревни.
Вот несколько фактов. Урожай 1919 года оставлен под снегом, без присмотра, в скирдах, уничтожается грызунами на ссыпных пунктах и в амбарах. Большая часть скота в советских хозяйствах страдает от болезней и гибнет в огромных количествах. Многие поля в запустении. В итоге деятельность этих ферм сводится к нулю.
Советские хозяйства Тамбовской губернии к концу сельскохозяйственного года не только ничего не дали государству, но и обратились к продорганам с просьбой о 2 млн. пудов корма для скота и людей. Всю зиму крестьяне под угрозой реквизии были обязаны обеспечивать из своего скудного запаса корм для рабочего скота советских хозяйств. В 1920 году поля совхозов были вспаханы и засеяны большей частью с помощью принудительного труда дезертиров и крестьян, которых силой оружия заставляли возделывать не свои собственные земли, а поля советских хозяйств. Так было в деревне Мельгуны Тамбовской губернии, где вооруженная охрана находящегося по соседству сахарного завода блокировала все выходы из деревни и, стреляя в воздух, применяя насилие, заставила крестьян отправиться на обработку полей, принадлежащих мельгуновскому государственному сахарному заводу.
Крестьяне выражали естественное возмущение и спрашивали: «Чем, собственно, большевистский социализм отличается от крепостного права». Вынужденные трудиться для совхозов и поставлять им фураж, крестьяне невольно забрасывают собственные хозяйства. В результате – резкое сокращение посевных площадей, даже по официальным данным, безусловно заниженным, достигает в Тамбовской губернии 15 процентов крестьянских пахотных земель; ненормальная продовольственная политика Советской власти сказывается на росте недосеянных полей.
Многочисленные натуральные налоги, вся тяжесть которых ложится на крестьянские хозяйства, действительно сильно напоминают крепостное право… Крестьянин лишен выбора места, времени и рода работы. В Советской России он превращен в обычную рабочую лошадь, в бесправную и бессловесную скотину.
Из воспоминаний А. Л. Окнинского:
К весне 20 года местное население осталось совсем без соли. Ее, крайне нужную и неоднократно обещанную, населению не выдавали, и достать ее можно было только у железнодорожников, главным образом у кондукторов, по расчету за 1 фунт соли пуд муки или 10 фунтов пшена, и то не всегда. Крестьяне по этому поводу говорили:
– Без сахара мы можем прожить, без табака тоже как-нибудь обойдемся – хоть травки покурим, а без соли никак не обойтись: никакой охоты есть нету, а без еды – кака уж работа!
И вот как только после весенней распутицы дороги стали проходимы, мимо наших окон потянулись на юго-восток паломники… за солью. Называю их паломниками потому, что вид у них был странников-богомольцев: худые, истомленные почернелые, с котомками за плечами и с посохами в руках. Состояли они большей частью из пожилых и старых женщин и подростков. Шли они по трое-четверо, но были и пары и одиночки; последние состояли из отставших по слабости от какой-нибудь партии. Шли они из Тамбовского, также Козловского и еще более дальних уездов. И шли они мимо нас круглые сутки…
Из «Архива партии социалистов-революционеров»: О положении в тамбовской деревне 1919–1920 гг.:
В случае отказа отдать продовольственным отрядам «излишки» запасов крестьян арестовывают целыми толпами, конфискуют их имущества – и у богатых, и у средних. И даже у бедных. Такие конфискации, пускающие крестьян по миру, происходят в большинстве уездов Тамбовской губернии. Обычно солдаты заставляют самих крестьян нагружать телеги зерном, добром и утварью, сельскохозяйственными орудиями, и изъятая собственность везется в ближайший губернский или уездный город, где чаще всего и оставляется и телега, и лошадь, и крестьянин возвращается домой нищим, если он не арестован.
Однажды конфискованное крестьянское добро и скот повезли из деревни Троицк-Дубрава Козловского уезда не в ближайший уездный город, а в Тамбов, и треть скота пала в дороге от недостатка кормов и усталости.
В Кирсановском уезде… практикуется следующий метод наказания крестьян: всю их собственность конфискуют, взрослых забирают в лагеря принудительных работ, а детей – в приюты. Такой случай произошел в деревне Оржевка.
Собранные насильственно зерно и картошка часто поедаются крысами па складах и просто на улице. Зимой 1919–1920 годов около 60 000 пудов картошки погибло вследствие этого на Покрово-Марфинском складе, несколько тысяч пудов – на Якоревском складе и т. д. В деревне Шульгино… 4000 пудов конфискованного зерна съели крысы и т. д. и т. п.
Не встречая никакого сопротивления со стороны терроризированного населения, уполномоченные Советской власти в выборе карательных мер перешли границы всего человеческого… Зимой 1920 года губернский комиссар продовольствия Гольдин приказал, чтобы крестьяне сдавали продработникам картошку размером не менее чем яйцо, пригрозив, что, если она будет мельче, телега и лошадь, которые доставят урожай, будут конфискованы. Этот указ не был просто угрозой: лошадь и упряжь Романа Молодцова, крестьянина деревни Токаревка, были конфискованы за подвоз к Токаревскому складу мелкой картошки. В Больше-Липовецком уезде крестьянин, отказавшийся сдать хлеб, был зарыт в землю по пояс, и его держали в таком положении до тех пор, пока он не согласился расстаться с последним своим хлебом.
…Перед Пасхой тамбовские губернские продотряды получили из Москвы, из Наркомата продовольствия, телеграмму с приказом послать в Москву в адрес ЦК РКП (б) вагон гусей. Приказ был исполнен. Тамбовский комитет поступил точно так же, и члены партии и их родственники получили 30 пудов гусей. Потребительские кооперации были национализированы, и потребительские общества из добровольных организаций превратились в… административные учреждения.
Все это, естественно, не могло не вызвать протеста со стороны крестьянства. Сначала это были просьбы и жалобы к тем комиссарам и начальникам, которые казались им более справедливыми, на тех, кто творил несправедливость и бесчинства.
В ответ, однако, покатился вал репрессий и террора, в конечном счете и вызвавший крестьянскую войну (по сравнению с которой разинщина или пугачевщина выглядят как детские игры).
А. Н. Окнинский о повстанческом движении в тамбовских деревнях;
…Я упоминаю о борцах против большевистской власти в Тамбовской губернии, которых я называю «зелеными». К тамбовским «зеленым» не применимы названия ни «лесных братьев», ни «камышанников» не только потому, что в тамбовской губернии не было ни больших лесов, ни больших камышей, где можно было скрываться, но преимущественно потому, что зеленые в означенной губернии состояли исключительно из одних враждебных советской власти крестьян, а не из крестьян, потерпевших во время междоусобицы как от красных, так и от белых, и поэтому особенно анархически настроенных…
Начало «зеленым» в Тамбовской губернии положили весной 1919 года военные дезертиры, как из подлежащих призыву на военную службу, так и из бежавших из Красной армии. Потом к ним присоединились особенно обиженные советской властью крестьяне, а затем к 21 году в зеленых, т. е. во врагов советской власти, превратились уже все крестьяне Тамбовской губернии.
Образовавшиеся зеленые из военных дезертиров после посещения летом 19 года уездов Тамбовской губернии карательными отрядами перестали прятаться у себя в селах, как это они делали до карательных отрядов, а стали меняться местожительством со своими родными и знакомыми в других волостях и работать за них в их селах, а те в свою очередь у них.
«Зеленые» же не из дезертиров, а из особенно обиженных большевиками крестьян… жили у себя в селах, как всегда, и лишь собирались в условленных местах перед выполнением террористических актов против большевиков, в которых принимали участие всегда крестьяне из чужих волостей, неизвестные в тех местах, где они совершали расправы с большевиками, после чего они тотчас же возвращались в свои села к обычным своим занятиям… В то время растерянности большевиков в губернии «зеленые» из дезертиров под видом большевицких разведчиков свели счеты в селах с более вредными им большевиками. В 20 году уже «зеленые» повели сильный террор, который затем в 21 году вылился в массовое восстание крестьян.
Из отчета президиума Тамбовского уездного исполкома о работе за май – октябрь 1920 года:
…За последнее время, с 20-х чисел, работа в волисполкомах протекает в ненормальных условиях. Эсеро-антоновские банды продолжали разрушать административный аппарат на местах, убивали советских работников, как коммунистов, так и беспартийных, сжигали в волисполкомах не только бумагу, но даже и мебель.
…Для борьбы с бандитами, для восстановления Советской власти на местах президиумом были командированы ответственные работники… но усилия их разбивались, сопротивление банд во многих селах вспыхивало по нескольку раз.
…Из-за жестокости, проявленной бандитами по отношению к коммунистам и советским служащим, а также уничтожения во многих волисполкомах всего аппарата, всех документов, печатей, архива и т. д. волисполкомы попали в совершенно катастрофическое положение.
Телеграмма тамбовских руководителей о крестьянском восстании в губернии:
8 сентября 1920 года
В Тамбовской губернии в Кирсановском, Борисоглебском и Тамбовском уездах в течение трех недель происходит крупное восстание… Вследствие острого недостатка войск, винтовок и патронов в губернии организованному военному Совету не удалось своевременно задавить повстанческое движение, которое теперь разрослось до громадных размеров и имеет тенденцию разростаться, захватывая новые территории. В ряде случаев войска отступали перед бандами повстанцев из-за недостатка винтовок и патронов. В результате восстания бандами расстреляно свыше 150 деревенских коммунистов и продработников и отнято у наших мелких отрядов до 200 винтовок и 2 пулемета. Разгромлены четыре совхоза. Вся продработа остановилась. Неоднократно обращались в Орел, окрвоенком, в сектор ВОХР, в Москву, в ВЧК и ВОХР, однако до сих пор не получили достаточного количества надежных войск и, главное, винтовок. Поэтому обращаемся к Вам, как к последней инстанции, могущей оказать нам помощь… Кроме того, необходима присылка войск для продработы, в противном случае не выполним разверстку. Указанные обстоятельства вынуждают губисполком и губком, после совещания со Свидерским, командировать Шлихгера в Москву для личного доклада.
Член коллегии Наркомпрода Свидерский
Предгубисполкома Шлихтер
Предгубкома Мещеряков
В конце января 1920 года Ленин дает указание членам Совета обороны РСФСР:
«1. Наличный хлебный паек уменьшить для неработающих по транспорту, увеличить для работающих. Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена». Не о стране здесь речь– о власти большевиков. Чтобы спасти одних, можно погубить других.
На заводах и фабриках то и дело возникали забастовки. Рабочие митинговали, требуя улучшить условия жизни.
А ведь рабочий был привилегированной фигурой при этой власти. К крестьянам же относились немногим лучше, чем к «врагам революции». Так, например, позже, в самый пик голода, 2 апреля 1921 года Ленин предлагал созвать совещание наркомов «по вопросу об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков…». Увольнению подлежали рабочие «из крестьян, мобилизованных армейцев и т. п.».
В отношении крестьян Ленин высказывался весьма жестко: «Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление: «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать» – так рассуждает крестьянин, по привычке, по старинке. А мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу, «это и есть возврат к старому капитализму, этого мы не допустим, тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало».
На сегодняшний взгляд, странная, дикая, извращенная логика…
Лидер правых эсеров Виктор Чернов заметил: «Октябрьской революции не было. Был октябрьский переворот. Он был преддверием эволюции от Ленина-Пугачева к Ленину-Аракчееву. Он был преддверием драпирующейся в красные цвета, но самой доподлинной контрреволюции».
Основными оппонентами Ленина, призывавшими перейти от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике, были руководители меньшевиков и эсеров. «Даже лучшие из меньшевиков и эсеров защищают как раз колчаковские идеи, помогающие буржуазии и Колчаку с Деникиным прикрывающие их грязное и кровавое капиталистическое дело. Эти идеи: народовластие, всеобщее, равное, прямое избирательное право, Учредительное собрание, свобода печати и прочее», – писал вождь мирового пролетариата.
Именно этими идеями, которые так не нравились Ленину, и руководствуется сейчас весь цивилизованный мир…
В одной из квартир большого серого дома, расположенного в конце Тверской, шло очередное заседание ЦК партии левых эсеров. Квартира принадлежала Борису Камкову и считалась относительно безопасной; именно поэтому партийцы собрались у него. Спиридонову всячески оберегали от возможных неприятностей: она никак не желала быть осторожной.








