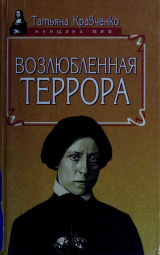
Текст книги "Возлюбленная террора"
Автор книги: Татьяна Кравченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
СУД
Сквозь зарешеченное окно камеры проникало достаточно света, чтобы вполне свободно читать и писать. Правда, читать ей было тяжело – один глаз до сих пор не видел, – а писать Марусе не разрешали. Часовым строго-настрого приказано: если увидят в руке Спиридоновой карандаш, немедленно докладывать начальству.
Среди часовых попадались и такие, которые слишком рьяно исполняли приказы. Был один солдат, рыжий здоровенный детина, который просто жизни ей не давал. Казалось, что он не отходит от глазка, наслаждаясь выпавшей ему ролью строгого надзирателя. К заключенной он обращался не иначе как «Эй, ты!». Во время его дежурств Марусе даже приходилось ложиться спать не раздеваясь, – ну, не могла она разоблачаться на глазах у этого рыжего любопытствующего хама!
А между тем день суда близился. Это ее будоражило, заставляя все время пребывать в лихорадочно-приподнятом настроении. Да, ее осудят, она погибнет. Но погибнет, как Жанна д'Арк – на костре, за свой народ! Погибнет, как раньше гибли мученики за веру… Как боярыня Морозова– какие у нее замечательные глаза на картине Сурикова!
Впрочем, что за странные мысли приходят ей в голову! При чем здесь религия? Что там какие-то христианские святые, умершие во имя Бога, который ничего не сделал, чтобы уничтожить несправедливость, царящую на земле! Он – не смог или не захотел, а люди – новые святые, революционеры, к которым принадлежит и она, Маруся Спиридонова, – эти люди сделают то, что не смог сделать Иисус Христос. И не будет больше, никогда не будет девочек со спичками!
Маруся вспоминала Чернышевского – последний сон Веры Павловны, в котором великий писатель рассказывал о будущем устройстве мира. Она действительно считала Чернышевского великим и преклонялась перед ним, а сейчас даже чувствовала себя героиней «Что делать?». Рахметов мог спать на гвоздях, готовясь к предстоящим испытаниям. Но ведь она, Мария Спиридонова, прошла через такие же и более страшные испытания! И готова ко всему, и к смерти… Да, она примет смерть радостно, без жалоб и стонов, она гордо посмотрит в лицо своим палачам!
– Эй, ты! Куда уставилась-то?
Грубый окрик рыжего детины вырвал Марусю из восторженных грез о подвиге. Однако так сразу вернуться к грубой действительности она не могла и смотрела на часового отсутствующими глазами, воображая себя, смелую и гордую, на эшафоте.
– Ну че, не слышишь, что ль? – повторил детина. – Кому говорю, перестань глазеть!
– Вы мне?
Она постаралась сказать это как можно более гордо и независимо, все еще чувствуя себя новой Жанной д'Арк.
– А то кому же!
– Почему же мне нельзя смотреть?
Детина на секунду растерялся, потом рявкнул:
– Не положено!
Маруся улыбнулась, но голову не опустила.
Однако надо подумать о том, что она будет говорить в суде. Ее речь должна прозвучать подобно разорвавшейся бомбе. Да, так и будет! Она подготовит им настоящую бомбу!
Только бы на суде не было Аврамова! Увидеть еще раз его сытую лоснящуюся морду– это выше ее сил.
Маруся словно снова почувствовала ползущие по ее телу волосатые пальцы, липкие толстые губы и содрогнулась от отвращения. Хорошо, что ей недолго осталось мучиться этими воспоминаниями. Смерть не только даст ей возможность принять муки за правое дело, она еще избавит от позора.
А вдруг… Вдруг она ошибается, ее все-таки помилуют? Что тогда?
Мысль о самоубийстве все чаще и чаще приходила ей в голову. Еще свежа была в памяти история с Ветровой – петербургской студенткой, изнасилованной жандармом. Поскольку власти отказывались признать факт изнасилования, Ветрова опрокинула на себя керосинку и подожгла платье. Она умерла страшной смертью – сгорела заживо, но умерла не зря: по стране прокатились волны протеста.
И у нее, у Марии Спиридоновой, не меньше силы духа, чем у Ветровой…
Однако о самоубийстве пока думать рановато, пока нужно бороться другими средствами. Впереди – суд. Жалко, что она все еще не оправилась от аврамовских и ждановских побоев, еще слишком слаба. Эти приступы головной боли, которые путают мысли… Речь, которая будет произнесена на суде, почти сложилась в голове, но ее надо бы записать для верности.
В течение нескольких дней Маруся старалась использовать для записей каждый миг, когда за ней наблюдали не слишком пристально. Слава Богу, рыжий детина дежурил через двое суток на третьи. Другие часовые не были так строги. Кажется, они даже жалели Спиридонову.
Записи Маруся хранила во французской булке, переданной мамой из дома. Булка была довольно большой. Маруся аккуратно разломила ее пополам, выщипала кусочек мягкой серединки и под румяными поджаристыми корочками прятала свою драгоценную рукопись.
Время шло. Кончался февраль, на допросы ее больше не вызывали. Суд мог состояться со дня на день.
Но первый день весны оказался крайне несчастливым.
Возле дверей Марусиной камеры дежурил тот самый ненавистный рыжий детина. Ей показалось, что сегодня он ухмыляется еще более омерзительно, чем всегда. А может быть, и не показалось? После завтрака в камеру вслед за часовым вошла надзирательница.
– Арестованная, встаньте!
Маруся поднялась с жесткой койки, застеленной казенным серым одеялом.
– Отойдите к дверям!
Спиридонова сделала несколько шагов в указанном направлении. Рыжий детина остановился у нее за спиной. Надзирательница откинула одеяло, сбросила тощую подушку и принялась перетряхивать постель.
– В чем, собственно, дело? – возмущенно спросила Маруся. – По какому праву?
Надзирательница не удостоила ее даже взглядом. Вместо нее ответил часовой:
– Велено обыск у тебя произвесть. Так что стой спокойно и жди.
Судя по всему, он был страшно доволен очередным Марусиным унижением.
У Маруси все внутри похолодело, сердце словно подскочило и забилось где-то в горле. Обыск? У нее? Неужели все-таки выследили?
Покончив с постелью, надзирательница встряхнула три толстые книги, переданные Марусе из тюремной библиотеки, а потом стала внимательно осматривать нехитрую утварь заключенной. Чашку, тарелку, чайник… Вот сейчас, сейчас… Неужели все-таки? Нет, не может быть! Это слишком несправедливо! Маруся стала белой как мел. Так и есть: добралась до булки и разломила ее. Свернутые в трубочку тонкие листочки рассыпались и разлетелись по полу. Надзирательница подхватила на лету один из них:
– Это что? В карцер захотела?
Маруся молчала. У нее пропал голос.
– Это что? – грозно повторила надзирательница.
– Недозволенные записи, – услужливо подсказал рыжий. Лучше бы он этого не делал: начальственный гнев обратился на него.
– А ты куда смотрел?
– Виноват, – быстро заморгал, детина бесцветными ресницами. – Не уследил… Может быть, не в мое дежурство?
– Ладно, разберемся…
Надзирательница подобрала листы и быстро вышла из камеры. Рыжий потоптался на пороге, пригрозил арестованной кулаком и тоже вышел, зло хлопнув дверью. Лязгнула тяжелая проржавевшая щеколда.
Маруся на дрожащих ногах пересекла камеру и рухнула на развороченную постель. Лучше бы ее снова жестоко избили! Все, все кончено! А вдруг суд завтра или послезавтра? Да если даже и через неделю – все равно она не успеет восстановить записи. А если бы и успела – теперь ее речь заранее известна врагам. А говорить в суде то, что заранее известно, бессмысленно. Они уж точно успеют подготовиться и ответить.
Этот случай сказался на ее здоровье – она опять слегла. Приступы кашля, и без того частые, усилились. Началось кровохарканье. Но нет худа без добра – в связи с обострением болезни заключенной было предоставлено дополнительное свидание с родными.
На свидание к Марусе пришла сестра Женя.
На этот раз оно проходило не в камере, а в специально отведенной комнате. Жене разрешили сесть рядом с сестрой, но за руку взять не позволили. На свидании присутствовал жандарм-соглядатай.
Маруся плохо выглядела: красные пятна на щеках, под глазами – громадные темные круги. Женя покачала головой:
– Ну как ты, девочка?
– Как видишь, – Маруся слабо улыбнулась. – Это все ничего. Просто сплю плохо, да вот еще кашель… Слава Богу, недолго осталось.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты знаешь. Суд уже скоро, а после… Думаю, что приговор будет вполне определенным.
– Марусенька, ничего нельзя знать заранее.
Маруся пожала плечами:
– Не обманывай себя. В моем случае скорее всего – смерть через повешение.
– Маруся!
– Да нет, ты знаешь, я не боюсь, – в Марусиных глазах зажегся огонь. – Поверишь ли, я жду этого с нетерпением. Мне иногда даже снится, как я буду висеть.
Женя непроизвольно поежилась: при этих словах ей стало как-то жутко. Однако она быстро взяла себя в руки и попробовала возмутиться:
– Какую, однако, чушь ты несешь!
– Нет. Это не чушь. Зачем мне жить? Я свое предназначение уже выполнила. А вот если меня казнят, повесят, то по всей стране прокатится волна протеста. Смерть моя послужит славе революции.
Опять этот страшный фанатичный огонь в ее глазах! Женя покачала головой:
– Ты не права. И жизнь твоя тоже нужна революции. Еще больше нужна. Ты представляешь, сколько ты сможешь сделать, оставшись в живых?
Маруся не ответила лишь опустила голову.
– Девочка моя, – ласково сказала Женя, – тебе еще рано торопиться на тот свет. Ты еще не сделала и половины из того, что можешь сделать, поверь мне.
– Нет, – Маруся горько улыбнулась. – Я уже ничего больше не смогу. Мне просто не хватит здоровья, все оно здесь, в тюрьме осталось. Кому нужен немощный революционер? Спартанцы, кажется, добивали раненых, и правильно делали.
– Маруся! Вот это уж совершеннейшая чушь и глупость! – Подобных слов от сестры Женя просто не ожидала. Как ей только в голову могло такое прийти!
– А здоровье… Здоровье поправится, у тебя молодой сильный организм.
– Знаешь, – голос Маруси упал до шепота, – я бы все равно не смогла жить. После того что со мной сделали… сделал…
Женя поняла, что она имеет в виду Аврамова.
– Но послушай, – тоже шепотом ответила она: – все проходит, все забывается. Пройдет время, и…
– Нет. Если меня помилуют, моя история будет банальным случаем, одним в ряду многих. Я, конечно, могла бы покончить жизнь самоубийством, но это было бы повторением поступка Ветровой.
– Что ты, что ты! И не думай!
– Это было бы повторением поступка Ветровой… – снова сказала Маруся. – А я не хочу повторяться. Я тогда найду свою дорогу.
– Что ты задумала?
– Да так, ничего. Все-таки будем надеяться на смертный приговор.
Это свидание произвело на Женю тягостное впечатление. Похоже, что ее сестра твердо решила умереть – так или иначе. В этой тяге к смерти было что-то ненормальное, болезненное, фанатичное. И слова сестры на Марусю не производят никакого впечатления.
Может быть. мама?… Нет, с мамой нельзя говорить об этом. В прошлый раз Маруся и так ее «утешила»: сказала, что с ее смертью Александра Яковлевна не так уж много потеряет, ведь у нее останется еще трое детей. Бедная мамочка потом долго не могла прийти в себя. Как она плакала: «Женечка, неужели она думает, что я люблю ее меньше вас всех? Ведь для матери каждый ребенок– как палец на руке, какой ни отними, все одно больно!» Нет, с мамой о Марусиных настроениях говорить не стоит.
В конце концов Женя решила переговорить об этом с товарищами. Надо постараться совместными усилиями убедить Марусю не совершать непоправимого. Вот если бы Вольский… Женя, разумеется, знала о нелегальной тюремной почте. Надо ему передать, чтобы он в каждом письме, в каждой записке пытался отговорить Марусю от мыслей о смерти. Может быть, хоть Владимира она послушается…
Суд состоялся 11 марта.
В этот день распогодилось: выдалось настоящее весеннее утро, с капелью, и небо было ярко-синим, как на картине Левитана.
На улицах о г тюрьмы до здания суда было довольно много народа. Ждали, когда повезут Спиридонову. Были в толпе студенты Екатерининского института, гимназисты и гимназистки, рабочие и просто любопытствующие обыватели. Таких, пожалуй, было больше всего.
Марусю в суд везли на извозчике. Рядом с ней сидел жандарм, вокруг верхами гарцевали казаки. Она была бледна, только на щеках горели красные пятна лихорадочного румянца.
Как только раскрылись ворота тюрьмы, в толпе раздались приветственные выклики: «Мужайся, товарищ!», «Мы с тобой, Маруся!»
Один из казаков развернулся и лениво хлестнул нагайкой воздух:
– А ну, прекратить безобразия!
Маруся вгляделась в толпу, выискивая взглядом тех, кто кричал. В первую секунду она ощутила острый укол разочарования. Молодежи было не так уж много. Вокруг в основном обыватели, скучающая тамбовская публика в поисках предстоящего развлечения. На лицах написано опасливое любопытство. Ага, вон там четыре мальчика в гимназических шинелях пытаются пробиться поближе к извозчику. И рядом – студенты… «Держись, Маруся!» Чего-то подобного она и ожидала, только в еще больших масштабах, честно говоря, почти надеялась, что поездка в суд выльется в демонстрацию протеста, и настроилась вести себя соответственно.
Но демонстрации, конечно, не получится. Полиция хорошо поработала: многие из потенциальных возмутителей спокойствия были арестованы, другим пришлось бежать из города… Конечно, все лучшие люди города – в тюрьме, на свободе остались единицы, здесь некому бунтовать и возмущаться.
А вот когда ее вели по тюремным коридорам, почти из всех камер слышалось пение революционных маршей и «Вечной памяти» – так товарищи посылали свой привет ей, мученице за свободу…
Спиридонова подняла руку в приветственном жесте, улыбнулась, приготовляясь все же ответить тем, кто кричал. Но тут извозчик хлестнул лошадь, и она рванула вперед с неожиданной для такой старой клячи прытью.
На улицах по пути следования до здания суда тоже было много народу. Но на этот раз из толпы слышались не только восторженные выкрики, но и проклятия. Некоторые старушки опасливо крестились, завидев Марусю, – так крестятся, оберегаясь от нечистого духа.
Когда извозчик наконец остановился, одна из женщин пробралась почти к самой пролетке и громко прошипела: «Убийца! Гореть тебе в аду!» Но Марусю это уже совсем не трогало. Она пыталась сосредоточиться перед предстоящим выступлением.
Заседание суда проходило при закрытых дверях, но непостижимым образом все, что делалось и говорилось в зале, в тот же день к вечеру стало известно и в городе.
Речь Марии Спиридоновай, записанная адвокатом Николаем Тесленко:
«Да, я убила Луженовского и хотела бы дать некоторые объяснения.
Я – член партии социалистов-революционеров, и мой поступок объясняется теми идеями, которые исповедуют партия и я, как член ее, и теми условиями русской жизни, при которых эти идеи должны реализовываться.
Народное недовольство существующим порядком приняло решительную и грозную форму революции, т. е. вооруженных сопротивлений властям, нападений на правительственных лиц и открытых уличных столкновений с войсками. Правительство попробовало применить обычный метод удовлетворения нужд народных – пули, штыки, пушки, – но это не подошло, и тогда придуман был манифест о свободе.
Одновременно с манифестом были изобретены остроумные проявления истинно народных чувств в виде черносотенных погромов. Манифест был, конечно, плодом ловкой стратегии, удачным тактическим шагом… (Прокурор прерывает и требует прекратить, председатель разрешает продолжать)… и только…
Как только бюрократия увидела, что манифест можно взять, она его взяла и вернулась на испытанный, любезный сердцу путь репрессий. Ужасы реакции были несравнимы с предыдущими. За 2–3 месяца по смертным приговорам убито до 200 человек; беспокойная интеллигенция засажена в тюрьмы; всякие оппозиционные общества прикрыты, печать придушена; ловкая организация шпионства старается парализовать деятельность таких обществ; вооруженные восстания подавлены. Бюрократия создала условия, при которых голос народного недовольства не доходил до верховной власти, и представляла, что страна достигла максимального благополучия. В области усмирения крестьянских беспорядков деятельность бюрократии особенно блестяща и должна быть записана в ее летописях золотыми буквами. <…>
Не буду говорить об усмирении крестьян в целых губерниях или одной Тамбовской; возьму один уезд и одного в нем кровавого работника – Луженовского. Напомню несколько деревень, где он был (далее перечень сел)… Все это села – многие я не помню, – которые представляют из себя после Луженовского картину такого же опустошения, как болгарские деревни после нашествия турок. В деревне Павлодаре убито 10 чел.: Щербаков, трое Зайцевых, Островитинов, Дубровин Александр и др.
Семье Зайцевых было возможно содержать Пашу Зайцева в Екатеринославском учительском институте. Это был честный, чистый, горячий юноша. «Всю свою интеллигентность, свои знания я принесу на служение своим братьям в деревню», – говорил он. Другой его товарищ, тоже крестьянин, Островитинов, был с ним в том же селе. Они выступили отвечать Луженовскому, который на нестройный гул всех мужиков отвечал залпом.
Их замучили. Их мучили в течение четырех дней.
В деревню ехал Александр Дубровин, социал-демократ.
Социал-демократы в настоящее время непосредственно не нападают на собственность, и они не проповедуют крестьянам захвата земель и орудий сельскохозяйственного производства. Дубровин ехал, чтобы убедить крестьян не жечь усадьбы, потому что по-социал-демократически думал и говорил он (в этих усадьбах, – говорил он, – в этих усадьбах будут крестьянские школы и больницы). Он ехал к крестьянам, чтобы их озлобленное, стихийное движение урегулировать, придать ему разумность и закономерность. Его схватили, не зная, кто он и каковы его цели, и замучили его в течение четырех дней. Когда через 4 дня его родственницам, под видом случайных путешественниц, удалось проникнуть к его трупу, – они не узнали его.
Вместо статного красавца, Дубровин представлял из себя кучу лохмотьев, мяса, кистей и крови. Последний день он задыхался, просил воды – ему не давали; он подползал к открытой двери и глотал свежий воздух. С возгласом: «Куда, собака!» – казак гнал его в угол нагайкой. В селе же Павлодаре ранено до 40 человек. В деревне Березовке Карп Васильевич Клеманов, крестьянин, сошел с ума от истязаний; в с. Песках двое сошли с ума.
Кроме расстрелов, засеканий и медленного замучивания под нагайками, употреблялись еще меры усмирения: полное расхищение крестьянских пожитков, хлеба (всего), зажигание крамольного села с двух концов и насилия над женщинами. К стопам бюрократии Луженовский со своих триумфальных поездок клал победные трофеи, в виде убитых крестьян, разоренных хозяев, изнасилованных женщин и избитых детей. Забыла, надо вставить, как Луженовский, по приезде в село, распоряжался согнать сход раздеть мужиков и уходил отдыхать, пить или обедать, оставляя мужиков на коленях в грязи или снегу.
О Луженовском как об идейном родоначальнике, вдохновителе и организаторе такого позорного явления в русской жизни, как черная сотня, говорить не буду: все об этом знают и знали. Луженовский является, в глазах тамбовского комитета партии социал-революционеров и моих, как члена его, воплощением зла, произвола, насилия, типичным выразителем всех страшных черт бюрократии. Он быстро продвигался по служебной лестнице, и в недалеком будущем перед ним блистала перспектива всемогущей диктатуры в Западном крае или другом гонимом месте, где бы он разгулялся на просторе во всю ширь своей натуры. Он становился крупным столпом того здания, в котором задыхается народ. Он был народный угнетатель, и никакой меры обуздания, кроме смерти, найти на него было нельзя. <…>
Тамбовский комитет партии с.-p., как и вся партия, задачей своей деятельности ставит защиту интересов трудящихся масс, защиту их чести и счастья; партия хочет в настоящее время добиться таких политических и экономических условий, при которых народ вольным шагом шел бы к социализму, к планомерной организации всеобщего труда на всеобщую пользу, к такому строю, при котором великие слова: братство, равенство и свобода людей станут действительностью, а не мечтой. И во имя человеческого достоинства, во имя уважения к личности, во имя правды и справедливости, тамбовский комитет и я вынесли смертный приговор Луженовскому.
Из речи на суде защитника Н. Тесленко:
Гг. судьи, от вас требуют смертного приговора. Загляните же в вашу совесть глубже, пытливее, проницательнее. Загляните! Находите ли вы там ту величайшую степень негодования и возмущения против подсудимой, без которой вы не можете послать ее на казнь? От вас требуют не наказать Спиридонову, но лишить ее жизни, убить не в равном бою с вооруженным врагом, но умертвить беззащитную и беспомощную. У нас, русских, в нашем правосознании нет идеи: око за око и за смерть смерть. Смертный приговор до глубины души возмущает чувство справедливости русского народа. Чтобы широко применять смертную казнь, нужны особые условия в жизни государства, когда правительство перестало судить и управлять, но лишь беспощадно истребляет своих врагов.
Ужасное дело казней возложено на военные суды. Их заставляют выносить смертные приговоры, и только смертные приговоры. Я знаю, все сделано для того, чтобы заставить вас послать на эшафот Спиридонову. Но разве суд– заведение, в котором вслед за заказом появляется требуемое исполнение? Разве суд– машина для наложения штемпелей на обвинительные акты? Я не хочу этому верить. Суд – глубокое испытание человеческой совести, и к ней, к вашей совести, я обращаюсь. При свете ее рассмотрите содеянное подсудимой – и вы увидите не одинокую Спиридонову, убивающую Луженовского, вы увидите всю страждущую Россию. Вы увидите сотни Спиридоновых и тысячи Луженовских и тот ужас, который гнетет и давит нас. <…>
Не ищите объяснения лишь в программах и учениях партий. Могучее чувство негодования двигает рукой не одних революционеров. Во время французской революции Марат вселял ужас в сердца приверженцев старого порядка. Он погиб от руки такой же чудной и благородной девушки, имя которой служит предметом поклонения и восхищения. Каждый Марат должен найти свою Шарлотту Корде. И в этом, быть может, великий закон человеческой совести.
Итак, событие это не стоит одиноко. Оно связано с тысячей других событий. Судьбы Луженовского и Марии Спиридоновой – это судьбы русской революции. Еще в октябре тамбовский комитет партии социалистов-революционеров приговорил Луженовского к смерти. Затем манифест 17 октября, амнистия, и Луженовский также амнистирован. Но увы! 17 октября было лишь мимолетным лучезарным сиянием, озарившим на мгновение русскую жизнь. А там все пошло по-старому. Опять полилась кровь. Опять Луженовский… Но забывают, что, если льется кровь, она всегда льется с двух сторон. Мировая трагедия, поставленная теперь на сцене русской жизни, создала этот процесс. И нельзя убивать одного за грехи всего народа.
Но в этом деле есть нечто такое, что изгоняет самую мысль о карательном приговоре. Я стою перед вами в недоумении и не знаю, что я должен делать: защищать ли Спиридонову или, наоборот, требовать для нее помощи и возмездия. Я не знаю, что вы должны делать, карать или спасать ее.
Вы выслушали потрясающую повесть подсудимой о нечеловеческих мучениях, которым ее подвергали. Вы не усумнились в правдивости ни одного ее слова. Да и нельзя сомневаться. Каждую пытку, каждый удар мучители занесли в протокол, написанный на ее теле, и здесь, на суде, прочитанный врачом. Истязания длились двенадцать часов. <…>
Это даже не пытка с целью исторгнуть рассказ о сообщниках. Это нечто более утонченное. Пытка– физическая боль. Здесь же, кроме того, было бесконечное унижение, надругательство над самыми нежными и деликатными чувствами человека и чистой, непорочной девушки. Я не знаю никого, кто не содрогнулся бы от ужаса и негодования, слушая страшную повесть о страданиях Марии Спиридоновой.
Что же значит осудить теперь, после этого Спиридонову? Это значит добить ее. Когда в римском цирке падал измученный и израненный боец-гладиатор, пресыщенные зрители опускали руку вниз, и раздавался страшный крик: «Добей его!» Разве можете вы на своем приговоре написать римское pollice verso?
Русское правительство одержало много великолепных побед над своими врагами. Неужели для полного торжества ему надо еще добить этого беспомощного, безвредного и больного врага?
Перед вами не только униженная, поруганная, больная Спиридонова. Перед вами больная и поруганная Россия. Каждый день вести о смертных приговорах и казнях электрическим током проносятся по всей стране и наносят новые и новые удары по старым незажившим ранам. Казните Спиридонову, и вздрогнет вся страна от боли и ужаса. Когда-нибудь надо положить предел этому озлоблению. Надо сказать слово умиротворения. На вашу долю может выпасть счастье сказать это впервые.
Идите же в совещательную комнату и возвращайтесь оттуда с оливковой ветвью мира, а не с поднятым мечом.
ПРИГОВОР
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 1906 года марта одиннадцатого дня, временный военный суд в городе Тамбове <…> постановил:
1) Подсудимую Марию Александровну Спиридонову, по лишении всех ее прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение
2) Вещественные доказательства: экземпляр воззвания хранить при деле, а все прочие, как не имеющие рыночной ценности, уничтожить
3) Судебные издержки взыскать из имущества осужденной, а при несостоятельности ее принять таковые на счет казны
4) Приговор сей, по вступлении в законную силу, но до обращения к исполнению, представить, на основании ст. 19 правил о положении усиленной охраны, на утверждение Командующего Войсками Московского Военного Округа.
В конце марта временный военный суд города Тамбова вынес особое постановление, в котором ходатайствовал о смягчении приговора Спиридоновой: в связи с неизлечимой болезнью – туберкулезом легких – заменить смертную казнь бессрочной каторгой.
Министру Внутренних Дел
Представляю настоящее дело согласно отношения Главного Военно-Судного Управления от 3 сего Марта за № 298 на благовоззрение Его Высокопревосходительства, не признаю ходатайство временного военного суда в гор. Тамбове в особом постановлении о смягчении приговора по недостаточности веских к тому причин, заслуживающих внимания, с своей стороны намерен утвердить приговор без смягчения участи подсудимой Спиридоновой. Прошу не отказать о последующем уведомлении.
Приложение. Дело в особом пакете и переписка на трех листах.
Командующий войсками
Московского военного округа
генерал-лейтенант С. Гершельман.
ТЕЛЕГРАММА
Москва, Командующему войсками
По делу Спиридоновой думаю правильнее уважить ходатайство военного Суда.
Министр Внутренних Дел П. Дурново Зашифрована и отправлена 20 Марта 1906 г.
Письмо М. Спиридоновой товарищам по партии:
Моя смерть представлялась мне настолько общественно ценною, и я ее так ждала, что отмена приговора и замена его вечной каторгой подействовала на меня очень плохо: мне нехорошо…
Скажу более – мне тяжко!
Я так ненавижу самодержавие, что не хочу от него никаких милостей…
М. С.
Прощальное письмо М. Спиридоновой:
Итак, мнение моих товарищей: я должна теперь забыть и Жданова, и Аврамова, и в будущем быть терпеливее при неизбежных в положении каторжанки оскорблений.
Вы хотели бы дать мне больше сил и бодрости, чтобы я могла снести все испытания.
Не надо больше!
Я могу снести очень многое; я могу выдержать новые пытки, я не боюсь никаких мучений и лишений. Я скажу только: «Пусть!.. Мы все-таки победили!» И эта мысль будет делать меня неуязвимой.
Пусть меня бьют, пусть заставляют терпеть голод и холод и непосильную работу, – ничего.
Только одно не смогу снести – удар по лицу. Если он будет, боюсь, что меня в тот же день не станет. Вы это помните… и простите!
Я уверена, вы простите и поймете меня, когда меня не станет в живых после подлого насилия.
Во всех других случаях все ужасы мертвящей скуки, унижений и лишений найдут во мне только презрение.
Не бойтесь за меня!
Разве вы не знаете, что я из породы тех, кто смеется на кресте.
Смеялась же я, теряя сознание под прикладами, смеялась, радостно слушая смертный приговор, – буду смеяться и в каторге.
Ведь выносить муку придется за идею, а идея так прекрасна, так велика, что перед нею меркнут все личные ощущения. Прощайте или до свидания, родные, друзья мои.
Буду весела, бодра, счастлива, буду держать голову высоко до тех пор, пока ее не покроют волны, как говорит Тургенев.
Будущее не страшит меня: оно для меня неважно, – важнее торжество идеи.
Маруся








