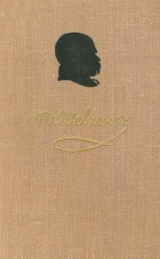
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Повести {9}
Наймичка [3] {10}
Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая {11}транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом. Откуда она взяла такое название, – это покрыто туманом неизвестности; чумаки же рассказывают вот какую былицу.
Жил в городе Крюкове (что за Днепром, против Кременчуга), – так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумак Роман. Каждое божие лето отправлял он две валки, по крайней мере возов в двадцать каждая: одну на Дон за рыбою, а другую в Крым за солью. К первой пречистой чумаки, его наймиты, возвращалися в город Крюков. Часть добра сваливалась в его коморах, а с другою половиною добра он уже сам отправлялся в город Ромны со своею валкою, а шел он вот какою дорогою: сначала на Хорол, так что ему Золотоноша оставалася вправо, а Веселый Подол влево, потом из Хорола на Миргород, из Миргорода на Лохвицу, а из Лохвицы уже в Ромны. Так посудите сами, какой он круг всегда давал! И для почтаря это чего-нибудь да стоит, а про чумака и говорить нечего. Вот он однажды, продавши на роздриб и часткугуртом свое добро в городе Ромнах, думал было возвращаться домой, да приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит уже за городом Ромнами, под вербами, на Лохвицкой и Зиньковской дороге и на Ромодановом шляху.
А тут уже под вербами, около корчмы, стояло десяток-другой чумацких возов распряженных, а кой-где под возами сидят себе люди добрые да горилку кружают. Вот он остановился со своею худобою, снял шапку, помолился богу и, обратившись к чумакам, сказал:
– Благословите, Панове молодцы, волы попасать!
Чумаки ему отвечали так:
– Боже благословы, велыке поле! – и принялися за свое дело.
А он, оставя волы в ярмах, пошел в корчму, говоря:
– Я только чвертку выпью.
Заходит в корчму, а там шинкарочка, точно на картине намалевана, будто шляхтянка какая. Чумак Роман был уже хотя и не молодой чумак, одначе в нем сердце заиграло, глядя на такую кралю. Краля это смекнула да, усмехнувшися, и спрашивает его:
– А чего вам хорошего надобится, господа чумаче?
Она-таки умела и по-московски слово закинуть.
– А вот чего мне надо, моя добродейко: кварту горилки, да две кварты меду, да сама сядь коло мене.
– Добре, – сказала шинкарка и, наливши ему кварту водки, пошла в лёхс поставцем и принесла меду.
Сидит чумак Роман в конце стола, закуривши свою чумацкую люльку, а около него сидит молодая шинкарочка да смотрит на его седые усы своими голубиными глазками. Пьет чумак Роман, кружает он серебряною чарою горилку горькую, а шинкарочка молодая золотым кубком мед сладкий. Долго они вдвоем себе сидели, пили, разные песни пели. На дворе уже стемнело, а они сидят себе, пьют и поют. Уже и темная ночь на дворе, уже бы чумаку и в дорогу пора, а он сидит себе да пьет. Уже и полночь на дворе, а он все-таки сидит и пьет, а шинкарочка, знай, наливает. А волы, бедные, в ярмах стоят. Вот уже и Чепига, и Волосожар {12}за гору спряталися, и зарница взошла. Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы, лег в воз, накрылся свитою и едва проговорил: « Соб, мои половые!» – волы двинулися, взяли соби пошли частым полем, а не Лохвицкою дорогою. Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только он проснулся уже в городе Кременчуге. По его следу поехали другие чумаки и пробили широкую дорогу и назвали ее Романовым шляхом. А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают.
Таково слово в слово сказание народа о Ромодановской дороге. Не улыбайтеся добродушно, мой благосклонный читатель, я и сам плохо верю этому сказанию, но, по долгу списателя, должен был упомянуть о сем досужем вымысле народа.
Ближе к истине полагать можно вот что о происхождении Ромодановского шляху. Не был ли его пролагателем князь Григорий Ромодановский, который в 1686 году водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию неукротимого гетмана Петра Дорошенка {13}? Я думаю, это будет правдоподобнее. Но кто бы ни проложил эту дорогу, нам, правду сказать, до этого дела нету. А заговорили мы о ней потому, что описываемое мною происшествие совершается по сторонам ее.
Но чтобы вы полное имели понятие о Ромодановской дороге, то я прибавлю вот что.
Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромен и до Кременчуга, не касается она, на расстоянии трехсот верст, ни одного города, ни местечка, ни села, ни даже хутора. Лежит себе чистым, ровным, злачным полем. Только кой-где стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодезями, построенными собственно для русских извозчиков, – наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. А по сторонам ее часто встречаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие пыреем. Нередко виднеются и курганы, совершенно круглые, сажен пятьдесят в диаметре, – есть и больше и меньше, – всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насыпи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя, – это валы разной величины и в разных направлениях. Думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной Петром Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели, но результаты оказались совсем не удовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были пробованы каким-нибудь любителем селитры – Ходаковским {14}в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антикварии.
Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои названия {15}, как то: Няньки, Мордачевы, Королевыи так далее. Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когда-то шлялся со своими синекафтанными шведами.
Я, одначе, во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: разносился со своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле не сказал еще ни слова.
Недалеко от Ромодановского шляху, по правую сторону (едучи из Ромен), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенями; вдоль широкой долины извилисто вьется белой блестящей полосою Сула. По берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы и бересты. Вдоль берега Сулы растянулося большое село, закрытое темными зелеными садами; только кое-где из густой зелени прорезывается белое пятнышко, – это белая хата с соломенною крышею. Таков вид всех почти сел в Малороссии, с большим или меньшим количеством ветряных мельниц. И как приветливо они машут своими крылами утомленному путнику, предлагая гостеприимный отдых в своих зеленых, благоухающих садах.
Солнце близилося к горизонту и золотило своим желтобагровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрылася прозрачным светлофиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане.
Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтопурпуровому мату извилистой Сулы кой-где тянутся за рыбачьим челноком светлые блестящие струйки, тянутся и пропадают в темнозеленом очерете. Вербы и вязы еще ниже склонилися к воде, как бы оплакивая умирающий день. В такую-то вечернюю пору возвращалися в село с поля молодые прекрасные жницы {16}. И как в этот день жнива были окончены, то они, каждая для себя и для освящения в церкви, сплели венок из колосьев пшеницы, жита и васильков и, увенчавшиеся венком, возвращалися с песнями ввечеру в село, выбрав сначала из среды себя царицу, чтоб было кому песни припевать.
Впереди всех их, тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был серп и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою, – настоящая Церера. За нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девушками шли молодые косари с косами (они косили отаву на Суле) и скромно вторили им.
И вся эта картина была освещена заходящим раскаленным солнцем.
Прекрасная, умилительная картина!
А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее повнимательнее, и вы увидите на ее светлом розовом фоне такие пятна, что невольно отворотитесь, и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь и закроете уши.
Живуча и деятельна натура человека!
С утра до вечера на солнце, без малейшей тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница, и что же, – настал вечер, идет домой, поет, а дома, не успела повечерять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умолкая, до рассвета; с рассветом опять за серп и на ниву, и снова целый день на солнце, согнувшися целый день, как ни в чем не бывало.
О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству.
Группы косарей и жниц со своею прекрасною царицей, отраженные в светлых струях Сулы, медленно приближалися к селу. Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием озимых жнив.
Мать же своей прекрасной царицы со слезами благодарила девушек за оказанную честь ее дочери и просила всех до своей хаты на вечерю.
Девушки, войдя в село, значительно переглянулись между собою, а молодые косари нахмурили свои черные брови. Что бы это значило?
А вот что! И те и другие заметили около некоторых ворот вихи.
Какое же им дело до вих? – вы скажете. – О, им великое дело до этих зловещих маяков.
Когда вы въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе не пехота, а кавалерия квартирует. Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек – число лошадей на конюшне. В описываемое мною село пришли еще только квартирьеры, назначили квартиры и расставили вихи для конюшен.
Вздрогнуло сердце не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих. Не один из них припомнил страшные, трагические рассказы про бесталанных покрыток. А жницы! О мои родные жницы! Никакие кровавые драмы вас не научат! Новина – ваш проклятый идол, новина, перед которым вы кладете все, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталанную!
С поклоном и честию встретил жниц седоусый Влас, отец прекрасной Лукии, и просил их милостиво зайти к нему в оселюи повечерять, что бог дал.
Жницы с песнями вошли на двор, а на дворе уже на зеленом спорышебыла разостлана большая белая скатерть. Девушки, по приглашению хозяина и хозяйки, сели вокруг скатерти. А царица свята, снявши золотой тяжелый венок свой и завернув вкруг головы кое-как свою роскошную черную косу и засучив широкие рукава своей рубахи, приняла от матери графин с водкою и начала потчевать своих подруг.
В продолжение ужина отец и мать Лукии сидели на призьбеи любовалися своей единственной прекрасной дочерью. Через край полною счастия жизнию их сердце билося, глядя на свою Лукию.
А она, как приветливая хозяйка и услужливая работница, угощала подруг своих со всею прелестию наивной простоты.
После вечери девушки, помолясь богу и поблагодарив хозяина и хозяйку и свою молодую подругу за вечерю и взявши венки, чинно вышли на улицу. А на улице под частоколом и под вербами дожидали их их чернобровые косари.
– Иды и ты, моя доненько, на улыцю, поспивай з дивчатами.
– Не хочется мени, моя мамо!
– Чому ж тоби не хочется, мое серденько? Може ты утомылася, то ляж, засны.
– Я ляжу спать, мамо.
– Пострывай же, я тоби постелю постелю.
И мать постлала постель своей утомленной дочери и, перекрестя, уложила ее спать.
Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастием, немного повертевшись на постели, заснула.
А усталые подруги ее всю ночь простояли со своими чернобровыми косарями под вербами и под калинами, припевая:
Вийди, Грицю, на улицю
I ти, Коваленку,
Постошо пщ вербою
Вкупочщ тихенько.
Если бы на завтрашний день не вступили уланы в село, то вся бы эта история могла и кончиться одной идиллией, а уланы, только что вступили, – сейчас завязали драму. Вследствие чего и прошу моих слушателей пропустить мимо ушей по крайней мере год и обратить снисходительное внимание на картину следующего содержания.
Верстах в пяти, а может быть и больше, по левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), как раз против описанного мною села, лежит пологая широкая равнина, такая широкая и длинная, что горизонт ее в тумане теряется, а в летние жаркие и тихие дни то бывают и миражи, как будто бы в необитаемых, бесплодных и безводных степях киргизских. Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и уставлена темными могилами, формою и величиною похожими на те могилы, что между Киевом и Васильковым, на Белокняжем поле {17}. Я это говорю потому, что из Киева в Одессу более проехало людей, интересующихся отечественными древностями, нежели из Ромен в Кременчуг. Ромодановским шляхом, как известно, ходят только одни чумаки, а чумак простой человек, какое ему дело до каких бы то ни было могил? Он может только задать себе вопрос: «Чиим то трупом вас начинено?» – или, задумчиво глядя на темные могилы, запоет однозвучно, монотонно.
Так вот на этой-то равнине, между угрюмыми могилами и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы оазис в пустыне аравийской, – красно сказано! Это хутор богатого казака Якима Гирла.
Подойдем же мы ближе к хутору и посмотрим на красоту его безыскусственную и на жизнь его хозяина. Для нас это путешествие тем более необходимо, что на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма.
Весь хутор с фруктовым садом и гаем занимает не более пяти квадратных верст и окопан глубоким и широким рвом, а ров усажен вокруг всего хутора крыжовником. Ворота не дощатые, как это бывает у постоялых русских дворов, а обыкновенные, простые, по сторонам их дубовые массивные столбы и по несколько частоколин да у глухого конца ворот старая, широковетвистая верба, как бы заслоняющая от недоброго глаза благодатный хутор. Войдя на двор хутора, вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба; по левую сторону ворот – загороды с сараями для разной скотины, а за клунею невдалеке, под старыми берестами, – две дубовые коморы и возивня; напротив комор лёх с железными дверями, а в самом конце двора, под липами, белеет хата, снопками крытая на польский лад. За хатою идет уже сад с разными породами яблонь, груш, слив, вишен, черешен и даже три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыма еще дедом Якима Гирла; посередине сада колодезь с колесом и навесом {18}. А за садом, в гаю, на небольшой поляне, пасека – с куренем и погребом для пчел. А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево до самого рва. А за рвом уже был небольшой ставочек и около него огород, окруженный небольшим рвом и усаженный кукурузою и подсолнечником, а баштан был немного подальше, в поле.
Так такой-то благодатный хутор у старого казака Якима Гирла. А каким добром наполнены его дубовые коморы и лёх, и рассказать нельзя.
А чумаки его, где они на свете не ходят! И в Крыму, и на Дону, и в Одессе, а про Киев и говорить нечего.
Раз было взялся он поставить песок сахарный в самую Москву, только Москва шутить не любит с нашим братом хохлом, так что он едва с парой волов домой пришел. И с тех пор, если ему ненароком кто скажет слово про Москву, то просто из хаты выгонит, а если в гостях услышит такое слово, то наденет шапку и, не прощаясь с хозяином, уедет на свой хутор. Яким Гирло, как видно, был человек не так себе, не всякому давал себе ступить на пяты.
Это было в августе месяце, в воскресенье, так около полудня. Яким Гирло вышел из хаты и сел на призьбе; он был человек уже немолодой, но свежий и здоровый, усы и чуб были не то что седые, а серые. Рубаха на нем чистая, белая, шаровары тоже белые, – он не любил разных московских китаек и носил все белое; сапоги на нем добрые, юхтовые. Взглянувши на него раз, то можно было сказать, что это человек достаточный: в лице что-то есть такое.
Вскоре за ним вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая, в желтых юхтовых сапогах, в плахте и шелковой красной юпке, – хоть бы и на старухе, так было бы к лицу.
Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую килымком, поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и тарелку со сметаной, и все это поставила на временном столе перед мужем и сама села около него.
– Нумо полудновать, Якиме! – сказала она мужу. Яким, перекрестясь, сказал:
– А полудновать, так и полудновать; Господи благослови! – И с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.
После вареников Марта вынесла миску слив и желтую душистую дыню; покушали и слив и дыни немного. После полдника Марта убрала все и села опять на призьбе около своего мужа. Долго они сидели молча, наконец, Марта заговорила:
– Что-то долго не видать чумаков наших с рыбою.
– Да, что-то долго не видать.
И Яким замолчал. Ему как бы не хотелося продолжать разговоры. Впрочем, он вообще был неговорлив. Немного погодя Марта опять заговорила:
– Я все думаю, Якиме, кому-то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам с тобою господь ни дочери, ни сына. Так и помремо одиноки!
– Так что ж, что помремо? Люди добрые похоронят, а добро поживут!
– Конечно, поживут, никуды оно не денется, а все-таки лучше, если б было свое родное дитя.
– Так где же его взять, коли господь прогневался на нас за грехи наши.
– Да, прогневали мы милосердного господа, не утешил он ледачую старость нашу! Так и гробовой доской покроемся, и некому будет от души заплакать, и некому будет помянуть наши души грешные! Знаешь что, Якиме! Поеду я завтра в Бурты да отвезу отцу Нилу на сорокоуст и за твою и за свою душу. Пускай отслужит, когда помремо.
– Ты заговоришь всегда такое, что просто не слушал бы тебя. Ну, скажи-таки, умная ты голово, кто, живой человек, по своей душе сорокоусты правит?
– Нету, Якиме! Не по живой душе, а по усопшей. А это я думаю сделать для того, чтобы после не остаться без поминовения.
– Бог милостивый, не останемся, а я вот что думою: что-то наша челядь из села долго не возвращается.
– Цыть, цыть, Якиме! Чуешь!.. О, ще раз!
– Что там ще раз?..
– Чуешь!.. Дытына плаче…
– Так и есть, за воротами…
– Пойдем, посмотримо, Якиме.
– Ходимо.
И не по летам бодро встали с призьбы и пошли к воротам.
Кто же расскажет радость старой Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой серой свиткой, и головка прикрыта зеленым широким лопухом.
– Якиме! – только могла проговорить старая Марта, всплеснув руками.
А старый Яким, снявши брыль, молился богу.
– Якиме! – сказала Марта, взявши ребенка на руки. – Посмотри, какое здоровое да хорошее!
Яким взял ребенка на руки и сказал:
– Пойдем в хату, – оно, бедное, голодное.
И они пошли в хату со своею дорогою ношею.
Пришедши в хату, Яким бережно положил младенца на стол, достал с полки псалтырь (он был грамотный) и, перекрестясь трижды, прочитал псалом Живый в помощи вышнего. Потом взял младенца в руки и, передавая его Марте, сказал:
– Паче ока береги его!
Марта, перекрестясь, приняла его и положила на подушку.
– Посмотри за ним, Якиме, пока я молока принесу.
Принесши молока, Марта принялась кормить младенца, а Яким вышел на двор, нашел в сарае ночвы и стал прилаживать к ним веревки. Через полчаса принес он в хату, к немалому удивлению Марты, готовую колыску. Остаток дня прошел для них незаметно. К вечеру, когда ребенок заснул в своей скороспелке-колыске, Марта, позабыв, что было воскресенье, достала тонкого полотна из бодни и принялася кроить маленькие рубашки.
Возвратившаяся из села челядь рассказывала, что она видела на могиле какую-то молодицу. Сначала она пела какую-то песню, а [потом] заплакала, а когда мы перекрестилися, то она исчезла; должно быть, нечистая сила и в могилу провалилася, – так закончила свой рассказ Мартоха, девка не робкого десятка.
На другой день, до восхода солнца, Яким заложил в бричку пару добрых коней, помостил в бричке сена, покрыл его килымом. сел в бричку и поехал в село Бурты за отцом Нилом.
Проезжая мимо могилы, он увидел в утреннем тумане на могиле женщину. Она была лицом обращена к его хутору. Он посмотрел на нее, остановил коней и громко сказал:
– День добрый, молодыце!
– Спасыби, – отвечала женщина.
– Что ты тут делаешь, молодыце?
– Вчера корову загубыла, так смотрю сегодня, не пасется ли где.
– Ну, добре, оставайся здорова!
– Спасыби.
Яким дернул вожжами, и добрые кони понесли его шляшком через поле.
К обеду Яким возвратился на хутор с отцом Нилом и с отцом диаконом. Отдохнувши немного под хатою и освежившись закрепленным березовым соком, отец Нил вошел в хату, сначала прочитал младенцу молитву и нарек его Марком. Потом с отцом диаконом совершил обряд святого крещения. Восприемниками были Яким и счастливая Марта.
До самой субботы гостил отец Нил и диакон у Якима на хуторе, да и не они одни, а много-таки добрых людей набралося на Марковы крестины.
Прошел месяц после крестин Марочка (так называла его Марта), и на хуторе Якима Гирла ничего особенного не случилось, разве только что вскоре после крестин чумаки пришли из Дону; но это происшествие весьма обыкновенное, хотя, правду сказать, наблюдательный ум и в этом обыкновенном случае наберет много пищи, как на ничтожном цветке трудолюбивая пчела. Особенно в первые дни послушать досужего чумака, как он примется рассказывать за чаркою горилки, какие он бесконечные степи проходил, из каких бездонных криныць волов поил, по сколько суток сам без воды и хлеба пропадал, какие города видел, какие на какой реке переправы имел, какие где народы видел, – просто волосы дыбом станут, когда послушаешь.
Но у Якима Гирла не было такого досужего чумака, следовательно, не было и повествования о мудреных чумацких приключениях.
Сентябрь месяц проходил и, проходя через хутор, красил своим дуновением зеленый гай разными золотыми и красными красками. Так издали ежели посмотреть на гай, то кажется, как будто он покрыт дорогим разноцветным ковром, особенно при закате или при восходе солнца.
На могиле близ хутора почти каждое утро и вечер челядь видела таинственную молодицу, и начали поговаривать, что это что-нибудь не просто. А оно было очень просто, – бедная эта молодица была не кто иной, как простая покрытка и мать маленького Марочка. Она, сердечная, не могла оторваться от того места, где вырастало ее бедное, ее прекрасное дитя. Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, обходила кругом его, проводила ночи бессонные во рву или по воскресеньям, когда челядь уходила в село, она невидимкою подкрадывалася к самым воротам, чтобы услышать хотя один звук своего милого дитяти. Сколько раз она покушалася взойти на двор и выпросить назад или, наконец, украсть свое дитя, потому что ей без него не можно было жить на свете, и без него хлеб не елся, вода не пилася, солнце божие не светило и не грело.
После измены своего улана-обольстителя вся любовь ее, все нежнейшие чувства уничиженной матери были сосредоточены на нем одном, на своем сироте-дитяти. А оно, бедное, в чужих людях, на чужих руках засыпает, чужой грудью питается, без любви, без сердечного материнского поцелуя. Любовь матери превозмогла и страх и стыд; она решилася во что бы то ни стало войти на хутор, решилась и дожидала только воскресенья, когда людей меньше будет на хуторе.
В воскресенье, пообедавши и, разумеется, отдохнувши, Яким Гирло сидел за столом в своей светлице и читал из псалтыря Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие, – а Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла над ним долго, задумавшись, и, вздохнувши, сказала:
– А что я думаю, Якиме?
– А бог тебя знает, что ты там думаешь?
– Я думаю, прости меня господи, что если наш Марочко, боже нас сохрани, умрет, что мы тогда делать будем.
– Я так и думал! Ну не грех ли тебе такое все скверное в голову забирать!
– Нету, Якиме, когда я на него смотрю сонного, то мне всегда такое в голову лезет.
– Молися богу, Марто, бог милосердный не попустит такого великого несчастия.
– Еще я думаю, Якиме, коли, даст бог, доживем до покровы, то поедем в церковь, запричастим нашего Марочка, ему тогда будет как раз шесть недель.
– Поедем, это дело христианское.
– А там, я думаю, заодно уже расспросить, не найдется ли хорошая наймичка, потому что теперь, сам видишь, нам одной наймички мало.
– Что ж! Что нужно, я от того не прочь.
– Да если б бог дал, чтобы и хозяйство-таки знала, тогда я бы себе нянчилася с Марочком, а она бы по хозяйству поралась.
Марта, вздохнувши, замолчала. А Яким, перекрестясь, начал снова Не ревнуй лукавнующим.
Через несколько минут дверь осторожно отворилася, и в хату вошла бедно, но опрятно одетая молодая женшина. Она робко остановилася на пороге и, поклонясь, едва проговорила:
– Боже помогай!
– Спасыби, небого! – сказал Яким. – Садиться просимо!
Она молча села на лаву у порога и молча пристально [глядела] на колыску и на Марту. Много было нужно ей душевной силы перенести эту минуту и не показать виду, что она самое близкое существо спящему Марочку.
– Что же ты нам скажешь хорошее, небого? – спросил ее Яким.
– Я зайшла у вас спросить, не нужно ли вам будет наймички?
– Нужно, голубочко, и страх нужно. У нас теперь, дал бог, малая дытына, так я все с нею нянчуся, а хозяйство совсем заброшено.
– Так я бы у вас найнялася.
– Наймись, наймись, голубочко, у нас тебе худа не будет.
– А издалека ли ты, небого?
– Из-под Ромен, дядюшка.
– Добре! А что же ты возьмешь платы за год?
– А что вы платите другим, то и мне дайте!
– Добре! Мы платимо Мартоси пятнадцать на ассигнации, новую белую свиту и шкапови чоботы.
– Добре, и я так наймуся.
– Добре! Дай вже нам, Марто, чого-нибудь пополудновать.
Марта, уходя, сказала Якиму:
– Посмотри на Марочка. Ежели оно проснется, то поколыши его.
Яким передвинулся на другой конец стола, поближе к колыбели.
Марта прибавила из-за дверей:
– Та не бери его на свои железные руки. Я сама сейчас вернуся.
– Разносилась со своими панскими руками, – проворчал Яким и ласково прибавил:
– Садись, небого, на ослон, поближе к столу.
– Спасыби вам! – и наймичка подошла к столу и посмотрела на колыбель, переменилася в лице, и две крупные слезы скатилися с ее исхудалых щек. Яким заметил это и спросил:
– Что, небого, може, и у тебя дытына е?
– Было, да господь себе взял.
– Так, так. Значить ты, небого, вдова?
– Ни, московка… {19} – проговорила сквозь слезы наймичка.
– Так, так… а как тебе зовуть, небого?
– Лукия…
В это время проснулся ребенок и заплакал. Старый Яким принялся колыхать, припевая:
Е…е, люлi
Чужим дiтям дулi,
А нашому калачi,
Щоб спало вдень i вночi.
Бедная Лукия! Потому что это была она, та самая счастливая прекрасная царица непорочного сельского праздника. Бедная! Чем отдалися в твоем сердце звуки твоего милого единого дитяти? Бедная! Ты сама чуть не зарыдала и не запела вместе с Якимом. Но ты силою любви твоей удержала порыв восторга и только тихими слезами утишила его.
Марта возвратилася с полдником, поставила его кое-как на столе и бросилась к колыбели.
– Цыть, цыть, мое серденько! Ну тебя со своим волчьим голосом, только моего Марочка перепугал. Цыть, моя пташечко! Я тоби мозючок дам! – И она сунула ребенку рожок с теплым молоком и обратилася к Якиму:
– Чому же ты не просишь полудновать? А коли хочешь яблок или дуль, то сам сходи в лёх; та заодно наточи и грушевого квасу, а я от дытыны не отойду, поки воно не засне, сердешнее! Ишь, как напугал, и до сих пор еще слезки у бедного на щечках. Годуйся, годуйся, мое серденько!
Яким, помолясь богу, сел за стол, пригласил и Лукию с собою садиться. После нескольких вареников он заговорил, как бы сам с собою:
– Видишь, какая на свете правда! Отдать бедного одинокого человека в москали, а жену, сироту убогую, пустить по миру! Нехорошо меж людьми делается! Добро, что она еще богобоязненная, ищет себе кусок хлеба трудами честными. А другая бы на ее месте и при ее красоте и молодости пропала! С душою и телом пропала навеки.
– Разве Лукия московка? – спросила Марта, вслушавшись в слова Якима.
– Московка, – ответил Яким, не подымая головы.
– Бесталанная! А может, муж твой, Лукие, пьяныця, ледащо було?
– Ледащо! – ответила Лукия.
Яким поднял голову, посмотрел на Лукию и сказал:
– Так туда ж ему и дорога.
– И я так думаю, Лукие! – сказала Марта. – Боже сохрани и заступи, пресвятая дево, нашу бедную сестру от лихого да ледачого мужа! Мы вот с Якимом, благодаря бога, часточку прожили-таки на свити, правда… ну, да смолоду чего иногда не случается…
– Ну, завела теперь свои гусла… – сказал Яким полушутя, полусурово. – Да вашу сестру если б не попомять хорошенько, то и добра не видать.
– Ну, да вы хороши, негде правды спрятать… Отак всегда заговорюся с ним и не вижу, что мой Марочко давно заснул.
Она бережно закрыла его чистою простынкою и присела, перекрестясь, к столу около Лукии, сказавши:
– Годуйся, Лукие! ты не смотри на него! Он у меня всегда что-нибудь ворчит. Такой уж зародился ничкеменный.
И она взглянула, ласково усмехаясь, на мужа. Яким и виду не показал, что заметил ее улыбку, только погладил усы рукой.
Полдник кончился, все встали из-за стола, помолились богу, и Марта, собирая со стола посуду, сказала Лукии:
– Ты бы, Лукие, пошла в другую хату та отдохнула с дороги, теперь там никого нету, все ушли в село на музыки.
– Спасыби вам! Я не очень устала, – а ей, бедной, весьма нужен был покой или по крайней мере уединение.
– Ну, где же-таки не устала, ведь, шутка сказать, от Липового до нас будет, я думаю, верст сорок, как ты думаешь, Якиме?
– Сорок будет, – ответил Яким.
– Я в Ромне переночувала.
– Ну, та хоть и переночувала, а спочить тебе все-таки не пошкодыть, – сказала Марта, как бы инстинктом угадывая душевную усталость Лукии.
– То я пойду и одпочину немного, – сказала Лукия, отступая к порогу.
– Постой же, я тоби покажу хату, – сказала Марта и вышла в темные сени. Потом отворила противоположную дверь светлицы и ввела Лукию в просторную чистую хату.
– Ляж отут на полуили на лави та отдохни немного, Лукие!
– Спасыби вам! – сказала Лукия. Марта вышла из хаты, притворивши за собою двери.
Лукия, оставшися одна, кругом оглянулася, как бы уверяясь, что она одна в хате. Упала на лаву, закрыла лицо руками, тихо и горько зарыдала. Она плакала не от горя и неведения, ее прежде пожиравшего, но от полноты душевной радости. Она уверилась, что дитя ее здорово и что люди, принявшие его, – люди добрые.








