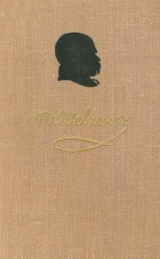
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
– Ничего, ничего, – говорил Антон Адамович улыбаясь. – А не лучше ли будет, если мы пойдем да с борщом покуртизаним? Как вы думаете, Марьяна Акимовна?
– И в самом деле, лучше. Прошу покорно, господа, – сказала она, обращаясь к нам, и мы пошли обедать.
Многие ли из вас, господа, имеющие хоть одну крепостную душу, посадят рядом с собою крепостного человека, хоть бы этот человек был величайший гений в мире? Ручаюсь, что ни одного не найдется, кроме истинно благородного Антона Адамовича.
Тарас Федорович сидел между шалуньями Лизой и Наташей, и они ему, бедному, покоя не давали во время обеда. Чудное, благородное равенство! Вот бы как надо людям жить между собою. Да что же ты будешь делать? Нельзя. Между прочим, я услышал несколько французских фраз, произнесенных Тарасом Федоровичем с гувернанткою. Этим окончательно полонил меня мой милый виртуоз.
После обеда мы, то есть мужчины, отправилися к Антону Адамовичу в хату покурить. Но так как я человек некурящий и виртуоз мой оказался таким же, то мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли на небольшую лощину, на которой стоял небольшой стог свежего сена. Не устоял я против такого могучего соблазна. Снявши галстук и сюртук, прилег, опустился на ароматное сено, и за мною, разумеется, и товарищ мой тоже. А чтобы дрема не одолела, я повел издали речь о двух девочках, живших, так сказать, на хлебах у почтеннейшего Антона Адамовича.
– Какие милые, прекрасные дети! – сказал я.
– И, прибавьте, счастливые дети. Я не знаю, что бы из них было, – продолжал он, – если б не существовало около нашего роскошного села этой фермы и этих добрых, благородных людей!
– Да, в самом деле, расскажите мне, что это за оригинальная мать, которая воспитывает своих детей таким образом. Мне кажется, что в этом возрасте детям никто не может заменить матери.
– Марьяна Акимовна им совершенно ее заменила. Вот что: Софья Самойловна, мать их по названию, великосветская дама, а главное – красавица, красавица, которая конфузится, когда ее кто спрашивает о здоровье ее детей. Для нее это все равно, что сказать: «как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в високосный и четыре) должна отдать визиты своим гостям. А гостей, вы сами видели, сколько наехало. А семнадцатого сентября так вдвое столько наедет, несмотря ни на какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница. Пока отдаст визиты, смотрит – другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выберется время, надо и в Петербург съездить, а то, говорит, между этими хохлами совсем очерствеешь. Так, сами посудите, до детей ли ей при такой жизни? И, по-моему, она лучше ничего выдумать не могла, как отдать их на руки Марьяне Акимовне.
– Я с вами согласен, что она умно сделала, но хорошо ли, это другой вопрос.
– Конечно, здесь сердце матери спрятано под себялюбием светской красавицы. Я слышал, однакож, она недавно как-то о них вспоминала. Года через два она хочет их отправить в Смольный институт {132}: в полтавском, говорит, они хохлачками сделаются.
– И то правда. Как же она не побоялась их отдать Марьяне Акимовне? Или она думала оградить их француженкою-гувернанткою да немкою-горничною?
– Какое! немецкая горничная сама скоро сделается хохлачкою, а про гувернантку и говорить нечего. Послушайте, что я вам расскажу. Адольфине Францевне вздумалося учиться говорить по-русски. Вот Марьяна Акимовна и ну ее учить, да вместо того чтобы по-русски, – выучила ее по-малороссийски: Софья Самой-ловна чуть было не поссорилась из-за этого с Марьяной Акимовной. И знаете, что еще: она прекрасно поет некоторые наши песни. Будем ее просить, чтобы она нам хоть одну спела.
– Непременно.
– Вон они! вон они! – услышали мы невдалеке детские голоса, и едва успели мы надеть сюртуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа и, ухватившись за полы сюртука Тараса Федоровича, потащили в сад, приговаривая:
– Пойдемте! пойдемте! Вас мама просит играть.
Пройдя несколько шагов вслед за «арестантом», я увидел прислонившуюся к дереву Адольфину Францевну и, подойдя к ней, сказал ей какую-то любезность по-малороссийски, на что она, сделавши милую гримасу, очень незастенчиво отвечала мне: «Спасыби». Мы пошли вслед за детьми, разговаривая, как короткие знакомые. Между прочим, в доказательство своего знания в малороссийском языке [она] прочитала мне два стиха:
Кятерино, серце мое,
Лишенько з тобою. {133}
И с таким милым выражением прочитала она эти стихи, что, не знай я, что она француженка, то я, не запинаясь, сказал бы, что она моя истинная землячка.
Любезничая с m-lle Адольфиной по-хохлацки на французский лад, мы немного отстали от детей и арестованного артиста, и когда подошли к дому, то наш артист уже на крылечке играл на скрипке плясовую малороссийскую песню, а Лиза и Наташа перед крылечком с поднятыми ручонками, как бы прищелкивая, танцевали, приговаривая:
Гоп-чук, гречаники,
Гоп-чук, печени.
Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Антоновна брала поочередно детей на руки и целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.
Одни простодушные счастливцы могут группировать из себя подобную картину.
В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом, и вместо завалинок стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою – старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка эта была мастерская, или рабочая, Марьяны Акимовны. Здесь сушилися фрукты, варилися варенья и созидалися разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.
В эту хатку на все лето выносилося фортепиано, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталася в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.
Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал – и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодел.
В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.
После чаю в хатке зажгли свечи. М-llе Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепиано, а Тарас Федорович вооружился виолончелью, и, после нескольких аккордов, тихо, стройно, как будто с неба, раздалася одна из божественных сонат божественного Бетховена {134}.
Мы все осталися под липою и, в продолжение сонаты, сидели, притая дыхание. Даже резвые дети – и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, посматривали друг на друга.
За сонатой Бетховена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема» {135}и, в заключение, совершенно неожиданно:
Ходить гарбуз по городу…
Дети запрыгали около Марьяны Акимовны, а Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.
Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.
Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.
Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы и она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединились к ним, – решительно ничего не помогло.
– Завтра, – говорит, – я вам сыграю, а то сегодня – это значит после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. Вон, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает.
И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.
Я совершенно, был очарован и декорацией и этими добрыми, простыми людьми.
Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, – он меня просто приворожил к себе. Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братиею), – он рассказал мне потому, что я его со вниманием, или, лучше сказать, с участием, слушал.
– Отца, – говорил он, – я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялася, наконец, у еврея в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у еврея, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла. А умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан, или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить тоже, а только поманила к себе рукою, и, когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатились из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.
Сотский похоронил ее за тот рубль, что остался у еврея, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего вожака.
И, знаете, мне понравилось мое новое положение, потому что я имел хотя какой-нибудь, а все-таки приют, А еще больше мне нравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:
На мopi синьому, на каменi бiлому
Ясний сокiл квилить-проквиляе… {136}
Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и словах этой унылой песни.
Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и обступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут] господа – и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилася перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила:
«Какой хорошенький! – и, обратяся к господам, сказала: – Я его непременно возьму к себе в пажи».
Так и сталося. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю почему-то, оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть – сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, – прибавил он и замолчал.
– Грустная, правду сказать, история.
– Что делать? Прошедшее мое действительно грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.
– Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.
– Не знаю, найдет ли мое письмо Михаила Ивановича в Петербурге?
– О, наверное, он никуда не уехал: это было бы известно.
– Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?
– Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михаилом Ивановичем {137}. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня были бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего письма Михайлу Ивановичу вы непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес.
И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем.
– Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях.
В хате Антона Адамовича светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так усердно храпел, что за хатою было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.
На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуки, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают.
– А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети – и те даже заплакали, услыхавши о таком вашем неделикатном поступке.
От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею.
– И не думайте, – говорила она, – и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях! Этого не токмо что у нас, – я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович, ты ведь немец, а?
– Такой я немец, как ты немкиня, – проговорил Антон Адамович и засмеялся.
– Вот и Тарас Федорович останется у нас, – продолжала Марьяна Акимовна. – Ему теперь после бала совершенно там делать нечего. А Адольфина Францевна обещает нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцевать хоть целый день Гречаныки.
– И Метелыцю, мамаша, – проговорили разом обе девочки.
Противостоять не было возможности, и я сдался. Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.
– Уж хоть бы вы молчали, а то разносились со своим попечителем, право, ей-богу, а еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговоришься.
Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.
Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалось мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, а на первом плане – Наташу и Лизу, танцующих Гречаныки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной, а, глядя на этот эскиз, я как будто снова любуюся этой живой картиной и даже слышу скрипку и прищелкиванье пальцами немецкой горничной.
Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенные карандашом несколько линий. По крайней мере на меня это так действует.
На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом. Даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село до самой клуни. Тут мы уселись в спокойную нетычанкуАнтона Адамовича, запряженную парою добрых коней, и покатилися по гладкой извилистой дорожке.
Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамовичу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатилася быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина – и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.
Мне стало грустно, так грустно, как будто я расставался со своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и сталось.
Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показалися нам Прилуки, а несколько ближе, из-за темного леса, выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря.
Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще неоштукатуренная четырехугольная башня {138}с плоской крышей, точно каланча.
– Что это такое за урод торчит? – спросил я у своего приятеля.
– Это колокольня вновь отделанной домашней настоятельской церкви, что над малыми воротами.
– И, верно, какой-нибудь досужий костромской мужичок смастерил этакую штуку?
– Нет, извините, не мужичок, а настоящий патентованный художник {139}!
– Как же он мастерски подделался под византийский стиль!
– Не извольте смеяться над нашим художником. Его торопят и денег не дают. А вот когда поедете из Прилук в Нежин, так увидите в селе помещицы N. настоящий храм царя Соломона, этим художником сооруженный. Уже на что наш просвещенный знаток и покровитель искусств, можно сказать, меценат наших дней, N., и тот посмотрел да только рот разинул, а про преосвященного и говорить нечего.
– Честь и слава вашему художнику!
Тем временем мы въехали в город, а через час я уже прощался с почтеннейшим педагогом, прося его для пользы науки записывать все, что касается археологии и вообще народного характера, как то: пословицы, при сказки, песни, предания и тому подобное. А наипаче просил я его по временам извещать меня о наших добрых друзьях на ферме. Он обещался мне все исполнить по мере сил своих.
И мы расстались, и расстались надолго.
Расставаяся с моим путеводителем, не думал я тогда, что я с ним на долго-долго расстаюся. Я тогда думал, что авось-либо в будущем году поеду снова по Малороссии по поручению Киевской археографической комиссии, буду в Чернигове, а из Чернигова поеду через Нежин в Прилуки и по дороге посмотрю хваленый храм, воздвигнутый коштом помещицы N. и трудами патентованного художника, архитектора N., а в Прилуках погощу денек-другой у моего Виргилия, и, если можно будет, навестим попрежнему достойнейшего Антона Адамовича и Марьяну Акимовну и полюбуемся их прекраснейшею фермою.
Так я тогда думал, а вышло, что человек распределяет, а бог определяет. Вышло то, что я в продолжение двадцати лет (со дня выезда моего из Прилук) не только что не видел Киева, Чернигова, Нежина, Прилук, и моего автомедона {140}, и фермы, и всего, что я там видел прекрасного, я в продолжение двадцати лет не видел, не видел моей милой родины, ни даже звука родного не слыхал.
Вот что иногда судьба с нами делает!
После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям {141}возвращаюсь я в Малороссию, и, проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенький домик ка углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. Вылез я из телеги, вхожу на дворик. Меня встречают два мальчугана; я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С {142}.
– Здесь, – отвечают оба разом мальчуганы.
– Дома он?
– Нет! они в училище.
– А есть ли у вас дома кто-нибудь постарше вас?
– Есть маты дома, только они опочивают; мы ее разбудим.
– Не нужно, не будите. Я после зайду.
И я поехал на почтовую станцию.
День был прекрасный и уже клонился к вечеру, и я, сложивши вещи свои, то есть чемодан и котомку, на крылечке станционного дома, а подорожную отдавая смотрителю, просил его не торопиться с лошадьми.
Учредивши все таким образом, я уселся на своей мизерии, то есть на чемодане, и принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником прилуцким Игнатом Галаганом, тем самым, что первый отложился от Мазепы и передался царю Петру, за что и был, по смерти полковника Носа, возведен в звание прилуцкого полковника и одарен великими маетностями в том же полку. Пока я рисовал сей памятник знаменитого полковника, солнце повисло над горизонтом, и толпа школьников показалась на улице, а за толпою школьников, в некотором отдалении, появилась на улице и тощенькая, согбенная фигурка, с зонтиком вместо палки в руке. Это был мой Виргилий, и я почти побежал к нему навстречу.
Долго мы стояли среди улицы друг против друга, и, наконец, после подробных припоминаний, он протянул мне руку и сказал:
– Антикварий! антикварий! Так это вы? А я было уже вас совсем похоронил. Да как же вы переменились! Совсем было не узнал!
– Спасибо еще, что хоть вспомнили.
– Да я вас всегда вспоминал, только по наружности не узнал. Прошу же вас покорнейше навестить меня в моей убогой келий.
И мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого мне домика.
У ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю вросшая скамейка. И мы молча посмотрели на нее и сели.
– Да, так вот вы и попутешествовали, – проговорил он грустно, – и свет божий посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали? А я, как залез в этот темный [угол], так и на свет божий не-показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.
И долго мы беседовали, вспоминая каждый из нас свое прошедшее. И между прочим, он мне рассказал, что он вскоре после нашего расставания женился на благородной и прекрасно воспитанной, хотя бедной девушке: «И думал я с нею век свой прожить в счастии и любви, но бог судил мне в одиночестве век свой коротать» – и старик заплакал.
– Братец! – раздался женский голос из-за ворот, – идите в комнаты, пора вечерять, дети спать хотят.
– Накормите их, сестрица, и уложите, а мы еще немного здесь посидим. Сестрица, – прибавил он, – с нами гость сегодня вечеряет, то вы бы там что-нибудь лишнее, хоть карасика поджарили, да послали б Феклу, знаете, насчет того, сестрица.
– Пошлю, братец.
– Да… На третьем году, – продолжал он с расстановкой, – нашего блаженства она оставила меня навеки. Правда, я не совсем еще сирота: она оставила мне малое дитя свое, для которого, можно сказать, и прозябаю я.
В тот самый год у сестры моей муж скончался скоропостижно и оставил ее тоже с маленьким сиротою. Вот мы с нею и сошлись в один куток, да и делим свое горе, как нам бог помогает. Детей, я думаю, с божиею помощию в гимназию… а там…
– Братец, – раздался снова женский голос из-за ворот, – идите в комнаты. На дворе роса и холодно, а вы только во фраке.
– Сейчас! сейчас, сестрица! Пойдем в нашу хату, а то и в самом деле, как бы нам с вами не простудиться. Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. Пойдемте.
И мы оставили скамейку и молча вошли в комнату.
Комнатка, в которой я двадцать лет тому назад провел несколько дней на холостую ногу, – комнатка была та же, да не та. Бедность та же, да только бедность эта была умытая и принаряженная женскою рукою. На чистеньком полу чистенькие половики, у окон беленькие занавески, на окнах бальзамины и герань в горшках. Стол, дощатый диван, табуретки липовые те же самые, да как-то иначе смотрели. Что значит женская рука в домашнем быту даже аккуратного мужчины!
В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза, как у военных. Например, зайдите вы в комнату холостого офицера: изба избой, так и несет от нее псиной и табачищем. А у женатого офицера тоже изба, да только в этой избе сундук, на котором у холостого денщик спит с собакою, – у женатого он покрыт ковриком и заменяет диван. На дощатом столике, вместо табачницы и гвоздя для ковыряния трубок, пестренькая ярославская салфеточка, зеркальце и какое-нибудь женское рукоделье. Словом, в семейной жизни, даже в бедности, есть какая-то свежая материальная прелесть, а о нравственной прелести я и не говорю.
Из другой комнаты вышла к нам старушка в черном платье и в белейшем чепчике, такая милая, чистенькая старушка, какую я редко встречал на своем веку.
– Рекомендую вам: моя сестрица, Марья Максимовна.
Я поклонился.
– А они, сестрица, мой старый добрый знакомый N. N.
Я снова поклонился, а она проговорила:
– Прошу садиться.
Я сел. А Иван Максимович заглянул в другую комнату и, обращаясь ко мне, сказал:
– Какая у меня добрая, умная, догадливая сестрица. Представьте, мне и в голову не пришло, чтобы предложить вам с дороги чаю, а ведь это как приятно. Я просто живу у нее, как у бога за дверьми. Ну, попотчуйте ж нас, моя дорогая, моя бесценная хозяйка. А дети спать уже легли, сестрица?
– Уже легли, братец, – отвечала старушка, ставя на стол чашки с чаем.
– Ну, хорошо, я вам завтра их покажу. А по которому уже годочку им пошло теперь, сестрица? Они у. нас, знаете, однолетки, – прибавил он, обращаясь ко мне.
– Да вот на Петра и Павла минет по двенадцатому.
– Уже по двенадцатому! Боже мой, с какою быстротою летят наши старые лета! – проговорил он как бы с самим собою.
– Двенадцать! Двенадцать! Да!.. – почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. – Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете, от кого?
– Не знаю, – отвечал я.
– От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?
– Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить о нем у вас.
– Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу, да как прочитал Марлинского, так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрица! потрудитесь там, вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.
Старушка не замедлила внести порядочную папку бумаг, сахарною веревочкой перевязанную, и, отдавая их брату, спросила:
– Эти, братец, бумаги?
– Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, – сказал он, обращаясь ко мне, – вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.
И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать и, остановясь на лоскутке синей бумаги, сказал:
– А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа, помните?
– Помню, – я говорю.
– Вот я и исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете… Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было. – И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:
– А знаете что? Сегодня у нас середа, погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие, помните, как когда-то, только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лична увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.
Я согласился и после долгих упрашиваний со стороны брата и сестрицы остаться ночевать у них взял письмо и отправился на почтовую станцию.
Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича, – впечатление невыразимое, впечатление, которое только тот поймет, кому случалося читать подобное письмо.
Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.
Вот что писал мне мой бесталанный друг:
«Я был близок к смерти, или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею {143}. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталося без всяких последствий. О! как горько! как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!
Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю какой бы ни было результат моего письма к Михаилу Ивановичу, и вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.
После бала, или, лучше сказать, после того концерта, где вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого я вас так полюбил, как родного моего брата, – так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке; она его расцарапала, из прыщика сделался веред, а из вереда к августу месяцу сделалася рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Вообразите себе ее положение: красавица – и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было; красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетховен, когда оглох, и не страдал так великий ваш Буонаротти, когда ослеп, как она, бедная, страдала.
В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал и, не доезжая Великих Лук, на станции Сыруты умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена!
По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов, лакейская же моя обязанность была невелика: уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.
О, лучше бы я никогда не видал света божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него!
После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел – сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне.
Меня стали посещать по середам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.
И во едину от суббот сказали мне, что наша Софья Самойловна скончалася под ножом какого-то знаменитого хирурга, и мы остались сиротами.
Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох {144}проходя мимо моей койки и не останавливался. Весною, однакож, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору, а в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.








